 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Азимов Айзек :: Толстой Лев Николаевич :: Сименон Жорж :: Чехов Антон Павлович :: Раззаков Федор :: Лондон Джек :: Горький Максим :: Чапек Карел Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: Справочник по реестру Windows XP :: Колдун :: Чо-Ойю – Милость богов :: The Boarding House :: Рыжая звезда :: Дорога никуда :: Человек со Шрамом :: Галоши счастья :: White Fang |
Узники БастилииModernLib.Net / История / Цветков Сергей Эдуардович / Узники Бастилии - Чтение (Весь текст)
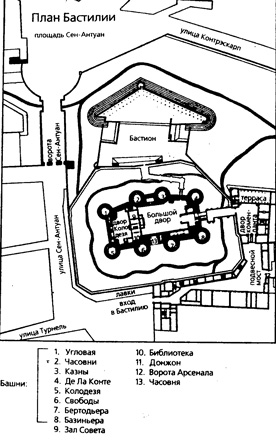 Сергей Цветков Узники Бастилии Глава первая Бастилия в средние века Строительство Бастилии Шел тридцать второй год войны, которая позже получила название Столетней (1337—1453). Франция, потерявшая цвет рыцарства в битвах при Креси и Пуатье, разоренная набегами англичан и наваррцев, была вынуждена уступить королю Англии Эдуарду III половину своей территории. В 1369 году подходил к концу срок девятилетнего перемирия между обеими странами. Париж, уже подвергавшийся осаде со стороны англичан, готовился к новым нападениям. Для защиты города возводился ряд новых укреплений. Король Карл V (1364—1380) приказал прево города Парижа[1] Гюгу Обрио пристроить к двум бастилиям ворот Святого Антония шесть других, соединенных друг с другом толстыми стенами. «Бастилиями» (или «бастидами») в средние века назывались деревянные или каменные башни и форты, возводимые при осадах городов. Осаждавшие под прикрытием подвижных бастилий стремились подойти ближе к городским стенам, a осажденные использовали бастилии для усиления городских укреплений. Средневековый хронист Фруассар сообщает также, что «бастиды возводились на поляк и на дорогах», видимо, для закрепления господствующего положения армии на местности. Бастилия Святого Антония должна была стать средоточием укреплений восточной части города, их несокрушимой твердыней. Крепость возводилась в виде параллелограмма, длиной около 70 метров и шириной около 30; ее восемь полукруглых пятиэтажных башен соединялись стенами, на которых стояли пушки. Толщина башенных стен превышала три метра. Первоначальные названия некоторых башен Бастилии неизвестны. В XVII веке они именовались: «Угловая башня», «башня Часовни», «башня Колодезя», «башни Бертодьера и Базиньера» (по именам двух арестованных), «башня Казны», «башня де ла Конте» (происхождение этого названия не выяснено) и «башня Свободы» (это название, быть может, связано с удачным побегом какого-нибудь узника). Феодальные крепости и замки обыкновенно являлись и тюрьмами. Внутреннее устройство Бастилии вполне отвечало этому назначению. Места заключения были устроены в ее башнях и под ними. Верхние тюрьмы представляли собой довольно просторные комнаты с небольшими окнами, в которых были вмурованные железные решетки. Условия содержания в них были весьма сносные и не шли ни в какое сравнение с нижними тюрьмами, находившимися на глубине шести метров под уровнем двора – свет и воздух едва проникали туда, сырые стены никогда не просыхали. Парижане называли их cachots [2]. Всего, при условии размещения по одному заключенному в каждой камере, Бастилия могла вместить сорок два узника. В Бастилию вели только одни ворота, которые, по словам французского историка Oгe де Лассю, «в то же время были двойными, а именно в воротах для проезжающих, защищенных подъемным мостом, была устроена маленькая калитка для пешеходов; через эту последнюю также можно было попасть не иначе, как предварительно опустив маленький подъемный мост». Крепость окружали рвы, которые наполнялись водой Сены. Всесильный Гюг Обрио не жалел сил и средств на строительство крепости-тюрьмы, в которую он надеялся в скором будущем отправлять своих врагов и недовольных. Однако довести дело до конца ему не удалось. Случилось так, что первым узником Бастилии стал он сам. Первый узник В 1380 году умер Карл V. С его смертью к бедствиям Столетней войны добавились ужасы внутренней междоусобицы. Наследник престола Карл VI еще не достиг совершеннолетия. Королевство оказалось в руках соперничавших домов: герцогов Анжуйского, Беррийского, Бургундского, а также тридцати шести принцев крови. Началась одна из самых печальных эпох в истории Франции. Малолетний король был игрушкой в руках враждующих принцев; феодалы бесчинствовали, составляли заговоры, воевали со вчерашними союзниками и мирились с заклятыми врагами, преследуя только личную выгоду; народ, уже безучастный к судьбе страны, безропотно давал себя поработить то англичанам, то бургундцам, то арманьякам[3]. Во время этих раздоров Гюг Обрио держал сторону регента, герцога Анжуйского. Прево Парижа умело использовал поддержку герцога для усиления своей власти в городе. Смелый, алчный, безжалостный Обрио, ловко скрывавший развратный нрав под маской ханжества, имел все качества, нужные в то время для того, чтобы стать одним из министров, быть может, даже первым министром, но его честолюбие не простиралось так далеко – он вполне довольствовался своей парижской вотчиной. Врагам Обрио никак не удавалось очернить его в глазах герцога Анжуйского. Но с недавних пор было замечено, что прево чересчур усердно добивается от него дарования некоторых привилегий евреям парижского гетто. Враги Обрио – в основном это были фавориты регента – уверяли герцога Анжуйского, что евреи дают Обрио взятки за его ходатайство и что сумма, за которую евреи выкупают привилегии, могла бы быть гораздо больше. Герцог, слушая это, хмурился, но продолжал исполнять все просьбы прево. Он даже выдал Обрио, по его просьбе, чистый охранный лист, куда прево мог по своему усмотрению вписать любое имя. Парижский университет также издавна враждовал с Обрио. Что ни день, прево докладывали о новых буйных выходках студентов и о сопротивлении, которое они оказывали городским стражникам. В трактирах и на улицах студенты горой стояли друг за друга и нередко пускали в ход ножи, чтобы освободить товарища, попавшегося в руки стражей порядка. Арестовать же буяна в стенах университета Обрио не мог, так как свободы, дарованные королем университету, воспрещали вход туда представителям закона и обеспечивали полную безопасность провинившемуся. Особую ненависть Обрио испытывал к Этьену Гидомару, красавцу студенту, уважаемому товарищами за отчаянную храбрость, доказанную в многочисленных похождениях. Отношения Обрио и Гидомара приобрели характер затянувшегося поединка. Прево считал студента своим личным недругом и мечтал засадить его в Бастилию, но Гидомар действовал осторожно, не позволяя открыто уличить себя в серьезном проступке. Их дуэль завершилась внезапно и совсем не так, как ожидал прево. В 1381 году между университетом и Обрио вспыхнула новая ссора, касавшаяся подати, уплачиваемой университетом Папе. Это время в истории Католической Церкви известно под названием Великого раскола. Последний авиньонский Папа[4] Григорий XI умер в 1378 году. Выборы нового Папы после 75-летнего перерыва состоялись в Риме. На папский престол был избран итальянец Урбан VI (1378—1389). Его претензии возродить былое значение папства вызвали недовольство как французского короля, Карла V, так и кардинальской коллегии в Риме, привыкшей за долгие годы отсутствия пап управлять делами Церкви по своему усмотрению. При поддержке Карла V часть кардинальской коллегий собралась в городке Фокли и избрала другого Папу, француза Климента VII (1378—1394). Духовная и, главное, светская власть Урбана VI была призрачна: в самом Риме против него выступали знатные семейства города. А к Клименту VII в Авиньон поступали доходы от церквей Франции, Кастилии, Арагона, Неаполя и Шотландии. Однако Парижский университет, пользуясь своим авторитетом в богословских и церковных вопросах, не признавал законность избрания Климента VII и продолжал выплачивать церковную подать Урбану VI. Обрио, желавший досадить университету и услужить герцогу Анжуйскому, добился того, что университет обязали уплатить еще один церковный сбор – в пользу Климента VII. Среди студентов и профессоров вспыхнуло возмущение. Тогда городские власти арестовали известного профессора теологии Жана Ронсе, яростно критиковавшего новое постановление. Университет ответил тем, что прекратил занятия впредь до освобождения Ронсе и отмены противоправного указа. Герцог Анжуйский был вынужден назначить суд для рассмотрения требований университета. На заседании этого суда студенты и нанесли ненавистному прево смертельный удар. Гидомар обвинил Обрио в развратной жизни, оскорбляющей нравы, а именно в том, что прево сожительствовал с еврейкой[5] и по ее наущению оскорблял христианскую религию, богохульствуя, ругаясь над иконами и т. д. Девушка из парижского гетто, которую подозревали в сожительстве с Обрио, подтвердила обвинения. Охранная грамота не помогла прево. Духовный трибунал признал Гюга Обрио виновным в нечестии, ереси и разврате. На эшафоте, воздвигнутом на площади Собора Парижской Богоматери, Обрио встал на колени перед епископом Парижским и ректором университета, каясь в своих грехах и прося о помиловании. Ввиду прошлых заслуг перед городом ему была сохранена жизнь. 1 мая того же года он был заключен в Бастилию. Вскоре горожане, возмущенные новыми поборами, введенными герцогом Анжуйским, восстали и захватили Париж; Бастилия также оказалась в руках восставших. Регент покинул Париж и увез молодого короля вместе с двором в Руан. Восставшие возвратили Обрио свободу и даже предложили ему как человеку энергичному и опытному стать их вожаком. Но он не решился прибавить к прежним обвинениям против него еще и участие в мятеже. Ночью бывший прево переоделся и бежал из Парижа. Он пробрался на родину, в Бургундию, где и умер, всеми забытый. Строительство Бастилии было завершено без него, в 1383 году. Козлиный балет Достижение Карлом VI совершеннолетия и его последующее долгое царствование не принесло Франции облегчения. Безумие рано омрачило королевский рассудок, и власть по-прежнему оставалась в руках его дядей, герцогов Беррийского и Бургундского, и зятя, герцога Орлеанского, почти открыто сожительствовавшего с королевой Изабеллой. Король не был способен наказать непокорных сеньоров. В 1392 году он выступил в поход против Монфорта, герцога Бретонского, укрывавшего у себя сеньора Пьера де Краона, виновного в покушении на убийство коннетабля[6] Франции. Недалеко от Монса какой-то старик, с виду сумасшедший, остановил лошадь Карла: – Король, не ходи дальше, за тобой по пятам идет измена! Слова старика так поразили Карла, что он впал в бешенство и, выхватив меч, кинулся на свою свиту с криком: – А, вы хотите выдать меня моим врагам, изменники! Свита обратилась в бегство, но король догнал и зарубил четырех человек. Только сломав о чьи-то доспехи свой меч, Карл позволил снять себя с лошади и уложить в экипаж. Война на том и закончилась, королевское войско повернуло назад. Кто был этот загадочный старик, осталось невыясненным; ходили слухи, что сцена была подстроена дядями короля, не желавшими этой войны. Старания знаменитого лекаря Гарсели спасли короля от окончательного умопомрачения – временами рассудок возвращался к нему. В одну из таких минут Карл пожелал торжественно справить свадьбу своего любимца, молодого шевалье Вермандуа, с одной богатой вдовой из свиты королевы. На пути к осуществлению королевского желания встретилось существенное препятствие – казна была пуста, принцы давно не оставили в ней ни гроша. Это не остановило короля: Карлу и его детям не раз случалось голодать, в то время как его дядюшки, изнурившие народ поборами, роскошествовали. У него оказались незаложенными кое-какие драгоценности; продав их за девять тысяч ливров, он собрал необходимую для торжества сумму. В ночь на 29 января 1393 года в королевском дворце Сен-Поль собралась огромная толпа приглашенных. В числе гостей были герцоги Беррийский, Бургундский, Орлеанский, Бурбонский, знатнейшие фамилии королевства и высший клир. Наиболее многочисленные кружки образовались вокруг министра финансов Монтагю, могущественного фаворита герцога Орлеанского, и дворецкого, кавалера Гюга де Кизе. Последний был известен как наиболее щепетильный рыцарь Франции: в понятие «человек» он включал только лиц дворянского звания. Со своими слугами де Кизе обращался как с домашним скотом – заставлял их лаять, служить подставкой для ног вместо скамеечки и хлестал плетью за каждую провинность. Веселье продолжалось всю ночь. Музыканты и певцы услаждали слух гостей веселыми мелодиями, слуги меняли на столах одно блюдо за другим, не забывая и о винах. Под утро кавалеры и дамы, не совсем твердо держась на ногах, направились в главную залу дворца, где был сооружен помост, вроде сцены. Здесь ожидался венец всего праздника – козлиный балет. Самый грубый цинизм был наиболее примечательной чертой этого зрелища, но именно в нем и заключалась его главная прелесть для благородных сеньоров. Тонкий вкус и хорошие манеры еще не нашли себе пристанища во Франции, триста лет отделяли парижский двор от того времени, когда он стал законодателем европейской моды. Столпившись вокруг помоста, гости обсуждали тайну, волновавшую всех, – имена актеров, которые должны были участвовать в представлении. Ходили упорные слухи, что под масками скроются весьма значительные персоны. В залу вошла шумная процессия с музыкой – это привели молодую. Ее усадили в высокое кресло рядом с женихом. Минуту спустя она подала знак к началу балета. Слуги потушили свечи, и зала погрузилась в полную темноту. Внезапно раздалась оглушающая музыка, похожая на кошачье мяуканье. Дюжина слуг с зажженными факелами вошла в залу и окружила помост, ярко осветив его. Вслед за тем раздались дикие крики и неистовые завывания, и на сцену откуда-то выскочили пять человек, наряженных козлами. Зрители встретили их подбадривающими воплями и рукоплесканиями, вполне оценив костюмы актеров: громадные козлиные головы с рогами и бородами и одежды, пропитанные смолой и вывалянные в козлиной шерсти. Началась непристойная пантомима. Актеры скакали на двух ногах и ползали на четвереньках, валялись, бодались и принимали самые грязные позы, подражая животным, которых они изображали. Около четверти часа они подобным образом увеселяли зрителей, помиравших со смеху. Самые бесстыдные сцены вызывали у них наибольший восторг. Наконец один из актеров, умаявшись, повалился на пол. Остальные тоже попадали вокруг него, все еще блея и тяжело фыркая. Зрители вернулись к обсуждению возможных имен актеров. Герцог Орлеанский обратился к стоявшим рядом с ним дворянам: – Желал бы я знать, кто такие эти господа, так хорошо повеселившие нас. Уверен, что вблизи я узнаю их. С этими словами он взял факел у одного из слуг и, поднявшись на помост, стал вглядываться в лежащих людей. Он так силился узнать кого-нибудь из них, что по неосторожности (так он уверял впоследствии) поднес факел слишком близко к одежде одного из актеров. Огонь мгновенно охватил всего человека. Герцог в ужасе вскрикнул и от испуга бросил факел между актерами. Все пятеро запылали наподобие сухой поленницы. Удушливый, едкий дым стал расползаться по зале. Истошные крики актеров привели в смятение толпу. Никто и не думал помочь им, люди давились, пробираясь к выходу. Факельщики бросили свои факелы и также разбежались. Актеры продолжали кучей валяться на сцене – во время отдыха они зацепились друг за друга застежками своих костюмов и теперь не могли расцепиться. Когда наконец им удалось расползтись, двое из них так и упали на помосте, двое других скатились вниз; и лишь пятый, пострадавший менее своих товарищей, с трудом поднялся на ноги. Этот живой факел, жалобно вопя и простирая руки к герцогу Орлеанскому и герцогу Беррийскому, сделал несколько шагов и свалился к их ногам. Ремешок, поддерживающий козлиную маску на его голове, сорвался. – Король! – в ужасе воскликнул герцог Беррийский. – Король! – эхом пронеслось в толпе[7]. Какая-то молодая женщина бросилась на распростертое тело Карла, стараясь руками и платьем сбить пламя. Ее поступок привел в чувство остальных, короля закутали в плащи и вынесли наружу. По счастью, ожоги, которые получил Карл, не были опасны. Но спасти остальных актеров не удалось. Граф Жуаньи умер раньше, чем его передали врачам, граф де Фоа и граф де Пуатье скончались через два дня. Гюг де Кизе умер на руках у слуги, которому накануне он исцарапал бока ударами шпор; этот незлобивый слуга был единственным человеком, пожалевшим о его смерти. Жена и сын де Кизе с отвращением вышли из комнаты, где корчилась обугленная и богохульствующая плоть того, кто был их мужем и отцом. Двор чествовал спасительницу короля – Жанну, жену герцога Беррийского, урожденную принцессу Булонскую. На следующий день дяди короля и герцог Орлеанский шли в Покаянной процессии от Монмартрских ворот до собора Парижской Богоматери. Они проделали весь путь босиком и отстояли обедню. Герцог Орлеанский обязался в честь спасения короля выстроить великолепную очистительную капеллу при церкви Святого Селестина. Все были уверены: он заранее знал о том, что король находился среди актеров. Дофину не было еще двух лет, королева была его любовницей – таким образом у герцога Орлеанского были все основания, чтобы пойти на преступление. Летописец-современник, монах из Сен-Дени, прямо говорит, что на благочестивый поступок герцога – постройку очистительной капеллы – следует смотреть как на памятник его преступлению. К тому же это пожертвование не стоило ему ни гроша: для ее постройки он подарил Селестинской церкви дом Порш-Фонтен, конфискованный у Пьера деКраона. Эти подозрения привели к тому, что при дворе на время восторжествовала бургундская партия. Открыто обвинить самого герцога Орлеанского в покушении на жизнь короля никто не решился, и опале подверглись его фавориты и ставленники: Ларивьер, де Виллен, Новиан и Монтагю. Де Виллен и Монтагю предусмотрительно покинули Францию. Ларивьер и Новиан были брошены в Бастилию. Они просили, чтобы им было дозволено явиться перед судом и публично оправдаться. Судьи колебались, боясь вызвать гнев герцога Беррийского: у них не было ни достаточных улик для обвинения Ларивьера и Новиана, ни мужества для их оправдания. В Париже царила уверенность, что обвиняемых все-таки казнят. Несколько раз по городу даже распространялся слух о дне и часе казни, и толпа стекалась к месту, где якобы должен был возводиться эшафот. Ларивьер и Новиан успешно защищались, пользуясь поддержкой герцога Бурбонского. Но самой энергичной их заступницей стала Жанна Беррийская (Ларивьер способствовал ее браку с герцогом и пользовался ее уважением). Она у ног мужа просила за них и сумела смягчить их участь. Через год, после вмешательства короля, узников освободили. Так в этот раз у Бастилии были отобраны ее жертвы. Впрочем, подобные случаи в ее истории чрезвычайно редки. Нововведения Людовика XI Конец царствования Карла VI Безумного был ознаменован полным крахом в войне с Англией. В 1420 году войска английского короля Генриха V (1387—1422) захватили Бастилию и в течение шестнадцати лет хозяйничали в Париже. Франции угрожала потеря национальной независимости. После смерти Карла VI (1422) французскую корону возложили на себя сразу два короля: Генрих VI (1421—1471) в Париже и Карл VII (1422—1461) в Берри. Только в 1436 году, через пять лет после смерти Жанны д'Арк, Карл VII смог въехать в свою столицу. Именно то, что англичане владели Бастилией, этим ключевым укреплением города, позволило им так долго удерживать Париж в своих руках. Завершив изгнание англичан из Франции, Карл VII повел борьбу с непокорными вассалами. Победа и здесь сопутствовала ему, несмотря на то, что главой заговоров против короля был дофин Людовик. В конце концов наследник вынужден был бежать к герцогу Бургундскому, у которого и оставался шесть лет, до самой смерти Карла VII. Правление Людовика XI (1461—1483) по его жестокости можно было бы сравнить с царствованием Ивана Грозного, с той лишь разницей, что царь рубил головы людям, которые и не думали бунтовать, а французский король отправлял на плаху вассалов, рвавших на части тело Франции. Уже через четыре года после вступления Людовика XI на престол пятьсот принцев и сеньоров образовали против него союз под именем Лиги общественного блага, – мятежники объявили, что действуют из сострадания к бедствиям страны. Глава Лиги граф де Шаролэ, известный впоследствии как Карл Смелый, герцог Бургундский, а также могущественные сеньоры – герцог Бретонский, коннетабль де Сен-Поль, граф д'Арманьяк и брат короля герцог Гиеньский – разбойничали по всей Франции, разоряя ее дотла. Это была охота на короля, охота феодальная, яростная и дикая. «Я так люблю королевство, – говорил Карл Смелый, – что вместо одного короля хотел бы иметь шестерых». Герцог Гиеньский вторил ему: «Мы пустим за королем столько борзых, что он не будет знать, куда бежать». В этой неравной борьбе с всесильными вассалами Людовик XI не брезговал никакими средствами. Величие его цели – единство страны – отчасти оправдывает его коварство. В ту эпоху родина так неоспоримо олицетворялась фигурой короля, их интересы были так переплетены, а будущее настолько взаимосвязано, что порой становится трудно отделить в Людовике ХI скверного человека от искусного монарха. На его стороне были если не нравственная правота, то государственное право. Сражаясь против целой армии изменников, он становился предателем предателей и клятвопреступником среди клятвопреступников, однако его измены были еще хуже, а вероломство еще чернее, чем у его врагов. Эта лисица, делавшая львиное дело, убегала от нацеленных в нее стрел, заметая следы и путая дороги, множа на своем пути западни и лабиринты; и из года в год то один, то другой охотник попадали в капкан или были вышиблены из седла. В конце концов охотники и дичь поменялись ролями. Гробница Людовика XI кажется эмблемой его царствования: он захотел быть изваянным на своей могиле в охотничьем костюме, с копьем у пояса и с гончей у ног. Что касается жестокости Людовика XI, то она была если не большей, чем жестокость других государей того времени, то уж во всяком случае гораздо отвратительней. Он не проливал человеческую кровь потоками в порыве гнева или безумной ярости, но выпускал ее холодно, капля за каплей. Адская насмешливость была характерной чертой его жестокости. Он играл отрубленными им головами. В одном из писем он рассказывает, зубоскаля, как велел обезглавить изменившего ему парламентского советника, адвоката Ударта де Бюсси. «А для того, чтобы его голову можно было сразу узнать, – пишет король, – я велел нарядить ее в меховой колпак, и она находится сейчас на Хесденском рынке, где он председательствует». В другом письме, торопясь отправить на тот свет неверного слугу, Людовик весело советует своему дворецкому скорее «сделать приготовления к свадьбе этого молодчика с виселицей». История, может быть, и простила бы ему или, по крайней мере, закрыла бы глаза на явные казни, тайные улавливания, деревья, увешанные висельниками, – на все эти акты монаршего правосудия, неизменные для всех царствований со времен фараонов; но со страниц хроник того времени против него вопиют голоса более громкие, чем тысячи жертв льежской резни. Как забыть, например, историю Жана Бона, которого Людовик XI сначала приговорил к смерти, а затем, по особой милости, удовлетворился тем, что выколол ему оба глаза. «Было донесено, – говорит современник, – что поименованный Жан Бон видит еще одним глазом. Вследствие чего Гино де Лазьяр, чрезвычайный судья при королевском дворе, по приказанию вышеупомянутого государя, отрядил комиссию из двух лучников, дабы, если он видит еще, сделать ему прокол глаза до полной слепоты». Король изобретал казни со злобной фантазией художника пыток. Бастилия при нем украсилась двумя нововведениями. Первым были железные клетки, где заключенный не мог ни встать, ни лечь. Епископ Верденский Вильгельм де Горакур провел в такой клетке, согнувшись в три погибели, десять лет. Король питал к этим клеткам особые чувства и ласково называл их своими доченьками (fillettes). Другим изобретением, отличавшимся еще более утонченной жестокостью, была так называемая комната ублиеток[8], находившаяся в башне Свободы. Сюда приводили особо ненавистных королю людей, чтобы заставить их в последний раз испытать весь ужас внезапного перехода от надежды к отчаянию. Комендант Бастилии встречал узника в «комнате последнего слова» (chambre du dernies mot). Это было обширное помещение, тускло освещенное лишь одной лампой, бросавшей слабые блики на кинжалы, шпаги, пики и огромные цепи, развешанные по стенам. Здесь заключенному устраивался последний допрос с целью узнать имена сообщников, если таковые не были названы им ранее. Затем комендант отводил жертву в другую комнату – очень светлую, прекрасно меблированную, благоухавшую цветами. Это и была комната ублиеток. Усадив узника в удобное кресло, комендант угощал его и обещал скорое освобождение. Как только несчастный начинал верить в близость свободы, пол под ним проваливался, и он падал в узкий колодец на колесо с укрепленными в нем острыми ножами. Невидимые руки приводили колесо в движение, постепенно превращая тело человека в груду окровавленного мяса. Счетная книга короля хранит мрачное изобилие кандалов и засовов, списками которых покрыты целые страницы; ими можно было оборудовать не одну, а несколько Бастилии. «Мастеру Лоренсу Волму, – читаем там, – за большие кандалы двойной закалки, большую цепь со звонком на конце, которые он сделал и сдал для заключения мессира Ланселота Бернского, – тридцать восемь ливров. За пару кандалов с толстыми цепями и гирями для закования двух военнопленных из Арраса, охраняемых Генрихом де ла Шамбром, – шесть ливров. За железо с закаленными кольцами, с длинною цепью и со звонком на конце и за наручники для других пленников – тридцать восемь ливров. За кандалы с наручниками, с поножнями, заклепывающиеся на шее и поперек тела для одного узника – шестнадцать ливров. Вышеупомянутому мастеру Лоренсу Волму – сумма в пятнадцать турских ливров и три су в возмещение расходов на постройку трех кузниц в Плесси-дю-Парк для выковки железной клетки, которую вышеупомянутый сеньор приказал там построить» – и так без конца. И тем не менее приходится согласиться, что Людовик XI сделал очень благое дело. Он питал подлинную страсть к собиранию государства, Франция обязана ему своими лучшими провинциями: Пикардией, Бургундией, Руссильоном, Провансом, Меном, Анжу, Дофине и другими-в общем счете четырнадцатью феодальными владениями, присоединенными к королевскому домену. «Я сражаюсь против всемирного паука!» – в отчаянии воскликнул однажды Карл Смелый, видя бессилие своей львиной доблести против интриг Людовика XI. Две нижеследующие истории дадут представление о том, какими средствами король побеждал своих противников. Коннетабль граф Сен-Поль Луи Люксембург, граф Сен-Поль, был одним из самых могущественных сеньоров королевства. В 1443 году он был возведен Людовиком, тогда еще дофином, в рыцарское звание, в 1465 году сделан коннетаблем; через год он женился на сестре королевы и тогда же был назначен главнокомандующим города Руана и генерал-лейтенантом Нормандии. В 1469 году он присоединился к Лиге общественного блага, став одним из ее предводителей. С этих пор Людовик XI терпеливо ждал случая уничтожить изменника. Однако должно было пройти десять лет, наполненных войнами и заговорами, прежде чем коннетабль оказался в Бастилии. Впервые верность Сен-Поля королю была испытана в 1457 году, когда умер Филипп, герцог Бургундский, оставивший сыну Карлу несметное по тем временам состояние – 400 тысяч золотых экю, 72 тысячи марок серебром и более чем на два миллиона экю движимого имущества. Сен-Поль тогда был послан Карлом VII к Карлу Смелому с целью уговорить его отказаться от намерения воевать с Льежем. Он вернулся ни с чем, напутствуемый прощальными словами герцога Бургундского: «Мой дорогой кузен, я считаю вас своим другом и на прощанье посоветую вам остерегаться короля, который может поступить с вами так же, как он поступил с другими сильными сеньорами. Если вам придет охота переселиться в наши края, то вы всегда будете моим желанным гостем». Через восемнадцать лет эти слова погубили Сен-Поля. С вступлением на престол Людовика XI Сен-Поль всеми силами раздувал вражду между ним и Карлом Смелым, и без того ненавидевшими друг друга. Вначале он держал сторону Карла (по настоянию которого, кстати, и получил должность коннетабля, после чего, по словам современника, дипломата и мемуариста Филиппа Коммина, уже «не выражал к нему почтения, как раньше, почему и любви между ними не было»); однако вскоре начал действовать против него в союзе с Людовиком XI. Пользуясь благоприятным случаем, он именем короля завладел городом Сен-Кантоном, принадлежавшим герцогу, и оставил его за собой. Разгневанный Карл конфисковал принадлежащие ему земли во Фландрии и Артуа; Сен-Поль в ответ захватил его земли во Франции. По мнению Коммина, коннетабль желал столкнуть короля с герцогом Бургундским по двум причинам. Во-первых, длительный мир значительно сокращал его доходы: во время войны король выплачивал Сен-Полю 30 тысяч франков на содержание 400 кавалеристов, не считая жалованья, полагавшегося ему как коннетаблю; Сен-Поль никогда не содержал полагавшегося числа всадников, а сэкономленную таким образом сумму клал в свой карман. Во-вторых, коннетабль отлично знал характер того, кому он служил. «Натура короля такова, – говорил Сен-Поль, – что если он не будет занят войной с внешними врагами или борьбой с сеньорами, то начнет ее со своими слугами – придворными и должностными людьми, поскольку душа его не выносит покоя». Коннетаблю долгое время удавалось вести свою игру, как вполне независимому сеньору. Его положение впервые пошатнулось в 1472 году, после смерти герцога Гиеньского, брата короля, послужившей поводом к войне между Людовиком XI и Карлом Смелым. Герцог Гиеньский умер вместе со своей любовницей, госпожой Монсоро, как говорили, от яда в персике, который был дан герцогу его духовником, аббатом Журденом Фором де Версуа и который влюбленные поделили между собой. Фаворит герцога Лескюн арестовал Версуа и конюха Генриха Делароша, подозреваемого в сообщничестве, а Карл издал манифест, в котором обвинял Людовика XI в отравительстве и братоубийстве (король наследовал Гиень после смерти герцога). Версуа в этом манифесте помимо прочего обвинялся и в колдовстве: герцог Гиеньский, по словам Карла, умер от яда, порчи и дьявольского наваждения. Такое обвинение по тем временам было обычным делом. Все были настолько убеждены в связях аббата с нечистым, что тюремщик Нантской башни, где содержался Версуа, заверял на суде, что каждую ночь в башне был слышен ужасный шум от общения монаха с духами. Аббат умер до вынесения приговора. Однажды ночью Нантская башня была поражена молнией; наутро Версуа нашли мертвым: его лицо было раздуто и черно, как уголь, язык высунут на всю длину. Конюх же исчез, и о нем больше никто ничего не слышал. Несмотря на то что процесс остался незавершенным, между Людовиком и Карлом вспыхнула война, неудачная для короля. Людовик отдал герцогу Бургундскому Гиень и земли коннетабля с тем условием, чтобы Карл помог схватить Сен-Поля. Коннетабль пошел на мировую и в 1474 году попросил у короля свидания, надеясь продемонстрировать ему свою силу. Встреча произошла на мосту между городами Ла Фер и Нуайон. Сен-Поль приехал первый, в сопровождении трехсот вооруженных рыцарей; под платьем у него была надета кираса. Не доверяя королю, он велел возвести на берегу укрепление – высокий барьер. Людовик выслал вперед Филиппа Коммина, чтобы извиниться за опоздание; коннетабль, в свою очередь, принес извинения за то, что приехал вооруженным, сославшись на опасности путешествия. Король увидел, что ведет разговор с равным, и почел за благо повременить с планами мести. Вассал и сюзерен условились забыть прошлое. Выполнять свои обещания никто из них, конечно, не собирался. «И если ненависть короля была и прежде достаточно велика, – пишет Коммин, – то теперь она стала еще сильней; самонадеянность же коннетабля ничуть не уменьшилась». Сен-Поль сразу после примирения повел двойную игру против Людовика и Карла, каждый из которых, в свою очередь, старался получить преимущество перед двумя другими противниками. Карл вступил в переговоры с английским королем Эдуардом IV (1461 – 1483), Людовик всеми силами стремился воспрепятствовать этому союзу, а коннетабль пытался рассорить Людовика с Эдуардом. Некоторое время Сен-Поль умело играл на противоречиях между своими врагами. Но, будучи достаточно сильным, чтобы противостоять каждому из них в отдельности, он неминуемо должен был пасть в случае их объединения, так как его владения находились как раз между королевским доменом и Бургундским герцогством. Людовик XI отлично понял это и виртуозно воспользовался первой же возможностью для создания союза против коннетабля. В 1475 году Сен-Поль отправил к королю своих приближенных – сеньора Луи де Сенвиля и секретаря Жана Рише. Целью их посольства было убедить Людовика XI в верности коннетабля и, в частности, в том, что Сен-Поль пытается отвратить герцога Бургундского от союза с Эдуардом IV. В день приезда посланцев коннетабля у короля случайно находился де Конте, дворецкий Карла, также прибывший для переговоров. Людовик тут же решил разыграть одну из своих милых комедий, которые обычно имели трагическую развязку. Он знал, что Сен-Поль насмехается над необузданным нравом Карла и что герцог никому не прощает насмешек над собой. Когда ему доложили, что послы коннетабля просят аудиенции, король спрятал Конте за большой старой ширмой, попросив его не удивляться тому, что он сейчас услышит, и в точности передать своему господину весь разговор. Вместе с Конте за ширмой спрятался также Филипп Коммин, описавший в мемуарах последовавшую затем сцену. Людовик остался в кабинете со своим секретарем дю Бушажем. Усевшись на скамеечку рядом с ширмой, король приказал ввести послов. Сославшись на якобы одолевшую его глухоту, он настоятельно просил их говорить как можно громче, не боясь показаться непочтительными. Когда Сенвиль рассказал о том, что коннетабль посылал его к герцогу Бургундскому с поручением отговорить от союза с Англией, Людовик перевел речь на некоторые смешные привычки герцога, Сенвиль обрадовался случаю позабавить короля и начал пародировать то, как герцог топает ногами и клянется, по своему обыкновению, святым Георгием; Карл, по его словам, «вылил на голову Эдуарда все ругательства, какие только существуют на свете». Людовик хохотал от всей души и просил его повторить свой рассказ. Сенвиль охотно повиновался. Вскоре Людовик сделал знак, что аудиенция окончена. Послы удалились. Конте был поражен поведением послов коннетабля, он говорил, что если бы не слышал всего собственными ушами, то счел бы лжецом любого человека, рассказавшего ему об этой сцене. Филипп Коммин пишет: «Король смеялся и был очень доволен. Де Конте проявлял нетерпение после того, как услышал, что эти люди насмехались над его господином, хотя и вели с ним переговоры, и не мог дождаться, чтобы сесть на лошадь и поехать рассказать обо всем герцогу Бургундскому». Король не противился его желанию, и Конте вскоре уехал, везя с собой инструкцию, написанную собственной рукой короля». Чуть позже Людовик заключил с английским королем перемирие, к которому, скрипя зубами, присоединился и герцог Бургундский. Противники помирились за счет общих друзей, и цервой жертвой этого союза пал коннетабль. Эдуард IV передал Людовику письма Сен-Поля, компрометирующие его сношениями с врагами сюзерена, а Людовик обещал Карлу, раздраженному рассказом Конте, передать в его владение Сен-Кантен, Гам и Боэн, принадлежавшие коннетаблю. Представителю Сен-Поля, присутствовавшему при заключении этого договора, Людовик сказал: «Мне очень не хватает такой головы, как голова вашего господина». Тот, кажется, не понял зловещей шутки. Сен-Поль был не из тех людей, которые сдаются без борьбы, но он оказался в положении генерала без армии. Вассалы покидали его, а нанятым за королевские деньги кавалеристам коннетабль не доверял. Сначала Сен-Поль хотел бежать в Германию с большой суммой денег, купить там крепость, и укрыться в ней, пока не удастся договориться с одной из сторон; потом – запереться с верными людьми в наследственном Амском замке; наконец, на свою беду, он вспомнил о давнем разговоре с Карлом и написал ему, прося выдать ему охранную грамоту для личной встречи, с помощью которой он надеялся вернуть дружбу герцога. Это письмо можно объяснить только каким-то странным помутнением рассудка Сен-Поля, положившегося на великодушие человека, чьими поступками всегда правила одна личная выгода. Карл Смелый выдал ему просимую охранную грамоту. С двумя десятками рыцарей Сен-Поль прибыл в Монс, где комендантом был лучший из его друзей, Антуан Ролэн, сеньор д'Эмери, которому коннетабль вполне доверял. Но д'Эмери уже получил тайный приказ герцога арестовать Сен-Поля. Коннетабля схватили и выдали представителям короля – герцогу Бурбону, адмиралу Франции, и Блоссе Сен-Пьеру, капитану гвардии дофина. (Через три часа после первого приказа герцога пришел другой: не выдавать Сен-Поля королю; но было уже поздно.) 27 ноября 1475 года Сен-Поль был доставлен в Бастилию. Его привезли тайно, ночью, опасаясь волнения горожан, среди которых коннетабль пользовался популярностью. Специально созданной комиссии вменялось в обязанность хранить коннетабля как зеницу ока. Комиссия поручила стеречь пленника Блоссе Сен-Пьеру, который должен был день и ночь безотлучно находиться в камере с Сен-Полем до вынесения ему приговора. Судебный процесс над Сен-Полем был пустой формальностью: он был осужден заранее. К сожалению, все документы, касающиеся этого дела, утеряны или уничтожены, кроме одного протокола допроса, где коннетабль обвиняет герцога Бургундского в намерении посягнуть на жизнь короля. Известно, что Сен-Поль держался во время допросов и суда очень твердо, не питая иллюзий относительно своей участи, поэтому упомянутое обвинение вряд ли можно считать измышлением ради собственного спасения. Людовик торопил судей. 19 декабря узнику зачитали приговор: за преступления против короля графа Сен-Поля казнить смертной казнью через отсечение головы; приговор привести в исполнение на площади перед ратушей. Сен-Поль выслушал его, не изменившись в лице. – Приговор слишком жесток, – сказал он, – но я не ропщу на Бога и прошу Его дать мне твердость вынести его бестрепетно, как подобает христианину и рыцарю. Королю было мало погубить тело Сен-Поля, он желал погубить и его душу: коннетаблю было позволено исповедаться и причаститься, но священник получил королевский приказ не отпускать ему грехи. В тот же день в два часа пополудни Сен-Поля повели в ратушу, где он продиктовал завещание. Сразу после этого процессия двинулась к месту казни. Когда он всходил на эшафот, произошла скандальная сцена. Сен-Поль взял с собой шестьдесят экю золотом, чтобы раздать нищим, но францисканский монах, сопровождавший его на эшафот, просил отдать эти деньги на содержание его монастыря. Присутствующий тут же августинский монах нашел, однако, что коннетабль поступит благочестивее, если пожертвует деньги монастырю августинцев. Спор едва не перерос в драку, и Сен-Поль презрительно кинул им кошелек, предоставив поделить его содержимое, как им заблагорассудится. Вместе с деньгами он отдал монахам и кольцо-талисман, предохранявшее от яда, но этот дар король забрал себе и с тех пор не расставался с ним. Обратясь лицом к собору Парижской Богоматери, коннетабль встал на колени и некоторое время молился, потом встал, хладнокровно поправил ногой отставшую доску перед плахой и дал завязать себе глаза. Палач сделал свое дело быстро; сполоснув голову Сен-Поля в сосуде с водой, он показал ее народу. Некоторые историки утверждают, что после отсечения головы с трупа коннетабля содрали кожу, а тело четвертовали и затем повесили. Приговор действительно предписывал сделать и это, но перед самой казнью Людовик смягчился: как-никак, Сен-Поль был зятем королевы, дядей Эдуарда IV и происходил из императорской фамилии. Король был так милостив, что даже разрешил похоронить тело Сен-Поля во францисканском монастыре в Париже. Незачем уточнять, кому достался кошелек коннетабля. Конец рода Д'Арманьяков Другой знаменитой жертвой Людовика XI был Жак д'Арманьяк, глава одного из древнейших родов Франции. Могущество партии арманьяков зародилось в период Столетней войны, когда они одно время даже владели Парижем; с тех пор представители рода графов д'Арманьяков неизменно были одними из влиятельнейших главарей оппозиции королевской власти. Людовик XI старался привлечь Жака д'Арманьяка на свою сторону и в 1462 году пожаловал ему титул герцога Немурского. Но через два года д'Арманьяк примкнул к Лиге общественного блага. «Он присягнул королю в том, что будет поддерживать его, – пишет Коммин, – но позднее нарушил клятву, и за это король возненавидел его, о чем сам мне не разговорил». Казнь Сен-Поля заставила его укрыться в своем замке Карлат вместе с женой (двоюродной сестрой королевы) и сыновьями – старшим, Жаном, и младшим, Людовиком. Здесь, в Карлате, чьи припасы позволяли выдержать двухлетнюю осаду, герцог чувствовал себя в безопасности. Он отошел от дел и не принимал участия в новых заговорах против короля. Жизнь в замке текла тихо, размеренно, однако именно это и угнетало д'Арманьяка, чувствовавшего, что он своими руками похоронил себя заживо. Однажды вечером (дело было в июле 1476 года) у ворот замка раздались звуки рога. Герцог в это время сидел в зале, занимаясь с семьей. Амелен, управляющий замка, доложил, что несколько рыцарей, по виду очень знатные сеньоры, требуют впустить их в Карлат. Поднявшись на стену, д'Арманьяк увидел перед воротами трех всадников. Он узнал в них герцога Пьера де Бурбона, адмирала Франции Луи де Гравиля и кавалера Бофиля де Жюжа. Д'Арманьяк приказал опустить мост и проводить гостей в дальнюю комнату, где их разговор никто не мог слышать. – Кто вас прислал, господа? – осведомился герцог. Пьер де Бурбон ответил, что они приехали по поручению Людовика XI, который желает возобновить добрые отношения с герцогом. Посол объяснил, что король обеспокоен своим здоровьем: он опасно болен и боится не увидеть осуществления своих планов; по словам де Бурбона, в случае смерти Карла Бургундского король надеялся предъявить на Бургундию свои права, поскольку дочь герцога, в силу закона о престолонаследии, не могла наследовать ему. Д'Арманьяк, слушая, косо посматривал на де Бурбона – он не верил ни одному его слову. Однако на стороне посланцев короля был всесильный союзник – скука герцога Немурского. При одной мысли о том, что ему снова предлагают обнажить меч – не важно за кого, – д'Арманьяка так и подмывало согласиться на королевское предложение. – Какие гарантии моей безопасности можете вы мне дать? – наконец произнес он. При этих словах герцога де Жюж заявил, что эта часть переговоров возложена на него и на Луи де Гравиля. Он вручил д'Арманьяку собственноручное письмо короля, заверявшего, что герцогу Немурскому, в случае если он согласится приехать навстречу, не причинят никакого зла и что он сможет беспрепятственно вернуться в Карлат, если ему будет неугодно принять условия, которые король сообщит при личной встрече. Чтобы еще больше успокоить подозрительность д'Арманьяка, де Жюж поклялся, «как истинный христианин», что король Людовик отныне не питает по отношению к нему враждебных чувств. Гравиль клятвенно подтвердил слова де Жюжа. Д'Арманьяк вертел королевское письмо в руках, колеблясь между доводами разума и необоримым искушением вновь явиться при дворе, еще более могущественным, чем прежде. В самом деле, размышлял он, что ему грозит? Как-никак он не граф Сен-Поль, он д'Арманьяк, его род по древности не уступит королевской фамилии! Наконец он решился и ответил согласием. Послы еще раз единогласно поклялись, что герцог найдет у короля самый радушный прием, и стали уверять, что болезнь короля не позволяет медлить с отъездом. Д'Арманьяк попросил дать ему время проститься с женой. Но, сделав шаг по направлению к двери, остановился в задумчивости. – Нет, я не смогу вынести ее жалобы и слезы. Прошу вас, господа, подождать еще минуту, я оставлю ей письмо. Он набросал несколько строк и, позвав Амелена, поручил ему передать письмо герцогине после его отъезда. Дети герцога и дворецкий получили разрешение проводить д'Арманьяка до первого поворота у леса. Ночью, посадив к себе в седло обоих сыновей – одного спереди, другого сзади, – герцог тайком покинул замок. Луна освещала дорогу. Впереди пешком шел Амелен, Бофиль и Бурбон с двух сторон окружали герцога, Гравиль замыкал процессию. Все хранили глубокое молчание. Возле леса Бофиль и Бурбон, переглянувшись, крепко схватили д'Арманьяка за руки, а Гравиль громко свистнул. Из леса тотчас выехал отряд всадников с обнаженными мечами. – Жак д'Арманьяк, герцог Немурский, именем короля я объявляю вас пленником, – произнес Пьер де Бурбон. Д'Арманьяк попытался освободить руки, но Бурбон и Бофиль, зажав его лошадь между своими лошадьми, крепко держали его. Подъехавшие солдаты обезоружили и связали герцога вместе с сыновьями. Д'Арманьяка вначале отвезли в Лион, а оттуда в Бастилию, где поместили в железную клетку. Там он узнал о смерти жены (герцогиня умерла от нервного потрясения, узнав об аресте мужа) и о конфискации своих земель. Угроза нищеты, нависшая над его детьми, заставила герцога униженно молить короля о помиловании, но Людовик XI был непреклонен. Суду было поручено во что бы то ни стало признать герцога виновным. Перед казнью его отвели в комнату, обитую черными обоями, где он исповедался. В это время судьи и офицеры королевской гвардии с аппетитом завтракали в соседней комнате; палач прислуживал им, подавай хлеб, груши, пиво… После исповеди д'Арманьяка посадили на лошадь, покрытую черной попоной, и повезли к месту казни. Весь путь до эшафота герцог просил позволить ему проститься со своими детьми, которых он не видел целый год, хотя они и содержались вместе с ним в Бастилии. Палач отвечал, что король позаботился, чтобы он их увидел. Поднявшись на эшафот, д'Арманьяк с удивлением заметил, что доски под плахой образуют большие щели, но еще не догадался, с какой целью это было сделано. Им владело только одно желание. – Детей моих, из сострадания, детей моих! – умолял он. – Посмотри, – ухмыляясь, ответил палач и указал на шеренгу солдат. Солдаты расступились, и из-за их спин показались Жан и Луи; на них были надеты длинные холщовые рубашки. Д'Арманьяк хотел броситься к ним, но его схватили, скрутили руки, завязали повязкой глаза и силой опустили на колени. В это время детей втолкнули под эшафот и привязали к скамье, сколоченной специально для этого случая. Сквозь щели они увидели, как поднялся меч палача… Секунду спустя кровь отца хлынула на них. Когда тело д'Арманьяка совершенно истекло кровью, их, полумертвых, повезли по улицам и вновь упрятали в Бастилию – в каменный мешок, имевший форму корзины, в котором можно было находиться только согнувшись. Братьям пришлось испытать, что означает вечность мук ада. Комендант Бастилии Филипп Гюилье два раза в неделю приказывал привязывать их к столбу и сечь, а каждые три месяца вырывать у них по зубу. Старший брат, Жан, не выдержав мучений, лишился рассудка и умер в тюрьме. Людовик вынес все и был освобожден в 1483 году, после смерти короля Людовика XI. Людовик XII сделал его вице-королем Неаполитанского королевства. С его гибелью в сражении с испанцами при Сериньоле (1503) род Арманьяков пресекся. Глава вторая Бастилия в период Реформации Преследования протестантов В XV—XVI веках многие бастилии из камня во Франции стали называть бастионами, а затем под этим словом стали подразумеваться все изолированные и фланговые укрепления (иногда их именовали также «бульварами»). Слова «бастида» и «бастилия» исчезли, и только бастилия Святого Антония сохранила свое название вплоть до падения в 1789 году. Исчезновение угрозы иностранного вторжения и рост королевского абсолютизма стали превращать Бастилию из национальной крепости в государственную тюрьму. При Франциске I (1494—1547) в нее бросали всякого, кто не сумел понравиться любовницам короля, министрам или какому-нибудь придворному шуту, находящемуся в фаворе. С Франциска I во Франции началось царствование фаворитов и фавориток, продолжавшееся до самой революции; лишь изредка власть вновь переходила в руки королей. При Генрихе II (1547—1559) в Бастилию заключали уже не только за действия, но и за слова, и за образ мыслей. Это было время ожесточенных религиозных споров – предвестников длительных гражданских войн. Учение Лютера быстро приобретало сторонников среди простых мирян, государей и священнослужителей. Сношения Франциска I с германскими княжествами и распространение книгопечатания скоро занесли идеи протестантизма и во Францию, куда стали съезжаться проповедники нового учения. Сорбонна уже в 1519 году взяла на себя обязанности духовной цензуры. В 1535 году она даже добилась от Франциска I невероятного ордонанса о запрещении книгопечатания (впрочем, этот указ не был приведен в действие). В общем святых отцов можно понять: бороться с распространением ереси посредством книг другими средствами было уже невозможно – книжная «эпидемия» оказалась неизлечима. По подсчетам историков Дона, Пети-Раделя и Тайландье, европейские типографии издали до 1500 года 4 миллиона томов, а в период с 1500 по 1536 год – 17 миллионов (и это при том, что население Европы того времени едва ли превышало сто миллионов человек). От преследований книг Церковь перешла к репрессиям против лютеран. Первым мучеником французского протестантизма стал Жан Шастелен, францисканский монах из Дорника, сожженный 12 января 1525 года. Следующим был чесальщик шерсти Леклерк из Mo. В своем городе он был заклеймен в присутствии матери, восклицавшей при виде мучений сына: «Да живет Бог и знак Божий!» Вскоре Леклерк бежал в Лотарингию, видимо спасаясь от еще более сурового наказания. В Меце, где должен был состояться церковный праздник в прославленной капелле, он разбил икону Богоматери, был схвачен и во всем сознался. Перед казнью его подвергли ужасным пыткам: отрубили кисти рук, вырвали ноздри, раскаленными щипцами рвали тело… Леклерк все это время выкрикивал насмешки, приводя в содрогание своих палачей. После пыток его сожгли на медленном огне (это случилось в июле 1525 года). Франциск I долгое время проявлял терпимость к новому учению, что объяснялось его полным равнодушием к теологии. Современник, Феликс Пиа, отзывался о нем так: «Язычник, римлянин времен Империи, с безмозглой головой, существо совсем плотское, с грубыми инстинктами, со сладострастием козла и с волчьим зверством; ему непонятны ни грация, ни изящество, он ищет одну наготу форм и бесстыдство позы; он открывает книгу Рабле затем только, чтобы высмаковать оттуда весь сок цинизма и отбросить философию, как несъедобную корку». В этом портрете чувствуется гротеск (король, к примеру, был знаком с «грацией и изяществом»: одно время он покровительствовал Бенвенуто Челлини, Леонардо да Винчи и искренне восхищался их искусством), но главные черты схвачены верно. Король благосклонно принял посвященную ему книгу церковного реформатора Цвингли «Истинная и ложная религии» и пытался остудить горячие головы, призывавшие к расправе над еретиками. В протестантизме он видел только свод нравственных правил, неприятных зажиревшим прелатам. Впрочем, дело обстояло во многом именно так: до появления мрачных откровений Кальвина французские протестанты в массе своей были, скорее, восторженными религиозными мечтателями, нежели ниспровергателями церковных канонов. Отношение Франциска I к протестантизму начало меняться с 1528 года, когда в Париже на улице Розьер была найдена разломанная икона Богоматери. Король был встревожен возможными волнениями, которыми его пугали служители церкви. Правда, на сей раз он ограничился искупительными процессиями и водружением на место разбитой иконы новой – в серебряном окладе. Но вслед за тем Сорбонна возбудила дело против дворянина Луи Беркена, опубликовавшего книгу против отца Беды, настоятеля церкви в Монтегю, ревностного поборника набожной нищеты. Беркен, опираясь на памфлет Эразма Роттердамского, доказывал, что Беда не христианин, поскольку в его сочинениях содержится 80 неправд, 300 клевет и 47 богохульств. Франциск I пытался спасти подсудимого от смерти, но был вынужден согласиться с приговором Сорбонны. Беркена удавили, а тело сожгли вместе с книгой. Справедливости ради следует заметить, что многие протестанты сами подавали повод к репрессиям против них. Оскорбления и надругательства над католическими святынями стали обычным явлением (уже имелся и печальный опыт Мюнстерской коммуны: анабаптисты, захватившие город, ввели уравнительный коммунизм, отобрали у церкви ее земли и разрешили многоженство). Дело дошло до того, что в 1534 году король обнаружил памфлет против мессы на дверях своего дворца в Блуа. Это вывело его из себя. Желая доказать итальянским государям свою ревность в делах веры[9], Франциск приехал в Париж посреди зимы и устроил торжественную процессию, в которой принял участие сам вместе со всем двором. Король шел в рубище, с факелом в руке, как простой кающийся грешник; при каждой остановке он падал на колени, вымаливая Божье благоволение и милосердие себе и своим подданным и призывая кару на головы еретиков. Глашатаи зачитали народу жестокий закон против гугенотов, предусматривавший, в частности, что четверть имущества уличенного еретика причиталась доносчику. В заключение спектакля король пожелал увидеть казнь шестерых еретиков. Вместо обычного сожжения их приковали железными цепями к шестам, которые можно было опускать и поднимать, увеличивая тем самым муки осужденных. Не довольствуясь отдельными казнями, король устроил целые избиения протестантов в некоторых городах. В Провансе, по свидетельству очевидца, «в одной церкви было убито 400 или 500 несчастных – женщин и детей»; двадцать пять женщин, спрятавшихся в пещерах, удушили дымом. Всего было убито не менее двух тысяч человек, семьсот протестантов уведены в качестве пленников. На обратном пути солдаты продавали в рабство захваченных детей. Из мемуаров Жака де Клерка явствует, что причиной преследования была алчность: имущество казненных переходило в королевскую казну, изрядно истощенную войнами. После смерти Франциска I около двух тысяч протестантов, предвидя впереди еще более мрачные времена, бежали в Женеву. В царствование Генриха II имущество казненных еретиков обогащало не столько короля, сколько его фаворитку Диану де Пуатье, герцогиню Валентинуа. Она приобрела необыкновенную власть над Генрихом II и заняла место второй персоны королевства, оттеснив его жену, Екатерину Медичи, – факт тем более поразительный, что Диане было тогда уже далеко за сорок. (Ее портрет в Фонтенбло, для которого она позировала обнаженной, чтобы посрамить злые языки, называвшие ее старухой, свидетельствует, что Диана великолепно сохранилась; следуя моде, она без страха выставляла напоказ свою грудь, чистоте линий и свежести кожи которой позавидовала бы любая девушка.) Ее герб украшал стены замков, купола дворцов и триумфальные арки королевских выездов; король носил знак ее официального прелюбодеяния на своих камзолах, всегда усеянных лунными серпами. Даже во время коронования Екатерины инициалы Дианы, переплетенные с инициалами Генриха, красовались на всех декорациях праздника. Дело доходило до того, что королева, долгое время будучи бесплодной и боясь развода, была вынуждена выпрашивать у фаворитки своего мужа на ночь. Венецианский посол Контарини в одной из депеш венецианскому сенату писал: «Королева часто посещает герцогиню, которая со своей стороны оказывает ей важные услуги перед королем, и часто она сама увещевает его идти спать вместе с королевой». Казни составляли немалую часть доходов фаворитки, наряду с торговлей испанскими пленниками. «Корова Коласа», как тогда называли Реформацию, была ее коровой, и дойной и убойной одновременно. История сохранила трагическую сцену с одним кальвинистом, дворцовым портным, которого она призвала в свою комнату, чтобы заставить его отречься в присутствии Генриха II. Этот человек, нисколько не испугавшись, говорил смело и, как мог, защищал свою веру, а когда Диана хотела вступить в спор, осадил ее словами: «Сударыня, удовольствуйтесь тем, что вы заразили Францию, но не вносите вашей грязи в священную область божественных истин». Король, взбешенный таким оскорблением своей любовницы, захотел лично присутствовать на его казни; но, как говорят очевидцы, ужаснулся, не вынеся взгляда, устремленного мучеником на него из пламени. Рвение фаворитки к делам Церкви поддерживал кардинал Лотарингский, получавший свою долю в этом постыдном обогащении. Уступая их просьбам, Генрих II обратился к Папе с просьбой о восстановлении в стране инквизиции, а в 1551 году издал эдикт, приговаривавший всякого человека, уличенного в лютеранской ереси, к сожжению. Палачи изощрялись, придумывая новые пытки, чтобы вырвать у обвиняемого признание. Один монах растапливал сало, заливал его кипящим в сапоги допрашиваемого и, смеясь, погонял кнутом: «Иди же!» Во Франции быстро росло число жертв, доносчиков и палачей. Страна стремительно приближалась к новой междоусобице. К счастью, в ней еще оставались люди, стремившиеся остановить охоту на гугенотов. Процесс Анн дю Бура Анн дю Бур был довольно известным в то время ученым-юристом. В молодости он изучал юриспруденцию в Орлеане, а затем купил место советника в Парижском парламенте, где благодаря обширным познаниям, честности и справедливости быстро занял видное место среди коллег. В первый четверг после Пасхи 1559 года он вместе со своим коллегой и другом Луи дю Фором шел по набережной, направляясь к дому адвоката Булара, живущего на улице Биевр, рядом с площадью Мабер. Здесь с утра толпились любопытные, буржуа и ремесленники, толкуя о странном происшествии, случившемся ночью: королевские стражники ворвались в дом и арестовали Булара вместе со всей семьей – женой и двумя дочерьми. Каждый на свой лад передавал эту историю, украшая ее новыми подробностями. В основном парижане сочувствовали бедняге Булару, но раздавались также крики, призывавшие гром небесный на головы проклятых гугенотов. Дю Бур и дю Фор знали Булара как прекрасного адвоката и порядочного человека. Поэтому они были возмущены, услышав, что парижский великий инквизитор Антуан Деморшаре выдвинул против него обвинение в том, что во время Святой недели в доме Булара состоялся шабаш: его участники якобы ели поросенка вместо пасхального агнца, а затем предались свальному греху. Будучи уверены в искренней набожности Булара, друзья сочли обвинение клеветой и поклялись друг другу вырвать его из рук инквизиции. Они расстались, не подозревая, что вскоре сами окажутся жертвами религиозного фанатизма. Помимо Деморшаре, на заключении Булара под стражу настаивали парламентские президенты Сен-Андре и Минар, в свою очередь выполнявшие волю кардинала Лотарингского и Дианы де Пуатье. Арест адвоката повлек за собой новые гонения против протестантов и вызвал шумные прения в парламенте, послужившие одной из причин процесса над дю Буром. Обвинения против Булара были целиком основаны на лжесвидетельстве. Один из агентов Деморшаре, серебряных дел мастер Рюссанж, протестант, лишенный должности надзирателя над общественной казной за кражу денег, предназначенных для раздачи бедным, донес о собраниях еретиков в доме Булара. Подкупленные подмастерья показали, что были свидетелями бесстыдных сцен в доме адвоката; один из них даже уверял, что предавался свальному греху со старшей дочерью Булара. Вследствие этого обе девушки были подвергнуты унизительному осмотру, который должен был удостоверить их целомудрие. Властями были произведены и другие аресты, главным образом в Сен-Жерменском предместье, считавшемся чем-то вроде Женевы[10] в миниатюре. Перед арестованными торжественно несли кусок говядины, насаженный на пику, – серьезную улику, поскольку дело происходило в пятницу, когда все добрые католики постились. Эти преследования помимо прочего имели целью отвлечь внимание народа от постыдных уступок двора при заключении мира с Испанией в Като-Камбрези. Поражения, понесенные войсками коннетабля де Монморанси, заставили Генриха II уступить Филиппу II города Тионвиль, Марьенбур и Монмеди, отказаться от всяких притязаний в Италии и очистить от французских войск герцогство Миланское, графство Ницца и остров Корсику. Мир был скреплен обещанием Генриха II выдать свою старшую дочь, Елизавету Валуа, замуж за испанского короля, а старшую сестру, Маргариту Ангулемскую, которой было тогда тридцать шесть лет, – за Эммануэля-Филибера, герцога Савойского, союзника Филиппа II. Приданое Маргариты стоило Франции еще двух провинций. Остряки злословили, что принцесса потеряет невинность с чересчур большим ущербом для королевства. Гугенотам дорого стоило это примирение. Диана де Пуатье (кстати, сохранившая при заключении позорного мира свои поместья в Неаполитанском королевстве) и кардинал Лотарингский с удвоенной энергией возобновили борьбу с ересью. Они хотели воспользоваться приездом короля в Париж на встречу с испанскими послами, чтобы побудить его открыто выступить против протестантов и тех советников парламента, которые защищали их от выдвинутых обвинений. Вечером 9 июня Генрих II принимал в Турнельском дворце президентов парламента Жиля Леметра, Сен-Андре, Минара, президентов и советников Счетной палаты и некоторых придворных, пришедших поздравить его с заключением мира и предстоявшим бракосочетанием его дочери и сестры. (Сен-Андре и Минар имели целью также поддержать требования кардинала Лотарингского о личном вмешательстве короля в дела парламента.) Только один человек, прямодушный офицер Вьелевиль, не прибавил ни слова к лести остальных сановников и открыто высказал королю то, что думали все, – а именно, что принцессе Маргарите в ее годы приличнее было бы стать настоятельницей монастыря, чем женой герцога Савойского. У Генриха от этих слов потемнело лицо, но он сдержался и переменил тему разговора, объявив о своем решении устроить по случаю двойного бракосочетания праздники и большой турнир на улице Сен-Антуан перед Бастилией, где он желал показать испанским послам свое искусство в деле поединков и ломания копий. – Монтгомери, – обратился он к высокому, красивому молодому человеку, капитану шотландской королевской гвардии, – мы сможем скрестить наши копья. Мне всегда хотелось заставить тебя упасть с лошади, чтобы отомстить за рану, которую твой неуклюжий отец нанес моему отцу, королю Франциску[11]. – Государь, – отвечал с поклоном Монтгомери, – вы оказываете мне честь вашим предпочтением. О своем участии в турнире заявили также герцоги Гиз и Немур. В это время вошедший дежурный офицер доложил о прибытии Екатерины Медичи и кардинала Лотарингского. Королева, войдя, молча села рядом с Генрихом, видимо, чем-то взволнованная. Кардинал прямо обратился к королю, что имеет к нему просьбу. – Какую же? – Да будет вам известно, государь, – заговорил кардинал, – что, несмотря на мои настоятельные требования, ни один еретик, привлеченный к суду парламента, еще не осужден. На последнем заседании президенты Сегье, де Галей, де Ту и советник дю Бур осмелились порицать генерал-прокурора Бурдена и его адвокатов за ту строгость, которую они пытались проявить к еретикам. Государь, именем всех честных людей, которые тревожатся и негодуют, я пришел вас просить завтра отправиться в парламент и приказать, чтобы в вашем присутствии каждый судья высказал свое мнение, дабы вы наконец знали, кто верен вам и нашей матери святой Католической Церкви, а кто заслуживает наказания как не уважающий законы королевства и заповеди религии. Если этого не сделать, зло заразит всех – от привратников до сановников. Леметр и Минар присоединили к его просьбам и свои, призывая Генриха вспомнить славный пример короля Филиппа II Августа, который в один день сжег шестьсот еретиков. Генрих молчал, обдумывая слова кардинала. Вьелевиль решил помочь королю выйти из затруднительного положения. Попросив слова, он стал отговаривать короля от вмешательства в церковные споры. – Подумайте, государь, – взывал он, – вместо празднеств вам советуют показать иностранцам и народу кровавое представление! – Что касается иностранцев, – перебил его кардинал, – то для них вряд ли найдется зрелище приятнее этого. Королю испанскому понравится, что вы твердо стоите за веру и оправдываете свое звание христианнейшего монарха. Необходим строгий пример. Да и о чем идет речь! Полдюжины сожженных еретиков – и религия укреплена, истина торжествует! Генрих колебался, беспокойно поглядывая на Екатерину Медичи и сожалея о том, что рядом нет Дианы, – он не знал, что обо всем этом думает фаворитка и боялся не угодить ей. Королева внезапно вмешалась в разговор, придав ему неожиданное направление. Она протянула мужу бумагу, которую держала в руке. – Прочтите это, государь, и да отвратит от вас Господь это предзнаменование. Это был гороскоп, предупреждавший короля о грозящей ему опасности. Дело в том, что еще в 1542 году, когда Генрих был всего лишь дофином, придворный астролог Люка Горик советовал ему «избегать любого поединка на турнирной арене, особенно вблизи сорока одного года, потому что именно в этот период жизни королю будет грозить опасность ранения головы, которая, в свою очередь, повлечет скорую слепоту или даже смерть». А между тем Генриху II три месяца назад исполнился сорок один год. Теперь в руках у королевы было второе предсказание – правда, весьма туманное, – катрена Мишеля Нострадамуса. Король пробежал глазами по листу. Там было написано: На площади турнирной будет поединок. Над старым львом возобладает львенок. И в клетке золотой он выбьет ему глаз. Мучительной бывает смерть подчас[12]. Кардинал посоветовал королю порвать эту бумагу и забыть о ней, на что Генрих, по словам очевидца, отвечал: «Зачем? Гадальщики говорят иногда правду. Я не забочусь о том, умру ли я той или иной смертью; я готов умереть от чьей бы то ни было руки, лишь бы слава осталась за мной». Затем он объявил, что не поедет в парламент. Кардинал поспешил к Диане де Пуатье, чтобы рассказать ей о неуступчивости короля. Фаворитка успокоила его и пообещала, что Генрих завтра будет в парламенте. Вьелевиль, оставшись на ночь дежурным офицером, отдал приказ никого не пускать во дворец. Но для Дианы не существовало запретов. Генрих нашел Диану в спальне. Она лежала на кровати, распустив волосы, руки и плечи ее были обнажены. Несмотря на сладострастную позу ее тела, взгляд ее был неласков… Кардинал Лотарингский, не сомневавшийся в успехе визита Дианы де Пуатье к королю, тем же вечером дал знать всем кардиналам и епископам, находящимся в Париже, чтобы они утром были в Турнельском дворце. На следующий день он появился перед Генрихом в сопровождении кардиналов Бурбона и Пельве, архиепископов Сенского и Буржского, епископов Парижского и Санлисского, трех докторов богословия и инквизитора Деморшаре. Диана добилась своего. Король во главе гвардии и со-путствуемый ста дворянами отправился в парламент, где его не ждали. Посреди общего замешательства он сел на свое кресло под балдахином и сделал знак генерал-прокурору продолжать заседание. Королевский кортеж внушил страх советникам парламента, и слова Генриха о том, чтобы каждый высказывал свое мнение свободно, не разрядили обстановку. Первый президент Леметр, президенты Минар, Сен-Андре, де Ту, Сегье и де Гарле подали свои голоса за осуждение еретиков; президент Белле сказал, что должен еще раз прочитать протоколы дела. Когда очередь дошла до дю Фора, то он весьма нелестно высказался о пастырях Церкви, чем вызвал глухой ропот среди советников и в свите короля. Теперь очередь была за дю Буром. В полной тишине прозвучали его слова, обращенные прямо к королю. «Призвав на помощь Провидение, которому всякий должен повиноваться, – повествует современник, – он распространился относительно того, что бесконечное число преступлений, осуждаемых законом, как то: богохульство, клятвопреступление, прелюбодеяние, невоздержность, разврат, – не только остаются безнаказанными, но даже поощряются с самой постыдной наглостью, и в то же время подвергают мукам множество людей, не виновных ни в каком преступлении. В оскорблении величества этих людей обвинить нельзя, потому что они говорят о короле только в своих молитвах, чтобы пожелать ему всех благ; их нельзя также назвать нарушителями законов, потому что они никогда не пытались восстановить какой-нибудь город против правительства, они никогда не побуждали жителей королевства на преступление. Несмотря на все старания и лживые свидетельства, до сих пор нельзя было доказать, что они даже думали о чем-нибудь преступном. Вся их вина заключается в том, что, вразумленные словом Божиим, они открыли чрезмерные и постыдные пороки римского могущества, которые приближают это могущество к падению, и требуют реформы – и вот за что их обвиняют в мятеже». Слушая дю Бура, члены парламента застыли, сжавшись на своих скамейках в ожидании королевского гнева. Король же, покраснев до ушей, ибо отлично понял, кого подразумевал дю Бур, говоря о безнаказанных развратниках, приказал коннетаблю Монморанси тут же арестовать дю Бура и дю Фора и передать их капитану гвардии Монтгомери для сопровождения в Бастилию. Дела еретиков были переданы кардиналу Лотарингскому, чтобы он мог распоряжаться ими по своему усмотрению. Чуть позже последовал высочайший приказ об аресте советников Антуана Фюме, дю Феррие, Николя дю Валя, Клода Виоля, Эсташа де ла Порта и Боля де Фуа. Дю Феррие, дю Валь и Виоль успели бежать, остальных же заключили в Бастилию, в узкие камеры, как самых опасных преступников. Возле каждой двери была поставлена стража, узникам запрещались всякие сношения с внешним миром. На другой день была назначена комиссия для суда над дю Буром. После первого же заседания Генрих II в ярости крикнул, что хочет своими глазами видеть, как поджарят дю Бура. Вслед за тем последовали странные события, сильно подействовавшие на воображение парижан. 30 июня, на третий день турнира, Генрих, как и обещал, принял участие в поединках. На его шлеме развевался черно-белый султан – это были цвета Дианы де Пуатье. Первым противником короля стал герцог Гиз. Они несколько раз ломали копья, не обращая внимания на призывы Екатерины Медичи прекратить поединок. Затем Генрих, бравируя своей выносливостью, вызвал на бой графа Габриеля де Монтгомери. Дважды преломив копья, противники схватились в третий раз. Граф нанес сильный удар в шлем короля: забрало открылось и сломавшийся наконечник, попав королю в правый глаз, проник в череп. Через несколько дней Генрих скончался в страшных мучениях[13]. Протестанты не преминули отметить, что рана в глаз была наказанием Господа за желание короля видеть своими глазами казнь дю Бура. Другое происшествие касалось президента Минара, которого дю Бур старался заставить отказаться от участия в этом процессе; когда тот не согласился, дю Бур произнес: «Бог сумеет заставить тебя». Советник взывал лишь к совести своего гонителя, но 12 декабря Минар был убит перед своим домом, и это опять посчитали возмездием свыше. Таким образом, случай распоряжался событиями с искусством опытного драматурга. Погребальные факелы мешались с брачными свечами, и наряду с пышным величием земных владык народ мог видеть их бренность. Процесс над дю Буром продолжался долго, так как советник использовал все свое искусство адвоката, чтобы затянуть его ход, и не раз блистательным образом обнаруживал несправедливость возводимых на него обвинений и нарушения форм судопроизводства. О мастерстве, с которым дю Бур вел свою защиту, можно судить по тому, что архивные материалы по его делу составляют двадцать томов. Наконец судьи предпочли на время отложить допросы дю Бура и заняться делами других обвиняемых. Булара пришлось отпустить, поскольку освидетельствование его дочерей доказало их чистоту и лживость показаний свидетелей. Де ла Порта освободили с условием, что он публично признает справедливость королевских указов против лютеран – президент подчинился решению судей. Де Фуа должен был публично подтвердить свою верность Католической Церкви и на год лишался звания советника парламента. Дю Фор был лишен этого звания на пять лет и помимо того должен был уплатить штраф в 400 ливров. Дю Буру друзья за деньги выхлопотали папскую буллу, вызывающую его на суд в Рим. Они уговаривали его воспользоваться этим случаем и по дороге в Италию скрыться, но дю Бур, как некогда Сократ, отказался выйти из тюрьмы без оправдательного приговора. 14 декабря процесс над ним был возобновлен в связи с тем, что немецкий курфюрст Фридрих хотел пригласить дю Бура в университет города Гейдельберга, для чего направил в Париж послов, поручив им исходатайствовать для него помилование. Теперь судьи торопились вынести обвинительный приговор, дю Бур же как будто шел им навстречу и отвергал все попытки его адвоката найти какой-нибудь компромисс. 22 декабря суд зачитал ему смертный приговор. По словам советника де Ту, дю Бур не выразил никакого удивления и сказал, что прощает тем, которые судили его по совести, хотя и сожалеет об их ослеплении. Затем, воодушевясь, он крикнул судьям: – Потушите, потушите наконец костры, которые вы зажгли, исправьтесь и возвратитесь к Богу, чтобы грехи ваши были вам прощены! Пусть злой оставит свой дурной путь, пусть бесчестный отвергнет свои дурные мысли и возвратится к Богу, и да помилует Он его! Прощайте! Имейте всегда Бога перед глазами. Что до меня, то я умираю без сожаления. Деморшаре и два доктора богословия напрасно старались заставить его признать свои заблуждения – дю Бур оставался тверд и непреклонен. Его предупредили, что если он имеет намерение проповедовать перед народом ложные истины, то ему заткнут кляпом рот, и дю Бур дал слово не возбуждать толпу. Верный своей клятве, он всю дорогу к месту казни молчал, обводя любопытных спокойным и уверенным взглядом. На Гревской площади его ждала виселица с качающейся на ветру веревкой. На последнее предложение назвать сообщников он ответил презрительным взглядом. – Боже, – воскликнул он, подняв к небу глаза и руки, – не оставь меня для того, чтобы и я Тебя не оставил! – И сам стал раздеваться. Батоле, викарий церкви Святого Варфоломея, предложил ему приложиться к кресту, говоря, чтобы он это сделал «в память страдания Господа Бога», но дю Бур оттолкнул его и в это мгновение «он был вздернут на виселицу и, в виду всей толпы, шептавшей «Jesus – Maria», удушен; под виселицей был разведен огонь, в который опустили его тело и сожгли». Увы, призыв дю Бура потушить костры инквизиции не был услышан. Сама его жертва, его почти добровольная смерть ради истины и милосердия не послужила примирению католиков и протестантов. Мученики нередко порождают насильников в не меньших количествах, чем палачи. И вот, пока одна половина Франции требовала кары для еретиков, другая половина воззвала к мести. Маршалы Mонморанси и Коссэ В царствование Генриха II Бастилия окончательно приобрела тот вид, который сохранила до своего падения: король приказал выстроить перед Сен-Антуанскими воротами бастион, постепенно усаженный деревьями и превратившийся в место прогулок заключенных. Карл IX (1560—1574) нечасто вспоминал о ее существовании, так как Варфоломеевская резня избавила его от Колиньи[14] и других людей, которых король считал своими врагами. Лишь незадолго до его смерти в Бастилию были заключены два маршала – Монморанси и Коссэ. Они сочувствовали гугенотам и объединили вокруг себя недовольных королем; брат короля, герцог Алансонский, согласился возглавить этот оппозиционный кружок. Карл не успел вынести по делу маршалов никакого решения. Их участь удивительным образом решилась вскоре после коронации Генриха III (1574—1589), когда в одну ночь к ним в тюрьму послали убийц, а затем торжественно объявили об их освобождении. Генрих III резко выделяется на фоне длинного ряда французских королей. Кажется, что он воскрешает тип изнеженных и развращенных цезарей времен упадка Империи, вроде Гелиогабала, который красил лицо, одевался женщиной, публично вступал в брак с солдатами и гладиаторами и ездил на колеснице, запряженной обнаженными куртизанками. Генрих был братом Карла IX и в молодости носил титул герцога Анжуйского. Когда он был ребенком, фрейлины его матери, королевы Екатерины Медичи, часто забавлялись с ним, наряжая в женское платье, опрыскивая духами и украшая, как куклу. От такого детства у него остались не совсем обычные привычки – носить плотно облегающие камзолы, кольца, ожерелья, серьги, пудриться и оживлять губы помадой. Впрочем, в остальном он был вполне нормальным принцем: участвовал во всех придворных попойках, не пропускал ни одной юбки и даже по свидетельству хрониста, заслужил славу «самого любезного из принцев, лучше всех сложенного и самого красивого в то время». В 1573 году в результате немыслимых интриг Екатерина Медичи добилась его избрания на польский престол. Но уже через год весть о кончине Карла IX заставила его бросить своих подданных. Медлить было нельзя, Екатерина Медичи звала его в Париж, чтобы вырвать корону из рук герцога Алансонского и не допустить победы гугенотов. На обратном пути во Францию Генрих задержался в Венеции, где внезапно для всех предался самому безудержному разгулу. Костюмированные балы, фейерверки, карнавалы опьянили его, пробудив скрытую чувственность и извращенную порочность. Генрих стал любовником куртизанки Вероники Франко, подруги Тициана. Именно эта рыжеволосая красавица приобщила его к занятиям, по словам современника, «не очень приличным и крайне порочным, именуемым итальянской любовью, чего король никогда до этого не пробовал». Его портрет на фреске Вичентино во Дворце дожей уже намечает будущий характер: лицо испитое, коварное, глаза не смотрят прямо, фальшивая улыбка кривит тонкие губы… Генрих покинул Венецию другим человеком или, если можно так выразиться, уже не совсем мужчиной. По возвращении в Париж он открыл карнавал в своем новом королевстве. Маскарад был и сущностью, и формой Генриха III. Следуя какому-то тайному, но властному призыву своей натуры, он переряживал одновременно и свое тело, и свою душу. Сначала он стал носить серьги, затем ввел в моду пышные короткие панталоны выше колен, напоминавшие фижмы. Наконец однажды на Крещение он появился перед ошеломленным двором, одетый в казакин с круглым вырезом на обнаженной груди, с шеей в расшитых брыжах, с волосами, перевитыми жемчужными нитями, посасывая конфеты и играя шелковым кружевным веером. «Его выщипанный подбородок, – содрогаясь от отвращения повествует гугенот д'Обинье[15], – его лицо, вымазанное румянами и белилами, его напудренная голова заставляли думать, что видишь не короля, а накрашенную женщину… Радуясь новому наряду, он весь день не снимал этого чудовищного костюма, настолько соответствовавшего его любовным вкусам, что каждый в первую минуту не мог решить – видит ли он короля-женщину или мужчину-королеву». Генрих III ввел при дворе рабский этикет, якобы заимствованный из придворных обычаев Византии; а чтобы придворные могли обращаться к нему как к женщине, первым принял титул Величества, возмутивший свободные умы того времени. Ронсар писал одному из своих друзей: «Не удивляйся, Бине, если ты видишь, что наша Франция… служит теперь посмешищем для народов и королей… При дворе только и разговору, что о Его Величестве: Оно пришло, Оно ушло, Оно было, Оно будет. Не значит ли это, что королевство обабилось?» Король окружил себя молодыми людьми, получившими в народе прозвище «миньоны» («милашки»). Их звали Кайлюс, Можирон, Сен-Мегрен, Грамон, де Жуаез, Сен-Люк, Сагонь и де ла Валетт. Это были самые смелые дуэлянты во Франции, но король принуждал этих Ахиллесов наряжаться чуть ли не женщинами. «Эти очаровательные милашки, – свидетельствует современник Пьер де л'Этуаль, – носили довольно длинные волосы, которые они постоянно завивали с помощью разных приспособлений. Из-под бархатных шапочек завитые локоны ниспадали на плечи, как это обыкновенно бывает у шлюх в борделе. Им также нравились полотняные рубашки с сильно накрахмаленными гофрированными, шириной в полфута, воротниками, так что их головы казались головой Иоанна Крестителя на блюде. И вся остальная их одежда была в том же духе». Занимались они в основном тем, продолжает л'Этуаль, что играли, богохульствовали, резвились, танцевали, распутничали и всей компанией неотступно следовали за королем, куда бы он ни направлялся. Королевская похоть обращалась и на других юношей как благородного происхождения, так и простолюдинов. Однажды он сомлел при виде дворцового обойщика: «Видя, как он, стоя высоко на двух лестницах, прочищал подсвечники в зале, король так влюбился, что стал плакать…» Жизнь Генриха III была двойной оргией, придворной и религиозной, этот пресыщенный развратник кидался из одной крайности в другую, чтобы освежить свои увядшие чувства и оживить разлагавшийся мозг. «В первый день масличной недели, – пишет л'Этуаль, – король и брат короля отправились вместе со всеми своими миньонами и фаворитами по улицам Парижа верхом и в масках, переодетые в купцов, священников, адвокатов и во всяких других лиц; они скакали, отпустив повода, опрокидывая одних и избивая других палками и жердями, особливо тех, кто были замаскированы, как и они, потому что король в этот день один желал иметь привилегию ездить по улицам в маске». Но вот занавес падает и снова взвивается, вызывая изумление переменой костюмов. «В воскресенье 5 апреля король был в процессии первым и держал зажженную свечу в руке во время выноса даров; он пожертвовал двадцать экю, с большим благоговением присутствовал при мессе и все время перебирал свои четки из мертвых голов, которые он с некоторого времени всегда носит на поясе, выслушал всю проповедь до конца и внешне исполнял все, что подобает истово верующему католику». Чувственность в соединении с благочестием всегда порождает чудовищ. В религиозный мистицизм Генриха III входили и магия и кощунство. В одном часослове он велел нарисовать своих миньонов и любовниц в костюмах святых и дев-великомучениц и носил с собою в церковь этот кощунственный молитвенник. В башне Венсенского замка, где он жил, хранились все принадлежности колдовства: каббалистические надписи, магические палочки из орехового дерева, зеркала для вызывания духов, дубленая детская кожа, покрытая дьявольскими знаками. Самой скандальной вещью было золотое распятие, поддерживаемое двумя непристойными фигурами сатиров, предназначенное, казалось, для алтаря черной мессы на шабаше. Королевский двор напоминал корабль с перепившейся командой, который яростный ветер столетия несет на прибрежные скалы. Генриха III окружали одни западни, заговоры и предательства. Разгоравшийся огонь религиозных войн с двух сторон лизал его трон. Протестанты, объединившиеся вокруг Генриха Наваррского, и католики, предводительствуемые Балафре[16], одинаково ненавидели его. Рядом с ним находились герцог Алансонский, готовый на братоубийство, и его мать, Екатерина Медичи, старая пряха придворных интриг. Волнения и беспорядки уже охватывали юг Франции. В Лангедоке маршал Данвилль, брат арестованного маршала Монморанси, возглавив гугенотов, с оружием в руках выступил на защиту протестантства. За пределами государства Филипп II Испанский создавал европейский союз против Франции. Одинокий среди всех этих партий и заговоров (единственной партии, способной поддержать его – Лиги сексуальных меньшинств, – еще, увы, не существовало), Генрих III мог сражаться с ними только оружием вероломства, но он был слишком слаб и изнежен, чтобы владеть им как следует. Напрасно он предавал всех, кого мог. Всеобщее презрение создавало вокруг него пропасть, которая расширялась с каждым днем. В 1575 году слух о кончине в Лангедоке маршала Данвилля взбудоражил весь Париж. Католики радовались, что Бог покарал еретика, гугеноты скорбели о потере своего вождя. Генрих и Екатерина Медичи решили воспользоваться моментом, чтобы избавиться от арестованных маршалов, которых после смерти Данвилля гугеноты могли провозгласить своими вождями. В Лувре состоялось тайное совещание, куда, по настоянию Екатерины Медичи, Генрих не пригласил даже своих миньонов. Было принято решение избавиться от маршалов, удушив их в тюрьме и выдав это преступление за самоубийство. В защиту арестантов подал свой голос только один участник совещания – де Суврэ. Исчерпав все доводы, он ухватился за последнюю возможность отсрочить казнь. – Но ведь нет никакой уверенности в том, что маршал Данвилль действительно скончался, – сказал Суврэ. – Гонец, который привез эту весть, не видел тело маршала собственными глазами, а только передал слухи, распространившиеся в Лангедоке. Благоразумнее будет подождать с решением до получения точных сведений. Екатерина Медичи, почувствовавшая правоту слов Суврэ, поддержала его. – Я согласен подождать, – ответил Генрих, – но не дольше трех дней. Известная поговорка «что знают двое, то знают все» оправдалась и в этом случае. Несмотря на строгую секретность, результаты совещания у короля каким-то образом стали известны герцогу Алансонскому. Брат короля почувствовал себя оскорбленным, так как с самого начала царствования Генриха Ш ходатайствовал об освобождении маршалов из Бастилии. Кроме того, герцог всерьез обеспокоился за свою личную безопасность. Его держали в Лувре почти под арестом, и у него не было твердой уверенности, что над ним во дворце не проделают то же, что собирались сделать с маршалами в Бастилии. Через своего фаворита Бюсси д'Амбуаза герцог снесся с семейством Монморанси и партией его приверженцев, сообщив им о решении королевского совета, и стал готовиться к побегу из Парижа. Прошло три дня после совещания в Лувре, королевский курьер из Лангедока все еще не возвращался. Новое ходатайство Суврэ о помиловании маршалов было отвергнуто. В ту же ночь Екатерина Медичи отправилась в Бастилию в сопровождении офицера Дюга и еще шести человек, которые должны были задушить маршалов. Над городом бушевала гроза, на улицах не было ни души. Никем не замеченные, убийцы добрались до тюрьмы. Екатерина отослала свой отряд к камере маршалов, а сама прошла в кабинет коменданта Тестю. Кратко сообщив ему о королевском решении, она приказала: – Вы поможете нам, Тестю. Садитесь к этому столу и пишите протокол. – Ваше величество, вы требуете, чтобы я свидетельствовал об удушении маршалов по приказу короля? – Кто вам говорит об этом? Завтра утром, во время обхода, обоих маршалов найдут повешенными на оконных решетках. На столе у них найдется письмо на имя короля, в котором они, сознаваясь в своих преступлениях, объяснят, что избавляются таким способом от казни, неминуемо ожидающей их после судебного разбирательства. Вот это письмо. Взяв из рук королевы письмо, Тестю изумился: почерк маршалов был подделан безукоризненно. Комендант сел за стол и начал составлять требуемый протокол. В эту минуту в кабинет вошел Суврэ. Он протянул королеве бумагу. – От короля! Екатерина развернула письмо и побледнела. Генрих извещал ее, что Данвилль жив и знает об их намерениях; в конце письма он прибавлял несколько строк о только что обнаруженном исчезновении из Лувра герцога Алансонского и приказывал отменить задуманный план. Екатерина мгновенно сообразила, как выйти из создавшейся ситуации: нужно освободить маршалов и привлечь их на свою сторону. – Но что же мы здесь делаем? – в ужасе вскричала она, словно очнувшись. – Бежим, скорее… Тестю, проводите нас. Через минуту они были в нижнем этаже Бастилии, рядом с башней Свободы, где находилась камера маршалов. Уже издалека Суврэ, обогнавший всех, услышал сильный стук, гулко раздававшийся в тюремном коридоре. Подойдя ближе, он увидел, что Дюга и его люди пытаются выломать дверь камеры. Оказалось, что маршалы, догадавшись об их намерениях, забаррикадировали ее изнутри – это спасло им жизнь. Екатерина появилась перед ними как добрая фея. Она изложила им положение дел и попросила немедленно отправиться к герцогу Алансонскому, чтобы убедить его в том, что король по-прежнему питает к нему самые добрые чувства. Суврэ, в свою очередь, советовал им взяться за это дело во избежание междоусобной войны. Маршалы ответили согласием с тем условием, что парламент вынесет постановление об их невиновности. Екатерина заверила, что это будет сделано завтра же. Тестю было приказано отдать Монморанси и Коссэ при выходе из Бастилии воинские почести, подобавшие маршалам. Под звуки труб они прошли дворами сквозь двойной строй салютовавших им солдат. Их сразу повезли в Лувр, где Генрих, напуганный побегом брата, скитался по комнатам и отдавал одно приказание за другим: собрать войско, закрыть ворота, укрепить Сен-Дени… В конце концов он послал всех придворных вдогонку за герцогом Алансонским, приказав привезти его живым или мертвым. Маршалы были приняты как спасители престола, их осыпали ласками и обещаниями. На другой день они вместе с Екатериной Медичи выехали в Турень. Однако переговоры с герцогом Алансонским не дали определенных результатов. Союзники Месье[17] не были намерены останавливаться на полпути: один из вождей гугенотов, Торэ, предпринял наступление, чтобы соединиться с протестантами на том берегу Луары. Гугенотский союз действительно становился опасным. Аббат Розьер Войска протестантов двинулись к Парижу. Перепуганный король подписал эдикт, делавший гугенотам значительные уступки. Эдикт возмутил католиков. Герцог Гиз громко жаловался, что король в душе более гугенот, чем католик. Сторонники Гизов объединились в мощный союз – Католическую Лигу с намерением «охранить славу Господа и его Католической и Римской Церкви». Генрих III счел благоразумным признать Лигу и даже провозгласить себя ее главой, хотя фактически Лига подчинялась герцогу Гизу. Началась беспощадная война с гугенотами, закончившаяся только весной 1580 года. Генрих отпраздновал перемирие грандиозными костюмированными балами, на которых его видели наряженным в костюм то блудницы, то амазонки с обнаженной грудью… В Париже росло недовольство выходками короля. Народ издевался над монашескими процессиями Генриха. Его собственные пажи передразнивали их, так что король был принужден высечь восемьдесят человек во дворе Лувра. Священники с церковных кафедр гремели проклятиями коронованному нечестивцу. «Я был осведомлен из достоверных источников, – проповедовал монах Понсэ, – что вчера вечером, в день их процессии, вертела усердно работали для этих добрых кающихся, и, съевши жирного каплуна, они имели еще на постный ужин телячий хрящик, бывший для них наготове. О, нечестивые лицемеры! Вы издеваетесь над Богом под вашими маскарадными платьями, а для приличия носите бич самоистязания у пояса? Не там бы вам следовало его носить, а на спине и на плечах, и тогда это было бы вам по заслугам. Нет ни одного между вами, который не заслужил бы его вполне». Но Генрих продолжал безумствовать. Миньоны грабили Францию, обирали казну, вымогали доходы с городов. На свадьбу Жуаеза король истратил одиннадцать миллионов экю (при том, что государственный долг уже превысил пятнадцать годовых бюджетов). Ее описание в мемуарах современников поражает: семнадцатидневный пир, сотни людей, наряженных в шитые золотом и серебром одежды, дождь драгоценных камней, маскарады, кавалькады, турниры и морские бои… Королевская казна истощилась, а парламент запретил вводить новые налоги. На одном из заседаний Генрих разразился женскими жалобами: «Я это знаю, господа, что я оскорбил Бога, я наложу на себя епитимью и поставлю двор на менее широкую ногу. Там, где у меня было два каплуна, будет один. Но как вы хотите, чтобы я вернулся к покрою платьев старого времени, как же мне тогда жить?» От слов лигеры[18] перешли к шпагам. Кайлюс и Можирон погибли первыми на дуэли с дворянами дома Гизов. Два месяца спустя Сен-Мегрен был убит у дверей Лувра двадцатью замаскированными людьми. Генрих опозорил себя, оплакивая их. Церковь Святого Павла, в которой он похоронил убитых, парижане называли не иначе как сералем миньонов. Самого Генриха временами охватывали приступы панического страха. Однажды ему приснилось, что его пожирают дикие звери. Проснувшись от ужаса, он велел перестрелять из аркебуз львов и медведей, откармливавшихся в клетках Лувра. Если бы король мог, он поступил бы так же с ненавистными ему людьми… Шел 1583 год. Герцог Гиз решил усилить пропаганду против короля. По его указанию аббат Розьер, деятельный член Лиги, сочинил и распространил несколько оскорбительных для короля эпиграмм. В одной из них Екатерина Медичи давала сыну совет не особенно гнаться за славой честного человека, на что Генрих отвечал: Надо хорошим человеком казаться, Хотя негодяем в душе оставаться. Другая эпиграмма высмеивала все усиливавшуюся набожность Генриха. Король учредил «братство кающихся» в честь Богоматери, куда вошли он сам, его миньоны, придворные и некоторые знатные горожане. Во время одной из процессий нового братства внезапно хлынувший дождь вымочил кающихся, одетых в одни рубашки. В народе говорили, что дождь был послан Богом в наказание за лицемерие короля. Розьер написал по этому поводу: Над всей Францией совершать злодеяния И до нитки народ обобрать, — А потом, ради вящего покаяния, В мокрых тряпках пред ним проплясать. К презрению мужчин вскоре прибавилась ненависть женщины. Деятельной участницей Лиги сделалась герцогиня Монпансье, жестоко оскорбленная королем, который назначил ей свидание и во время встречи высмеял ее перед своими миньонами. Герцогиня поклялась в отместку лишить Генриха престола и своими руками постричь «брата Валуа» в монахи. С тех пор, в память о своей клятве, она носила у пояса золотые ножницы. По ее настоянию было решено перейти от эпиграмм к более обстоятельному памфлету против Генриха. Так появилась знаменитая сатира «Поездка на остров гермафродитов», зло высмеивающая короля и миньонов. Над ней потрудились два человека – Розьер и Артус Тома, но их пером руководили герцогиня Монпансье и герцог Гиз, хорошо осведомленные о нравах двора. Тысячи списков с «Поездки» с невероятной быстротой распространились по всей стране. Король не сомневался, кто стоит за этим памфлетом. Но Лига была уже так сильна, что Генрих не осмелился открыто выступить против герцога Гиза, чья популярность в народе достигла апогея. «Франция была без ума от него; сказать, что она была влюблена, будет мало», – говорит о нем один историк. Тем временем умер кардинал Лотарингский, дядя Генриха Гиза. В его архиве руководители Лиги нашли заметки, сделанные покойным на черновике акта об образовании Лиги. Содержание заметок представляло такую важность, что в доме герцога Майенского, брата Гиза, было устроено совещание руководителей Лиги с участием Розьера. Слово взял Розьер, внимательно изучивший бумаги кардинала Лотарингского. Он огласил генеалогические изыскания покойного, из которых явствовало, что герцог Гиз является единственным прямым потомком Карла Великого и, следовательно, законным наследником французского престола. Значение Католической Лиги для дома Гизов кардинал определял так: «Тот, кто воссядет на месте вождя Лиги, превратит это место во французский престол, если захочет». Для того чтобы герцог Гиз мог открыто объявить себя претендентом на корону, лигеры сочли необходимым соответствующим образом подготовить общественное мнение. Розьеру было поручено написать книгу на основе генеалогических выписок кардинала Лотарингского. В силу важности темы сочинение не могло быть анонимным, и Розьер согласился поставить свое имя на обложке, несмотря на то, что такая смелость грозила ему тюрьмой. Гиз горячо пожал ему руку: – Я не допущу вашей гибели, Розьер. – Монсеньор, – ответил аббат, забирая записки со стола, – отныне я думаю только о плане моего сочинения. Работа над книгой потребовала много времени, зато ее появление способствовало успеху дела Гизов больше, чем создание Католической Лиги. Семитомный труд Розьера, написанный на латыни, назывался «Родословная герцогов Лотарингских и Беррийских». Как и рассчитывал Розьер, цензор не стал читать сочинение со столь безобидным заглавием. Однако в книге, наряду с династическими розысками, доказывавшими происхождение герцогов Лотарингских по прямой линии от Карла Великого, содержались и открытые нападки на королей Капетингской династии. Гиз действовал с размахом: «Родословная» была отпечатана чуть ли не во всех городах Франции. Впечатление от книги было ошеломляющее. Прочитав ее, колеблющиеся открыто вставали под знамена Гиза, а старые лигеры прямо поговаривали о монастыре для Генриха III. Двор, занятый интригами и развлечениями, целый год ничего не знал о том, что творится в умах подданных. Когда же правительство спохватилось, было уже поздно – книга Розьера приобрела непререкаемый авторитет. Один из придворных, по имени Дюплесси, первый прочитал «Родословную» и показал книгу королю, сделав отметки напротив оскорбительных для него пассажей, вроде следующего: «Уехав в Польшу, он [Генрих], по-видимому, тотчас же стал устраняться от общественных дел, чтобы заниматься домашними и частными делами, стал нерешительным и позволил другим управлять собою, что оскорбляет и унижает хорошего короля». Уязвленный Генрих решил, что цензура пропустила очередной памфлет, и потребовал строгого наказания для автора. Одна Екатерина Медичи сразу уловила основную мысль книги и настояла на том, чтобы издать опровержение. Это дело было поручено Дюплесси и епископу де Тиара. Первый выпустил брошюру «Слово о мнимом праве Гизов на французский престол», которая была скорее остроумным выпадом против Розьера, чем опровержением его сочинения; но книга де Тиара «Извлечение из генеалогии Гуго Капета и последних преемников Карла Великого во Франции» была солидным, добросовестным трудом, где по косточкам разбирались все доводы Розьера и указывались на многочисленные натяжки и ошибки автора. Однако поколебать авторитет «Родословной» епископ не смог. Между тем последовал приказ арестовать Розьера, который, ни о чем не подозревая, трудился над следующим сочинением. Шпионы Гиза в Лувре сообщили герцогу о намерениях правительства, и он успел устроить аббату побег из Парижа. Король направил в погоню за Розьером кавалера дю Гэ, который с некоторых пор стал помощником коменданта Бастилии Тестю. Преследователям помог случай. Розьер уже благополучно добрался до Лангедока (он ехал к Филиппу II в Мадрид, имея при себе рекомендательное письмо Гиза), но здесь его задержал отряд гугенотов. Обыскав аббата, гугеноты нашли письмо герцога и арестовали Розьера. Узнав об этом, дю Гэ предложил обменять его на двадцать пленных гугенотов. Сделка состоялась, и Розьер был препровожден в Бастилию. Его заключение было суровым, но Розьер мужественно переносил все лишения. Между тем герцог Гиз, выполняя некогда данное обещание, не оставлял попыток освободить его. Когда обычные средства не помогли, герцог направил в Бастилию своего приближенного для подкупа Тестю. Дело уже почти сладилось, как вдруг в кабинет коменданта вошел дю Гэ, приставленный к Тестю в качестве шпиона. Тестю сразу прервал разговор и выгнал посланника Гиза. Через несколько дней в доме герцогини Монпансье при обсуждении планов освобождения аббата кто-то из лигеров напомнил о намерении Екатерины Медичи тайно умертвить в Бастилии маршала Монморанси и высказал опасение, что Розьер может оказаться менее удачливым узником. При этих словах Гиз в волнении вскочил со своего места, прошел в кабинет герцогини и написал письмо королеве-матери с просьбой об аудиенции по делу Розьера. Екатерина Медичи ответила согласием; встреча состоялась в тот же день. Королева вела разговор спокойно, тщательно взвешивая каждое слово и уклоняясь от прямого ответа. Наконец, видя, что герцог настроен весьма решительно, она ответила, что освободит аббата, если Розьер испросит прошения у короля в присутствии всего двора и подпишет письменное отречение от крамольных мыслей, высказанных в его книге, причем де Гиз должен будет засвидетельствовать все это. Гиз заявил, что Розьер никогда не согласится на такое унижение. – Вы убедите его, – сказала Екатерина. – Это не в моих силах. – Тогда он отречется под пыткой. Гиз замолчал и после некоторого раздумья сказал: – Я согласен. Распорядитесь, чтобы меня сегодня же пропустили в Бастилию. – Разумеется, – усмехнулась королева и высокомерно прибавила: – Кстати, напоминаю вам, что вы должны явиться туда один и без шпаги – вы ведь не маршал Франции. Через час Гиз уже был в Бастилии. Он поразился перемене, произошедшей во внешнем облике Розьера: аббат исхудал и был болезненно бледен; только его спокойный, уверенный взгляд говорил о том, что дух его не сломлен заключением. Герцог рассказал ему о неуспехе своих ходатайств перед королем, о разговоре с королевой-матерью и об условии, поставленном ею. Как и предполагал Гиз, Розьер вначале ответил твердым отказом. Лишь после долгих уговоров герцогу удалось убедить его подчиниться необходимости. Когда они расставались, лицо аббата выражало глубокую скорбь и сосредоточенность на какой-то беспокоившей его мысли. Король потребовал самых унизительных условий церемонии отречения: аббат должен был встать на колени и произнести речь, составленную самим Генрихом, суть которой состояла в том, что Розьер признает написанное им ложью и клеветой и призывает Господа в свидетели, что сделал это скорее по неблагоразумию, чем по злому умыслу. После отречения книгу должны были сжечь на Гревской площади. Историки единодушны в том, что Генриху не хватило силы ни на возмездие, ни на помилование. Розьер к концу церемонии впал в полное бесчувствие. Публичное унижение сделало то, чего не смогла сделать Бастилия, – оно сломило его. Бледного, убитого отчаянием, его отвезли домой. Гиз увещевал аббата не принимать так близко к сердцу фиктивное отступничество, но тот отвечал на все доводы: – Нет, монсеньор, что бы вы ни говорили, я совершил подлость. Я сделал это по вашему настоянию: благодарю Бога, если мое унижение принесет вам пользу, но я не имею более сил для борьбы. Прежде я был человеком, теперь я мертвец. Затем он признался, что за несколько часов, прошедших со времени отречения, он передумал столько, сколько при обыкновенных обстоятельствах передумывал за несколько лет. Розьер уверял, что постигшее его унижение было послано Богом для осознания его вины, которая заключалась в том, что он мечтал о славе и почестях, несовместимых со званием священника. – Теперь я должен отречься от моей прежней жизни и начать новую, – говорил он. – Я прощаюсь с Лигой, с миром и с вами, монсеньор, и удаляюсь в Тул, в, мою епархию, где буду жить в монастыре и посвящу мою жизнь исключительно пастырским обязанностям. Розьер провел остаток жизни в Туле, в уединении и молитве. До последнего дня его не оставляла печаль, которую не развеяла ни смерть Генриха Ш, ни успехи Лиги. Он умер в 1607 году, в возрасте 63 лет. Королевское помилование оказалось убийственнее, чем заключение в Бастилии. Комендант Бюсси-Леклерк В 1584 году умер герцог Алансонский. Поскольку детей у короля не было, право наследования престола перешло к Генриху де Бурбону, королю Наваррскому. Это событие привело к новой вспышке религиозной войны. Первые сражения произошли в Шампани, где Генрих Гиз сразу одержал две крупные победы над гугенотами. Парижане встретили победителя с таким энтузиазмом, что побудили Лигу создать в городе свой орган власти – Совет шестнадцати, куда вошли депутаты от шестнадцати парижских кварталов. Председателем Совета стал Бюсси-Леклерк. Леклерк прежде был учителем фехтования. Обучение так называемому жарнакскому удару (или, иначе, двойному удару: атакующий в одном выпаде поднимал шпагу противника и наносил удар в грудь) снискало ему известность и принесло знакомство с герцогом Гизом. Леклерк скоро сделался одним из доверенных лиц герцога и по его протекции получил место прокурора в Парижском парламенте. Однако президент парламента Арле отрешил его от этой должности за взятки. Леклерк с головой ушел в политику, правильно рассчитав, что это занятие принесет ему более доходное место. Совет сосредоточил в своих руках власть над Парижем. Король обратил внимание на его существование только 12 мая 1588 года, когда комендант парижского гарнизона вбежал в его кабинет и сообщил, что город покрыт баррикадами, а двадцать тысяч лигеров приближаются к Лувру. Генрих III бежал из Парижа. Вернуться в свою столицу ему было не суждено. Гиз оказался полновластным господином Парижа. Во всем городе всего два человека – президент парламента Арле и мэр Перрез – не признали власти Лиги, заявив, что откроют двери парламента и ратуши только по приказанию короля. Гиз понимал, что должен выглядеть защитником Парижа, поэтому был заинтересован в скорейшем возобновлении деятельности городского управления и правосудия. Но он на время оставил в покое непокорных, так как сейчас его гораздо сильнее беспокоило молчание коменданта Бастилии Тестю. Вечером 12 мая в крепость для переговоров был отправлен Леклерк, которому герцог пообещал в случае успеха должность коменданта Бастилии. Тестю принял его в своем кабинете. Оказалось, что он ничего не знает ни о бегстве короля, ни о победе Лиги, так как с началом беспорядков приказал поднять ворота и никого не впускать в крепость. Последние дни он мучился неведением, тщетно ожидая каких-нибудь королевских распоряжений. Леклерк уговаривал его впустить лигеров в Бастилию, комендант колебался… Разговор прервал солдат, доложивший, что отряд герцога готовится к штурму крепости. Испуганный Тестю бросился вниз открывать ворота… Гиз провел в Бастилии несколько часов, давая Леклерку указания, главным образом касающиеся использования военного арсенала крепости. После ухода герцога Леклерк с заботливостью хозяина исследовал все казематы. Ему представлялось, что при деловом подходе к содержанию заключенных место коменданта может приносить неплохой доход. Госпожа Леклерк, которая немедленно переселилась в комендантский дом, разделяла мнение мужа. Леклерк с нетерпением ожидал притока своих новых подопечных, но минуло три дня, а Бастилия пустовала. Обеспокоенный комендант обратился к Гизу, но тот сказал, что все еще связан по рукам упрямством Арле и Перреза. Герцог был не прочь обеспечить нового коменданта работой, но не решался сделать это без законного основания, пока ратуша и парламент оставались закрыты. 15 мая пришел королевский приказ, разрешающий возобновить работу городских учреждений. Гиз сразу велел арестовать Перреза и отвести в Бастилию. Леклерк ликовал: начало было многообещающим. Он посадил мэра в подземную тюрьму под башней Колодезя, приказав обращаться с ним как можно суровее. Помучив пленника несколько дней, комендант вызвал его к себе для переговоров. Он предложил перевести мэра наверх, в более приличную комнату, предоставить ему бумагу и чернила, назначить хорошее содержание, разрешить встречи с семьей и прогулки, – все эти блага комендант оценивал в какие-нибудь двести экю в месяц. Перрез, разумеется, ответил согласием. Ударили по рукам. Вдруг мэр пристально посмотрел в глаза Леклерку. – А сколько бы вы взяли за мою свободу? – Гм… Вы задаете непростые вопросы. Позвольте мне подумать… лет десять. Перрез понуро опустил голову. Вслед за мэром с системой нового коменданта познакомилось множество других людей. Гиз предоставил Леклерку полную свободу действий, потому что видел в нем своего верного сторонника. Герцог наблюдал только за военной дисциплиной в Бастилии, а Леклерк всеми способами вымогал деньги у заключенных. Его жена активно помогала ему в этом. По ее настоянию некий аббат Файоль провел в Бастилии больше шести месяцев только за то, что отказывался передать ей изумительной красоты перстень, который ему отдала на сохранение одна родственница, уехавшая из Парижа. Есть сведения, что в Бастилии на какое-то время очутился и философ Мишель Монтень. В конце концов беззакония, творимые в Бастилии, стали столь очевидны и вопиющи, что герцог Гиз должен был обратить на них внимание. «Народ, – пишет историк Файе, – самочинно, при содействии Леклерка, начал производить аресты… если бы не было принято против этого срочных мер, арестанты заполнили бы Бастилию; однако был отдан приказ, запрещающий арестовывать кого-либо без соблюдения форм правосудия». Таково было управление Бастилией во времена господства Лиги. Между тем король собрал в Блуа Генеральные штаты. Гиз выехал туда вместе с герцогом Майенским, оставив Париж на попечении Совета шестнадцати и герцогини Монпансье. 23 декабря 1588 года герцог Гиз был убит по приказу Генриха III. Эта новость ошеломила парижан и на время парализовала руководство Лиги. Если бы Генрих III немедленно отправился в Париж, он вряд ли встретил бы там серьезное сопротивление. Но король, уверенный в том, что отрубил гидре голову, бездействовал… Руководители Лиги использовали время, чтобы вдохнуть мужество в упавших духом приверженцев. Леклерк в Совете шестнадцати заявил, что готов запереться в Бастилии с верными людьми и держать осаду хоть против целой армии. – Я убью всякого, кто заикнется о сдаче города, – пообещал он. Герцогиня Монпансье, сестра убитого герцога Гиза, обегала весь Париж, убеждая горожан сопротивляться королевским войскам до последней возможности. Возле собора Парижской Богоматери она на глазах у толпы сломала свои знаменитые золотые ножницы, воскликнув: – Теперь речь не о том, чтобы постричь Валуа, – нет, я должна умертвить его по праву возмездия! – Смерть роду Валуа! – отозвались парижане. Речи и поведение герцогини оказали сильное воздействие на умы горожан. Народ вооружался. Сорбонна декретом освободила французов от клятвы Генриху III – «клятвопреступнику, убийце, богохульнику, бесноватому, колдуну, расточителю государственной казны, врагу отечества». Всюду были расклеены листовки с оскорблениями в адрес «Его Величества Гермафродита», на улицах жгли изображения королевы-матери. Толпа разбила надгробия миньонов в церкви Святого Павла, изображения Генриха мазали калом… Всех, кого подозревали в сочувствии королю, тащили в Бастилию; арестованных оказалось так много, что в крепости не хватило всем места, и Леклерк уже 28 декабря должен был отпустить часть роялистов. Совет шестнадцати собрался в ратуше и выбрал нового предводителя – герцога Омальского, двоюродного брата Генриха Гиза и единственного принца-католика, находившегося в Париже. Герцогиня Монпансье вскоре выехала в Бург к герцогу Майенскому, чтобы убедить его возвратиться в Париж. Главой Парижа фактически оказался Леклерк – комендант Бастилии и председатель Совета шестнадцати. Лигеры встретили стойкую оппозицию в лице Арле и других членов парламента, опасавшихся, что действия Лиги приведут к господству над Францией иноземцев, и в первую очередь Филиппа II Испанского, главного союзника Гизов. Советник Леметр отправился в Блуа за королевскими указаниями. 15 января 1589 года он возвратился оттуда, имея при себе королевскую грамоту, предназначенную для опубликования. В ней Генрих III объявлял прощение парижанам за неповиновение и оправдывал убийство Гизов государственной необходимостью. Было решено утром следующего дня обсудить этот документ на секретном совещании парламента. О случившемся стало известно Леклерку, который немедленно отправился в Совет шестнадцати и потребовал ареста президента Арле и некоторых активных оппозиционеров. – Мы не можем сделать этого без благовидного предлога, – возразил герцог Омальский. – У парламента много сторонников в народе. – Вам нужен предлог? – сказал Леклерк. – Хорошо. Предложим парламенту не ставить впредь, согласно решению Сорбонны, имени короля на приговорах парламента. Если Арле согласится, то парламент перестанет быть нам опасен, если нет – мы их арестуем. Большинство членов Совета согласилось с Леклерком. Комендант Бастилии решил начать с ареста президента де Ту. Однако его не оказалось дома. Напрасно госпожа де Ту уверяла, что не знает, где находится ее муж, – раздраженный Леклерк велел арестовать ее вместо советника. Госпожа де Ту стала первой женщиной, заключенной в Бастилию. Затем Леклерк с отрядом лигеров направился прямо в парламент. Было около восьми часов утра, но парламент уже заседал в полном составе, обсуждая грамоту короля. После того как комендант зачитал решение Совета шестнадцати, в зале поднялась суматоха. Одни кричали, что требование Совета надо исполнить, с тем, однако, чтобы впоследствии заявить, что парламент принудили к этому насилием; другие предлагали просить Совет об отсрочке его распоряжения; третьи, во главе с Арле, настаивали на решительном отказе. Видя, что обсуждение затягивается, Леклерк употребил силу: Арле и десять других президентов и советников были арестованы; остальные заявили, что добровольно последуют за коллегами в Бастилию. Слух об этих событиях быстро распространился по городу. Народ стекался на Гревскую площадь в ожидании, что арестованных поведут в ратушу. Опасаясь народного волнения, Леклерк выбрал окольный путь в Бастилию и, добравшись до крепости, сразу приказал принять военные меры предосторожности. Затем он предупредил Совет шестнадцати, что парламент в полном составе находится у него в руках. На новом заседании Совета, состоявшемся в Бастилии, было решено сразу отпустить тех членов парламента, которые выскажут согласие с решением Сорбонны и Совета шестнадцати. Сто двадцать шесть президентов и советников поклялись в верности Лиге, они-то и представляли правосудие в Париже в дни ее господства. Немногие верные роялисты, отказавшиеся идти на сделку с лигерами, были освобождены уже после смерти Генриха III. За время своего заключения они были основательно ограблены Леклерком. Например, от Арле комендант получил 10 тысяч экю выкупа. События быстро сменяли друг друга. В начале весны 1589 года Франция оказалась разделена на три части: одна находилась в руках гугенотов, другая в руках Лиги, третья (состоявшая только из городов Тура, Блуа и Божанси) хранила верность королю. Генрих III пошел на союз с Генрихом Наваррским, который, по крайней мере, не требовал открыто его свержения. В июне они совместными силами осадили Париж. А вскоре Генрих III объявил о том, что назначает короля Наваррского своим официальным преемником. Париж не сдавался, и король нервничал. 27 июля он послал к герцогине Монпансье одного придворного «сказать ей, что ему хорошо известно, что именно она поддерживает недовольство парижан и подстрекает их к мятежу, но что если ему когда-нибудь удастся войти в город, то он прикажет сжечь ее заживо» (л'Этуаль). Герцогиня отвечала, что «гореть должны содомиты вроде него, а вовсе не она, и к тому же он может быть уверен, что она сделает все возможное, чтобы помешать ему войти в город». Она решила, что пришло время использовать тайное оружие Лиги. В одном из парижских монастырей жил двадцатидвухлетний монах Жак Клеман, в прошлом крестьянин (в монастыре его прозвали «капитан Клеман» – из-за пристрастия к военному делу). Духовные наставники давно уже внушили ему веру в его избранничество и даже убедили в том, что он обладает чудесным даром усилием воли становиться невидимым. Клеман пребывал в состоянии беспрерывной экзальтации, – возможно, ему в пищу подмешивали наркотики. Герцогиня стала навещать монаха. Результатом этих посещений было видение, о котором Клеман рассказал своему духовнику: явившись к нему во сне, госпожа де Монпансье призвала его убить тирана; по ее словам, наградой герою будет кардинальская шапка и бессмертная слава. Наставник немедленно передал рассказ Клемана герцогине. Чтобы придать монаху-невидимке уверенность в благополучном исходе дела, в Бастилию были заключены сто заложников из числа преданных королю лиц. Однако нужен был серьезный предлог, чтобы Генрих согласился принять неизвестного монаха. Леклерк предложил Совету шестнадцати использовать перехваченные им письма президента Арле к королю. Предложение Леклерка было одобрено, и на другой день, 1 августа 1589 года, Клеман добрался до Сен-Клу, где находился Генрих. Письма Арле оказались лучшим паспортом для убийцы. Дождавшись, пока Генрих углубился в чтение писем, Клеман выхватил из-под рясы нож и вонзил его в живот королю. Затем он застыл, убежденный, что стал невидимым. – Проклятый монах, он убил меня! – воскликнул Генрих. Вырвав нож из раны, он ударил им Клемана в лоб. Вбежавшие стражники добили раненого монаха, выбросили труп из окна и после долгих издевательств сожгли его. Генрих ненадолго пережил своего убийцу. Совет шестнадцати принял решение освободить заложников, взятых перед отъездом Клемана. Но каждому из них пришлось дорого заплатить Леклерку за свою свободу. В конце концов герцог Майенский решил устранить коменданта как человека, сильно компрометирующего Лигу. Впрочем, герцогу нужны были деньги Леклерка, а не он сам. Леклерк был отрешен от должности и уехал из Парижа, чуть ли не в одной рубахе. Он осел во Фландрии, где принялся за свое прежнее ремесло – обучению фехтованию. Глава третья Бастилия в период становления абсолютизма Маршал Бирон 22 марта 1594 года Генрих IV Бурбон вступил в Париж. Гражданская война закончилась. Генрих IV, перешедший в католичество, даровал гугенотам равные права с католиками. Умиротворение государства сразу отразилось и на Бастилии, на которую король смотрел как на крепость, а не государственную тюрьму. Назначенный комендантом Бастилии министр финансов Сюлли наполнил ее оружием и съестными припасами. В одной из башен Сюлли хранил государственные сбережения – 33 миллиона ливров, предназначенные для войны с Австрией. Бастилия перестала быть страшилищем в глазах людей. В царствование Генриха IV только однажды в ее стенах разыгралась кровавая драма, стоившая жизни маршалу Франции Карлу Гонто де Бирону, обвиненному в государственной измене и в составлении заговора против короля. Еще юношей Бирон был представлен Генриху III и определен на военную службу. Невероятно честолюбивый, завистливый, но отважный до безрассудства, он рано приобрел привычку держаться надменно, порой даже грубо, показывая этим, что рожден повелевать. Он был одинаково способен и на великие дела, и на мелкие интриги, в обоих случаях проявляя неумолимую беспощадность к своим врагам. Бирон отличился в религиозных войнах, одержав ряд побед над войсками герцогов Омальского и Майенского. Генрих IV отмечал его заслуги, поочередно возводя Бирона в звание генерал-лейтенанта, адмирала, маршала; в 1598 году король сделал его герцогом, пэром Франции и правителем Бургундии. К тому времени Бирону было всего тридцать два года. Его отец, маршал Арман Бирон, смертельно раненный под стенами Эперне, сказал ему, умирая: – Советую тебе, Карл, как только заключат мир, ехать в наше имение и сажать там капусту, иначе тебя ждет эшафот. Старый маршал хорошо знал характер своего сына и, как оказалось впоследствии, дал ему добрый совет. Но бурные события того времени вскоре изгладили его слова из памяти молодого честолюбца. Бирон был недоволен установлением мира в стране, обрекшим его на бездействие. Между тем он хотел, чтобы «ничто не делалось помимо меня», – как однажды заявил он королю. Маршал страдал от скуки и бахвалился своими былыми подвигами, говоря во всеуслышание, что король обязан ему престолом, что Генрих ни в чем не может ему отказать и что он имеет безграничное влияние на королевскую волю. Король с трудом скрывал свою досаду на маршала. Однажды, когда ему стали сильно расхваливать обоих Биронов – отца и сына, Генрих ответил, что они хорошо ему служили, но что ему «стоило немалого труда удерживать отца от пьянства, а сына от бешенства». Ища и в мирной жизни остроты ощущений, маршал предался страстной игре и окружил себя безумной роскошью. Громадные проигрыши часто оставляли его совсем без денег. Генрих IV несколько раз уплатил его долги, но затем счел это чересчур разорительным для государства. Оскорбленный Бирон стал громко обвинять короля в скупости и неблагодарности. На маршала обратили внимание люди, недовольные королем: герцоги Бульонский, Ла Тремуль, д'Эпернон и графы д'Овернь и д'Антраг. Усиление королевской власти и ослабление могущества сеньоров побудило их составить заговор, к участию в котором были привлечены герцог Савойский и Филипп III Испанский. Речь шла ни больше ни меньше как о разделе Франции на независимые феодальные владения под сюзеренитетом испанского короля; Испания и Савойя намеревались ввести в страну свои войска. Бирона соблазняли лакомым куском в виде Бургундии, Лимузена и Перигора и обещанием выдать за него замуж дочь герцога Савойского. Однако неизвестно, принял ли тогда маршал эти предложения. В августе 1600 года между Францией и Савойей началась война. Ее причиной был отказ герцога Савойского возвратить Генриху маркизат Салюс, принадлежавший французской короне и захваченный савойскими войсками во время гугенотских войн. В случае попытки отнять у него Салюс силой герцог угрожал французскому королю «наделать ему хлопот на четыре года». В момент объявления войны Генрих IV находился в Гренобле и имел под рукой всего четыре роты. Но к нему отовсюду стекались дворяне, привлеченные возможностью заняться привычным делом, так что вскоре король смог начать боевые действия. Приехал и Бирон, которому Генрих поручил командование одной из армий, подчинив его главнокомандующему герцогу Ледигьеру. Это оскорбило Бирона, и он объявил заговорщикам о том, что принимает их предложения. Между ними был заключен письменный договор, содержавший в себе взаимные требования и обязательства. Война закончилась в январе 1601 года победой французских войск. Это остудило головы французских вельмож, принимавших участие в заговоре. Но, несмотря на строгую секретность, соблюдаемую заговорщиками, к Генриху все-таки поступило несколько доносов на Бирона, впрочем, лишенных прямых улик, обличавших его измену и сообщавших в основном о неуважительных высказываниях маршала в адрес короля. Генрих ответил доносчикам, что «знает сердце Бироново, что маршал ему верен, и, хотя язык его невоздержан, но в уважение добрых заслуг его он отпускает ему вину злословия». Однако, чтобы рассеять свои подозрения, король встретился с маршалом в Лионе и предложил ему совместную прогулку в кордельерский монастырь. Оставшись с Бироном наедине, Генрих прямо спросил, что побудило его войти в сношения с неприятелем, и пообещал полное прощение за чистосердечное признание. Смущенный Бирон, застигнутый врасплох, сознался в своей вине, опустив, однако, наиболее постыдные подробности. Зная вспыльчивый нрав маршала, Генрих удовольствовался тем, что услышал, и, горячо обняв Бирона, обещал ему полное прощение. Д'Эпернон, которому маршал поведал о своем разговоре с королем, посоветовал потребовать у короля письменного прощения (сам герцог уже отошел от заговора, правда скрыв от короля свое участие в нем). Бирон презрительно улыбнулся в ответ и сказал, что вполне полагается на королевское слово. Несостоявшийся заговор мог бы так и остаться тайной, если бы не предательство бургундского дворянина Лафена, посредника в переписке между заговорщиками. Надеясь то ли на королевское помилование, то ли на вознаграждение или, быть может, на то и другое вместе, он решил выдать королю архив заговорщиков. У него хранились многие их письма, но для пущей убедительности Лафен хотел добыть собственноручное письмо Бирона. Ему удалось обмануть маршала, но не столько благодаря своей ловкости, сколько из-за его излишней доверчивости. Бирон, продолжавший переписываться с враждебными Франции державами, хранил у себя план действий заговорщиков, написанный собственной рукой. Лафен предложил ему ради безопасности сжечь оригинал, а переписанные копии спрятать в надежном месте. Получив согласие маршала на это предложение, Лафен в его присутствии переписал документ; затем он смял подлинник и сделал вид, что бросает его в камин, но на самом деле в огонь полетела другая бумага. Конечно, Бирон допустил непростительную ошибку, не уничтожив столь важный документ лично. Лафен получил аудиенцию у короля и передал ему бумаги заговорщиков, присоединив к ним свои показания. Генрих был потрясен, но, стараясь не вызвать излишних толков об этом деле, весело сказал после встречи с доносчиком: – Я радуюсь, что встретился с этим человеком, так как он избавил меня от многих подозрений и сомнений. Но король понимал, что это дело нельзя оставить без внимания, поэтому созвал в Фонтенбло тайный совет из ближайших сподвижников – Сюлли, канцлера Вилльруа и графа Суассона. Генрих поделился с ними своими сомнениями относительно допустимых мер противодействия заговорщикам, сплошь состоящих из наиболее знатных и влиятельных вельмож королевства. Сюлли и другие министры настаивали на немедленном аресте Бирона и других участников заговора. Выслушав их, король сказал, что хочет дать Бирону шанс раскаяться в своем преступлении, так как он не является зачинщиком измены, а позволил вовлечь себя в заговор из-за своего легкомыслия. Однако бумаги, переданные Лафеном, свидетельствовали о нечестности маршала, умолчавшего в Лионе о многих обстоятельствах. Король вызвал Бирона в Фонтенбло для объяснений. Сюлли в мемуарах настаивает на том, что Бирон поехал в Фонтенбло только потому, что был еще не готов к открытому мятежу и боялся отказом от аудиенции навлечь на себя подозрения. Как бы то ни было, новая встреча короля и маршала состоялась 13 июня 1602 года. Генрих встретил маршала любезно и, взяв под руку, повел по аллеям сада, рассказывая о планах благоустройства дворца и его окрестностей; маршал внимательно слушал и высказывал свои соображения на этот счет. Несколько часов они беседовали о пустяках, Генрих как будто не решался возобновить лионский разговор, быть может, из боязни разочароваться в честности собеседника. Наконец он вскользь упомянул о доносе на Бирона и, как в прошлый раз, пообещал ему полное прощение, если маршал добавит кое-какие подробности к тому, что он сказал в Лионе. Бирон твердым тоном ответил, что ему не в чем сознаваться, поскольку он не знает за собой никакого преступления; что же касается клеветников, то он намерен отомстить за их гнусную ложь, как только узнает их имена. Король ничего не сказал и расстался с маршалом до вечера. После обеда Бирон нашел короля в большой зале, окруженного придворными. Генрих подозвал его и начал показывать картины и статуи, которыми он недавно украсил эту комнату. Остановившись перед статуей, изображавшей его самого с победным венком на голове, Генрих спросил с улыбкой: – Как вы думаете, маршал, какое впечатление произвела бы эта статуя на испанского короля? – Я полагаю, что он не струсил бы перед вами, государь, – ответил Бирон, но, видя, что придворные возмущены дерзостью его слов, маршал поспешил поправиться: – Мои слова, конечно, относятся к статуе, а не к вам, государь. После этих слов Генрих ушел в кабинет, позвав с собой Сюлли и королеву. Как только они остались втроем, король объявил им, что звание отца своего народа обязывает его неусыпно наблюдать за безопасностью государства и в данном случае он не видит иного средства охранить его спокойствие, кроме как арестовав Бирона. Однако воспоминание о лионском разговоре тревожило совесть короля, и после ужина он послал к Бирону Сюлли и графа Суассона, велев им от его имени пообещать маршалу прощение в обмен на его признание. Передав маршалу эти слова короля, граф Суассон добавил: «Так знайте же, сударь, что гнев короля есть предвестник смерти». Бирон отвечал им с еще большей заносчивостью, чем утром при встрече с королем. Наутро Генрих встал рано и сразу послал за Бироном. Король и маршал вышли в Вольерский сад и долго гуляли по аллеям. Генрих еще настойчивее убеждал Бирона не отягчать вину отпирательством, маршал в ответ обвинял короля в том, что он не держит своего слова. Генрих, смущенный дерзостью Бирона, не знал, на что решиться: заслуги и преступление маршала уравновешивали в его душе гнев и уважение к своему старому боевому товарищу. Отпустив Бирона, король долго молился, спрашивая у Бога, как ему поступить. Затем, созвав приближенных, он сказал, что не смог добиться от Бирона признания и потому отдает его в распоряжение министров. Все единодушно постановили сегодня же арестовать его вместе с графом д'Овернем, который также находился в Фонтенбло. Бирон в этот день получил несколько предостережений от сочувствовавших ему лиц, но не обратил на них никакого внимания. Пользуясь полной свободой передвижения (возможно, король еще надеялся, что маршал бежит, избавив его от необходимости строгих мер), он беспрепятственно вышел из Фонтенбло, а вечером вернулся, чтобы как ни в чем не бывало принять участие в карточной игре за королевским столом. В прихожей лакей подал ему записку от его сестры, графини де Руси, в которой говорилось, что он будет арестован не позже чем через два часа. Маршал показал записку своему адъютанту Варену. Тот, прочитав ее, сказал: – Я бы предпочел умереть сейчас от удара кинжала, если это заставило бы вас уехать отсюда. – Вздор, – засмеялся Бирон. – Король дал мне слово, Варен. К тому же кинжал лишает только жизни, а бегство – чести. Он беспечно присоединился к игрокам. Игра шла весь вечер. К Бирону несколько раз подходили знакомые, шепча ему на ухо, что его жизнь в опасности, но Бирон пропускал все намеки мимо ушей. Наконец граф д'Овернь подошел к нему и, дважды толкнув рукой в бок, произнес: «Нам здесь не место». Но король сам встал и отвел маршала в сторону. В ответ на новые увещевания Бирон твердил, что сломает своим клеветникам шеи, как только узнает их имена. Генрих покачал головой: – Итак, приходится узнавать истину от Иуды… Прощайте, барон Бирон! Эти слова, лишавшие Бирона всех титулов и званий, словно молния осветили ему его положение; только теперь он осознал, что с ним не шутят. Однако прозрение пришло слишком поздно. Сразу после ухода Генриха капитан королевской гвардии Витри с целой ротой солдат подошел к маршалу и потребовал его шпагу. – Ты шутишь? – произнес потрясенный Бирон. – Нет, так велел король. – Прошу тебя, дай мне поговорить с его величеством, – настаивал маршал. – Нет, – был неумолимый ответ, – король уже удалился в свои внутренние покои. Одновременно с Бироном был арестован граф д'Овернь. Он воспринял известие о своем аресте гораздо спокойнее. На предложение офицера Пралена отдать ему шпагу, граф переспросил: – Мою? – Вашу, сударь, конечно, вашу. – На, возьми, – пожал плечами д'Овернь, протягивая шпагу, – она никого не умертвила, кроме кабанов. Жаль, что ты не сказал мне о моем аресте раньше, – я бы успел выспаться. Других участников заговора оставили в покое. На другой день обоих пленников отправили по Сене в Париж и заключили в Бастилию. Маршала посадили в подземную тюрьму, а д'Оверня – во втором этаже той же башни. В камере Бирона постоянно находился лакей, приставленный для наблюдения, а у дверей камеры дежурила стража. Потерявший голову маршал не давал шпиону скучать – бранился, проклинал, угрожал… Д'Овернь, напротив, был спокоен и проводил дни, развлекаясь с охранниками игрой в карты, причем на славу угощал их при проигрыше. Прошение узников о помиловании было отклонено, и дело было передано на рассмотрение в парламент. Друзья маршала хотели устроить ему побег, но их план был раскрыт тюремным начальством. Бирон впал в еще худшее отчаяние. Однажды ночью он шагал из угла в угол, изрыгая потоки ругательств. В порыве злости он разодрал на себе рубашку и сорвал с шеи шнурок с медальоном, швырнув его на пол. Лакей поднял и подал ему медальон. Маршал взглянул на него и вдруг заплакал, как ребенок: портрет отца, вставленный в медальон, напомнил маршалу его пророческие слова. Бирон сделался слаб, безволен и попросил епископа для исповеди. Его просьбу исполнили. В таком же состоянии он пребывал во время допросов, вредя себе необдуманными ответами. Д'Овернь вел себя иначе: отвечал спокойно, обдуманно и отрицал все обвинения. 31 июля 1602 года 150 судей единогласно признали Бирона виновным по всем пунктам обвинения. Приговор гласил: «Герцог Бирон обвиняется в оскорблении величества, в заговорах против короля, в преступных замыслах против государства, в заключении союзов с врагами короля и отечества во время войны. В наказание за эти преступления герцог Бирон лишается всех политических и гражданских прав и приговаривается к казни на эшафоте, который будет воздвигнут на Гревской площади. Все состояние маршала, движимое и недвижимое, будет конфисковано в пользу короля». Приговор был зачитан маршалу в Бастилии, в десять часов утра того же дня, с присовокуплением решения короля: во избежание публичного позора казнить маршала не на Гревской площади, а в Бастилии (скорее всего решение Генриха было вызвано опасением возможных волнений в армии, где имя Бирона было чрезвычайно популярно). В пятом часу вечера Бирона вывели во двор Бастилии, где был воздвигнут эшафот. При виде палача, который хотел завязать ему глаза, маршалом овладела страшная ярость. Палач отступил на несколько шагов, к Бирону подошли священники и стали уговаривать его не противиться отправлению правосудия. Их слова несколько успокоили маршала. Он сам завязал повязку и, встав на колени, крикнул палачу: – Торопись, кончай скорее! Палач стал освобождать от волос его шею, но тут Бирон сорвал с глаз повязку и встал, проклиная все на свете. Он имел настолько безумный вид, что палач спрятал меч за спину от его взгляда и, как мог, пытался успокоить его. Наконец ему вновь завязали глаза. Палач сказал Бирону, что подождет, пока тот прочитает молитву, однако, заметив, что во время чтения рука маршала потянулась к повязке, ударил, не дав ему закончить. Присутствующие были поражены тем, что голова Бирона не покатилась по эшафоту, а три раза подпрыгнула на досках. В полночь ворота Бастилии отворились и гроб с телом маршала был отвезен в церковь Святого Павла, где шесть священников без всяких церемоний опустили его в яму. Генрих, видимо, так и не сумел заглушить в себе укоры совести, напоминавшие ему о данном им Бирону слове. Впоследствии, если он хотел доказать справедливость какого-нибудь своего решения, то обыкновенно говорил: – Это так же справедливо, как приговор Бирону. Лафен получил помилование. Что касается графа д'Оверня, то вот что пишет о его судьбе Сюлли: «Однородность преступления, совершенного графом Оверньским и герцогом де Бироном, и одинаково сильные улики, существовавшие против них, казалось, должны были бы повлечь за собою и одинаковое наказание. Однако судьба их была неодинакова. Король не только освободил графа Оверньского от смертной казни, но еще сделал для него тюремное заключение насколько возможно сносным… Сначала ему не дозволялась только прогулка на террасах. Я говорю – сначала, потому что впоследствии ему было все дозволено, а через несколько месяцев он был совершенно освобожден. Те, которые одинаково восхваляют все дела королей, как хорошие, так и дурные, конечно, найдут основание и для оправдания такой разницы в образе действий Генриха относительно двух людей, одинаково виновных. Что касается меня, то я слишком откровенен и сознаю, что король этот не заслуживает в этом деле никакой похвалы за свое великодушие и что граф Оверньский тем, что с ним хорошо обращались в Бастилии, обязан страстной любви короля к маркизе де Вернель – сестре графа. Тогда я держал это только в мыслях и два года не вымолвил об этом королю ни единого слова в разговорах с ним в том убеждении, что мои доводы будут бессильны против слез и просьб его возлюбленной, а раз факт совершился, бесполезно уже упоминать о промахах». Д'Овернь отплатил Генриху неблагодарностью, приняв два года спустя деятельное участие в новом заговоре против него. На этот раз король не был так снисходителен: граф просидел в Бастилии двенадцать лет и был выпущен уже при Людовике XIII. Возвращаясь к словам Сюлли, стоит заметить, что, при всех своих слабостях, Генрих IV все-таки был лучшим французским королем, и если он иногда и миловал людей, которые по закону должны были подвергнуться строгому наказанию, то по своему произволу не карал никого. Арест принца Конде После смерти Генриха IV парламент назначил регентшей при несовершеннолетнем Людовике XIII Марию Медичи, королеву-мать. Эта флорентийская принцесса в 1600 году привезла с собой из Италии свою молочную сестру Элеонору Галигай и бедного дворянина Кончино Кончини. Последний, заметив влияние, которым пользуется Галигай в глазах королевы, притворился влюбленным в нее и женился на ней (1601); одновременно он сделался любовником королевы. Галигай знала об этой связи и, по-видимому, была ею довольна, поскольку вскоре супруги Кончини приобрели такую власть над волей Марии Медичи, что она шагу не могла ступить, предварительно не посоветовавшись с ними. Подобно многим другим правителям, королева смотрела на Францию как на собственность, которой она может распоряжаться по своему усмотрению. Она передала все дела в руки Кончини, сделав его гофмейстером и управляющим своими имениями. Временщик купил титул маркиза д'Анкра; в 1613 году он стал первым министром и маршалом Франции – не зная законов и ни разу не обнажив шпагу, как острили при дворе. Стремительное возвышение никому не известного дворянчика, к тому же иностранца, возмутило герцогов Бульонского, Вандомского, Майенского и многих первых вельмож королевства. Они составили заговор и, опираясь на гугенотов, начали войну с королевой. Главой мятежников стал принц крови Конде, вернувшийся из Милана, где он находился в почетном плену у испанцев. Конде сам претендовал на корону. (Лозунгом его сторонников был клич «Barre a bas!» – «Долой полосу!»: в гербе принца, как и в гербе короля, цвели три лилии – различие между этими двумя гербами заключалось только в полосе, которая пересекала щит принца.) Успех сопутствовал ему, и после ряда побед над войсками королевы принц заключил выгодный для заговорщиков мир. Но чем больше давления победители оказывали на Марию Медичи, требуя от нее устранить ненавистного всем фаворита, тем сильнее она привязывалась к Кончини. Маршал со своей стороны убеждал ее, что заговор против него достиг такого размаха, что начинает угрожать и самой королеве. Летом 1616 года Мария Медичи покинула Париж, увезя с собой пятнадцатилетнего Людовика XIII. Они направились к границе с Испанией, чтобы встретить невесту короля – четырнадцатилетнюю Анну Австрийскую. Королева-мать чрезвычайно опасалась захвата столицы принцем Конде, который расположился с верной ему армией в районе Клермон-ан-Бовези. Она поручила епископу Люсонскому отвлечь принца переговорами, пока ее не будет в Париже. Этот тридцатидвухлетний прелат (в миру он носил имя Арман Жан дю Плесси) был крайне честолюбив. В молодости он недурно фехтовал и ездил верхом, но слабое здоровье заставило его предпочесть духовную карьеру светской и занять вакантное место епископа Люсонского. Правда, некоторые затруднения поджидали его и здесь: Арман Жан еще не достиг положенного для этого сана возраста. Но честолюбивый юноша легко вышел из положения. Во время обряда рукоположения в Риме он прибавил себе недостающие года, а затем, уже будучи посвящен в сан епископа, попросил у Папы Павла V отпущение грехов за свою ложь. Передают, что Папа не мог скрыть своего восхищения ловкостью нового пастыря. «Из этого молодого человека выйдет недюжинный плут! – будто бы воскликнул святой отец. – Он далеко пойдет!» Предсказание Павла V сбылось. Епископ Люсонский завоевал доверие Генриха IV, а затем и Кончини, который ввел его в состав министерства. Заняв место в Королевском совете, он почувствовал себя настолько независимым, что не стеснялся открыто перечить Людовику XIII. Переговоры с Конде епископ провел блестяще. Он добился приема у принца и уговорил его ехать в Париж для примирения с королевой. 7 июля принц прибыл в Париж с небольшой свитой, изумив этим рискованным шагом даже своих сторонников. Упустить столь благоприятный случай королева и Кончини, конечно, не могли. 1 сентября 1616 года принц Конде около получаса беседовал с королем. Когда он вышел из королевского кабинета, к нему подошел граф Лозьер, сын другого фаворита Марии Медичи – Темина, и передал, что королева желает видеть его в своих покоях. Они отправились к ней по длинному и узкому коридору. За одним из многочисленных поворотов принц лицом к лицу столкнулся с Темином, который именем короля приказал сопровождавшим его солдатам арестовать Конде. Это происшествие вызвало серьезные волнения в Париже. Жена Конде ездила по улицам, уверяя горожан, что ее мужа убили. Вооруженная толпа отправилась к Лувру, но не решилась штурмовать дворец и удовлетворилась тем, что разграбила дом Кончини. Другие мятежные принцы бежали из города и вскоре объявили о прекращении сопротивления. Конде двадцать пять дней содержали под арестом в Лувре; затем его перевезли в Бастилию и поместили в ту комнату, где сидел граф д'Овернь. (Незадолго перед тем графа освободили, и он, уходя, написал на дверях своей тюрьмы: «Комната сдается внаем». Комендант Бастилии Шатовье принял эту выходку за прощальную шутку.) Принц сразу написал королю и регентше, требуя гласного суда над собой; он писал и в последующие дни, пока не понял, что ответа не будет. Принца тщательно стерегли три тюремщика: Темин – как представитель королевы (за арест Конде он получил маршальский жезл); Тьер – как представитель Кончини; Персан – как представитель короля. Они должны были доносить о каждом слове, каждом движении принца. Сторожа скоро перессорились между собой и с тюремным начальством. Темин хотел стать комендантом Бастилии и требовал эту должность так настойчиво, что королева и Кончини приказали ему покинуть крепость. Но Темин отказался повиноваться, отстранил от командования крепостью Шатовье, который, впрочем, не особенно протестовал, и заперся в Бастилии, самолично приняв на себя обязанности коменданта. Кончини удалось связаться с Роза, лейтенантом гарнизона крепости. Маршал уговорил его впустить в Бастилию отряд Бассомпьера, капитана королевских мушкетеров. Лейтенант открыл ворота, и Темин был выгнан из крепости. Наверное, он был первым человеком, который покидал Бастилию с сожалением. Процесс над Элеонорой Галигай Между тем положение Кончини осложнилось тем, что теперь против него стали интриговать фавориты Людовика XIII. Главной фигурой среди них был сокольничий Карл Альбер де Люинь, пользовавшийся неограниченным влиянием на короля. За короткое время ему удалось полностью вывести Людовика из-под опеки Марии Медичи и настроить его против всемогущего временщика. Люинь, не стесняясь, заговаривал о необходимости убить Кончини, и король все охотнее прислушивался к его словам. А маршал д'Анкр ничего не хотел замечать. Его амбиции росли, теперь он домогался звания коннетабля, и, похоже, не только его: однажды на заседании Королевского совета он занял место опаздывавшего короля, чем совершенно шокировал присутствовавших. Он потерял всякую осторожность. Жена советовала ему уехать в Италию, прихватив с собой нажитое состояние; даже Мария Медичи, по словам кардинала Ришелье, «порядком устала от домогательств Кончини и советовала ему покинуть Францию». Но маршал не слушал ничьих предостережений. Его высокомерие угнетало даже его ставленников. 23 апреля 1617 года епископ Люсонский получил письмо, предупреждавшее его о существовании опасного заговора против жизни Кончини. Автор письма сообщал, что завтра капитан королевских мушкетеров де Витри попытается убить маршала д'Анкра. Епископ положил письмо под подушку и спокойно заснул. Мешать желаниям короля не входило в его намерения. На 24 апреля была назначена королевская охота. С утра у Лувра толпились вооруженные придворные. Ждали приезда маршала д'Анкра, но он опаздывал. Людовик ХIII и Люинь заметно нервничали. Около десяти часов утра на подъемном мосту Лувра появился Кончини, сопровождаемый шестьюдесятью дворянами. Дорогу ему преградили мушкетеры, во главе со своим капитаном де Витри. – Именем короля, вы арестованы! – твердо произнес де Витри. – Я? – растерянно переспросил Кончини и отпрянул к своей охране. Четыре пистолетных выстрела уложили его на месте. Стреляли Витри, Персан и еще двое мушкетеров. Кто-то из телохранителей Кончини выхватил шпагу, но Витри, наступив на тело маршала, остановил его словами: – Месье, я действовал по приказу короля! Телохранители маршала поспешно скрылись. Один из заговорщиков, д'Орнано, направился в Лувр с радостной новостью. Войдя к Людовику, он произнес только одно слово: – Сделано! Людовик бросился к окну кабинета. Заговорщики, увидев его, громко крикнули: «Да здравствует король!» Людовик был вне себя от радости. Распахнув окно, он восторженно восклицал: – Большое спасибо! Большое спасибо всем! С этого часа я король Франции! Он тут же вышел показаться народу, который на его глазах сорвал одежду с трупа ненавистного временщика, потащил его по земле и бросил в канаву. Убийцы Кончини получили истинно королевское вознаграждение: Витри был произведен в маршалы Франции, а Персан назначен комендантом Бастилии. – Отправляйтесь туда не один, – сказал король новому коменданту, – а захватите с собой Галигай. Элеонора Галигай проявила полное равнодушие к судьбе мужа. Назвав его «спесивым безумцем», она добавила: «Если он убит, значит, это угодно королю». Затем она высокомерно замолчала, с мрачной усмешкой наблюдая, как мушкетеры, явившиеся ее арестовать, грабят дом. Мария Медичи также поспешила отмежеваться от четы Кончини. – Пусть мне больше никогда не говорят об этих людях, – сказала она. – Я их предупреждала. Они должны были уехать в Италию. Предательство не помогло ей. Сын предпочел любить ее на расстоянии и сослал в Блуа. Вместе с королевой покидал Париж и епископ Люсонский. Людовик проводил его словами: – Наконец-то мы избавились от вашей тирании! Король заблуждался. Ему суждено было испытывать тиранию этого человека всю жизнь. Но, пока от окончательного падения епископа Люсонского спасло только то, что Люинь согласился принять его услуги в качестве тайного информатора при свергнутой королеве-матери. Место первого министра, освободившееся со смертью Кончини, занял Люинь. Королевский фаворит имел виды также на состояние убитого временщика, и Людовик готов был расплатиться с ним деньгами Кончини. Но конфисковать имущество маршала имел право только парламент, и здесь Люинь столкнулся с двумя существенными трудностями: чтобы присвоить богатства Кончини, ему нужно было судиться с покойником и выдвинуть серьезное обвинение против Галигай, которая иначе наследовала бы своему мужу. Люинь, не смущаясь, начал оба процесса – против покойного маршала и его живой вдовы. Доказать казнокрадство и злоупотребление властью со стороны Кончини не составило труда, но все попытки обличить Галигай в сопричастности к преступлениям мужа потерпели неудачу. Следователи предупредили Люиня, что если передать дело в парламент с такими ничтожными уликами, то Галигай несомненно оправдают. Люинь стал напряженно размышлять, какое обвинение можно предъявить жене маршала, и вскоре распорядился изменить направление следствия. Элеонора Галигай страдала сильными припадками ипохондрии – болезни, почти неизлечимой в то время. Еще при жизни мужа она, с согласия Марии Медичи, пригласила к себе врача-еврея по имени Монтальто (лечение у еврея требовало также разрешения Папы, и Галигай получила его). Одновременно она пользовалась услугами монахов, лечивших ее словом Божиим. На основании этих фактов следователи вынесли обвинение: лечась в одно и то же время у еврея и монахов, Галигай предавалась магии и колдовству. Представленные суду свидетели несли откровенную чушь о сношениях маршальши с нечистым, их «показания» к тому же были основаны исключительно на слухах. Дикость и нелепость обвинения заставили пятерых судей отстраниться от участия в процессе. Однако остальных членов парламента Люинь сумел убедить, что королю нужен смертный приговор над Галигай только для того, чтобы иметь возможность помиловать ее на эшафоте. Судьи поддались на эту уловку. Признав, что маршал д'Анкр и Элеонора Галигай, его супруга, предались иудаизму и колдовству и, следовательно, оскорбили божественное и человеческое величие, они постановили: «Память мужа да будет проклята на вечные времена, а жена, как живая, будет подвергнута смертной казни: голова ее должна быть отрублена на эшафоте, который будет воздвигнут для этой цели на Гревской площади. Ее голова и туловище затем будут брошены в огонь и превращены в пепел. Поместья, которые они получили от короны, должны быть присоединены к государственному имуществу; другие поместья и имущество, движимое и недвижимое, конфискуется в пользу короля». 8 июля 1617 года Галигай была казнена. Страшно опухшая из-за водяной болезни, поразившей ее в тюрьме, она сохраняла ясность духа и мужественно встретила смерть. «Не испугавшись приготовлений к смерти, – пишет современник, – она приняла ее с геройской и христианской твердостью, способной тронуть самое черствое сердце. Ярость народа превратилась в сострадание, и даже те, которые более других желали ее погибели, теперь плакали». «Как много собралось народа, чтобы видеть смерть несчастной!» – были ее последние слова. Конде после свержения Марии Медичи надеялся получить свободу, но его письма к королю по-прежнему оставались без ответа. Его жена, поселившаяся вместе с ним в Бастилии, не могла утешить его. Вскоре принц опасно заболел. Люинь, испугавшимся ответственности за возможную смерть принца крови, перевел Конде в Венсенский замок, где условия содержания были несравненно лучше. Между тем приверженцы принца и королевы-матери развязали новую междоусобицу. Епископ Люсонский почувствовал, что пришло время напомнить о себе. Предложив свои посреднические услуги, он сумел помирить Марию Медичи с Людовиком XIII, а для создания противовеса ее влиянию посоветовал Люиню освободить Конде. Однако принц отказался от милости, требуя, чтобы парламент публично объявил о его невиновности. Люинь согласился на это и 20 ноября 1619 года сам встретил принца у ворот Венсенского замка и с подобающими почестями проводил его к королю. Таким образом, Конде провел в заключении без суда и следствия три года и два месяца. Епископ Люсонский, вновь введенный Люинем в Королевский совет, стал терпеливо добиваться расположения короля. Сделать это ему было тем легче, что Людовик начал тяготиться властолюбием своего бывшего сокольничего. Люинь делал карьеру, идя по стопам Кончини. Заняв вместе со своими двумя братьями лучшие комнаты Лувра, он оттеснил Людовика ХIII на второй план и не считался ни с кем. Ему уже было мало должности первого министра, звания коннетабля и наместничества в Нормандии: теперь он требовал для себя титулов герцога и пэра Франции, ордена Святого Духа и губернаторства над Иль-де-Франс. Кроме того, он домогался руки сводной сестры Людовика XIII, принцессы крови. Епископ Люсонский возглавил оппозицию коннетаблю. Он лично написал анонимный памфлет против своего благодетеля, озаглавленный: «Приветственная речь и впечатления об умираюшей Франции». Внезапная смерть коннетабля в 1621 году, в возрасте тридцати двух лет, избавила епископа от необходимости затевать интригу, подобную той, которая привела Люиня к власти. Люинь умер в полном одиночестве. За те два дня, которые он болел, никто не пришел навестить его. Сразу после смерти коннетабля его хорошенькая вдова вышла замуж за герцога де Шеврез; Людовик же с облегчением признался, что эта смерть сделала его свободным. В следующем году епископ Люсонский получил долгожданную кардинальскую шапку и стал именоваться кардиналом де Ришелье. Бастилия при Людовике XIII и кардинале Ришелье Людовик XIII был странным человеком – без воли, без мыслей, без воображения, почти что без чувств (если говорить о любовных чувствах). Он не принес на престол ни идей, ни страстей. Неискоренимый инфантилизм его натуры властно требовал руководителя, на которого король мог бы переложить обязанность царствовать, жить, думать. «Людовик XIII, – пишет Ларошфуко, – отличался слабым здоровьем, к тому же преждевременно подорванным чрезмерным увлечением охотой. Недомогания, которыми он страдал, усиливали в нем мрачное состояние духа и недостатки его характера: он был хмур, недоверчив, нелюдим; он и хотел, чтобы им руководили, и в то же время с трудом переносил это. У него был мелочный ум, направленный исключительно на копание в пустяках, а его познания в военном деле приличествовали скорее простому офицеру, чем королю». Ведение государственных дел целиком перешло в руки кардинала Ришелье, который с 1624 года сделался всемогущ. Ришелье однажды сказал о себе: «Если я решился на что-нибудь, я смело иду к цели; я опрокидываю, уничтожаю все, что препятствует достижению моей цели, а потом все это покрываю моей красной мантией». Этой своей системе он оставался верен всегда, непоколебимо убежденный в том, что только он мог с пользой для страны управлять государственными делами. «У него был широкий и проницательный ум, нрав – крутой и трудный; он был щедр, смел в своих замыслах, но вечно дрожал за себя. Он задумал укрепить власть короля и свою собственную, сокрушив гугенотов и знатнейшие фамилии королевства, чтобы затем напасть на Австрийский царствующий дом и сломить могущество этой столь грозной для Франции державы. Все, кто не покорялись его желаниям, навлекали на себя его ненависть, а чтобы возвысить своих ставленников и сгубить врагов, любые средства были для него хороши» (Ларошфуко). Справедливости ради отдадим должное Ришелье – всякое дело он доводил до конца, не считаясь с затраченными на него усилиями и средствами. Если бы не его решительность, гражданская война тлела бы еще долго, то затухая, то разгораясь ярким пламенем; но он взял Ла Рошель, про которую придворные говорили королю, что взять ее невозможно, сделал необходимые уступки гугенотам – и мир в стране был водворен. Для укрепления королевской власти он подчинил себе короля и преследовал его мать, жену, брата, пока не лишил их всякого влияния; он рубил головы знати, не щадя даже королевских фаворитов, ссылал и заключал в тюрьмы всех, кто осмеливался поднять голову; он не останавливался ни перед какой жестокостью и окончил дело, начатое Людовиком XI, – уничтожил феодализм и укрепил королевскую власть настолько, что отныне ее могущество оставалось незыблемо, каковы бы ни были личные свойства монархов. Ришелье любил повторять, что следы чужой крови не заметны на его красной мантии. В его восемнадцатилетнее правление тюрьмы Бордо, Кайена, Дижона, Лиона, Амбуаза, Блуа, Венсена были переполнены заключенными, которых Ришелье старался разбросать по всей Франции. Но он стремился сохранить видимость правосудия: при нем в тюрьму заключали только по приговору суда; впрочем, приговор часто не имел под собой других оснований, кроме подозрений и страха. Бастилия при нем окончательно превратилась в государственную тюрьму. Ришелье назначил комендантом крепости Леклерка Трамбле, брата «серого кардинала» – отца Жозефа[19]. В Бастилии содержалось наибольшее число арестантов (к временам Ришелье относится первый дошедший до нас список заключенных Бастилии). Поводом к их заключению могли быть самые различные обстоятельства, но вина у этих людей была одна – все они когда-то перешли дорогу кардиналу. Например, маршал д'Орнано, гувернер Гастона Орлеанского, брата короля, был заподозрен в том, что восстанавливает принца против Ришелье; его два раза арестовывали и сажали в Бастилию, умер он в Венсене. Графы Русси и Сюз подозревались в связях с гугенотами. Маркизы Равальяк, Озигье, аббат Фуа, братья Ланглуа выступали против осады Ла Рошели. Кавалеры Гольмен, Варикур и граф Крамай имели несчастье хранить преданность Марии Медичи. Маршал Бассомпьер, принц де Марийак, кавалеры Монтегю и Ла Порт, госпожа Гравелла, граф Шале, командор[20] де Жар были посредниками в связях Анны Австрийской с Испанией и Англией или участниками придворных интриг и заговоров против Ришелье. Наконец, маркиз д'Ассинье содержался в Бастилии «для охранения интересов семейства кардинала», – как свидетельствует тюремный документ. Даже иностранцы не миновали Бастилии – одно время в ней находился польский принц Казимир. Может быть, существовала только одна категория бастильских заключенных, которая не затронула личные интересы кардинала, а именно арестованные за нарушение эдикта против дуэлей. Ришелье основывал запрещение дуэлей на том, что они лишают государство слишком большого числа слуг – примерно 220 дворян в год. Однако некоторые мемуаристы-современники указывают на то, что и данный эдикт стоял прежде всего на страже интересов кардинала: по их словам, противники Ришелье часто вызывали на дуэль его сторонников, из-за чего кардинал терял многих верных людей. Примером суровой расправы с нарушителями эдикта может служить судьба графа Бутвилля. Он прибыл в Париж из Брюсселя на почтовых для поединка с маркизом Девроном. Дуэль состоялась среди бела дня на Королевской площади; секундант Деврона был убит. Маркиз не успел бежать и был арестован. Парламент приговорил его к смертной казни. Ждали, что король помилует провинившегося, но Людовик не посмел пойти против воли кардинала, за что и получил насмешливое прозвище «Справедливый». Заговоры против Ришелье следовали непрерывной чередой, начиная с 1626 года и вплоть до его смерти. Неизменным тайным или явным вождем всех их был брат короля Гастон Орлеанский. Слабое здоровье короля и отсутствие у него мужского потомства заставляло заблаговременно подумать о престолонаследии (будущий Людовик XIV появился на свет только в 1638 году). Поэтому в 1626 году восемнадцатилетний Гастон был официально объявлен дофином. Вокруг него сразу же сплотились все недовольные кардиналом. Инициаторами первого заговора – так называемого «заговора Шале» – были воспитатель принца маршал д'Орнано, сводные братья короля герцоги Вандомы, принц Конде, граф Суассон, Анна Австрийская и ее фаворитка герцогиня де Шеврез, бывшая жена Люиня. Заговорщики планировали убить Ришелье, удалить Людовика XIII в монастырь и возвести на престол Гастона Орлеанского; брак принца с Анной Австрийской должен был придать необходимую законность перевороту. В случае неудачи было решено призвать французскую знать к оружию и просить военной и денежной помощи у Испании, Англии, Австрии и Голландии. Кардинал почувствовал угрожавшую ему опасность. Однако на первых порах он, видимо, просто считал, что воспитатель принца настраивает своего подопечного против него. Ришелье добился ареста д'Орнано, не подозревая, что этим шагом ускорил созревание заговора. Встревоженные заговорщики решили поторопиться с исполнением своих планов. Герцогине де Шеврез удалось найти человека, согласившегося взять на себя наиболее ответственную часть заговора – убийство Ришелье: им был двадцатисемилетний граф де Шале, главный гардеробмейстер короля. Шале было поручено убить кардинала в его летней резиденции Флери, около Фонтенбло, во время визита Гастона Орлеанского. В случае успеха граф рассчитывал на головокружительную карьеру и благосклонность госпожи де Шеврез. Этим радужным надеждам не суждено было сбыться из-за болтливости самого Шале. Он позволил себе излишнюю откровенность со своим дядей, командором де Балансе, который поспешил передать разговор с племянником кардиналу. Убийство было назначено на 11 мая 1626 года. Шале, прибывший в Флери со своими сообщниками, был изумлен и растерян, увидев усиленные караулы, расставленные по всему дворцу, и самого кардинала в окружении отряда телохранителей (до сих пор у Ришелье не было охраны). Удрученный неожиданным препятствием и терзаемый страхом, что заговор раскрыт, Шале покинул Флери. Ришелье немедленно отправился к Гастону Орлеанскому в Фонтенбло, где застал его еще в постели. Принц не выдержал допроса, сознался в существовании заговора и выдал всех его участников. Шале на этот раз был прощен[21], а в тюрьму вслед за маршалом д'Орнано отправились братья Вандомы. Их содержали в Венсенском замке, который считался как бы филиалом Бастилии. С этого времени Ришелье получил королевское разрешение на создание своей гвардии. Пятьдесят мушкетеров кардинала (впоследствии их число было доведено до 300) носили красные плащи, цвета кардинальской мантии, с нашитыми серебряными крестами. Еще одним влиятельным противником Ришелье была Мария Медичи, раздраженная тем, что ее бывший управляющий совсем не считается с ней в политических вопросах. Дважды королева-мать едва не добилась от сына отставки кардинала. Первая схватка между ними произошла в 1630 году. Тогда Марии Медичи удалось убедить Людовика в том, что кардинал влюблен в его супругу, королеву Анну Австрийскую (справедливость этого обвинения до сих пор остается спорной). После истории с Бэкингемом король болезненно переживал малейшее сомнение в супружеской верности королевы. Некоторое время казалось, что он готов был прогнать кардинала; он даже спросил королеву-мать, кого можно было бы поставить вместо него во главе правительства. Однако этот вопрос застал Марию Медичи врасплох, и она ничего не ответила сыну. Ришелье сумел воспользоваться ее непростительным промахом, чтобы рассеять подозрения Людовика. «Вскоре после этого, – сообщает Ларошфуко, – король занемог, и настолько опасно, что все сочли его болезнь безнадежной. Королева-мать, видя, что он на краю могилы, задумала опередить кардинала. Она приняла решение арестовать его, как только умрет король, и заточить в Пьер-Ансиз…» Однако опасения за жизнь Людовика оказались преувеличенными. «После выздоровления короля, – продолжает Ларошфуко, – двор возвратился в Париж, и королева-мать, переоценив свое могущество, снова ополчилась на кардинала в День Одураченных (10 ноября 1630 году. – С.Ц.). Этот день получил такое название из-за произведенных им внезапных переворотов и притом тогда, когда влияние королевы [-матери] представлялось наиболее незыблемым и когда король, чтобы быть ближе к ней и уделять ей больше заботы, поместился в особняке чрезвычайных послов близ Люксембургского дворца. Однажды, когда король затворился наедине с королевою, она опять стала жаловаться на кардинала и объявила, что не может больше терпеть его у кормила государства. Понемногу оба собеседника начали горячиться, и вдруг вошел кардинал. Королева, увидев его, не могла сдержать своего раздражения: она принялась упрекать его в неблагодарности, в предательствах, которые он совершил по отношению к ней, и запретила ему показываться ей на глаза. Он пал к ее ногам и пытался смягчить ее своей покорностью и слезами. Но все было тщетно, и она осталась непреклонной в своей решимости». Слух об опале Ришелье немедленно распространился при дворе. Его приемная опустела: придворные наперегонки устремились в Люксембургский дворец. Но вечером, когда стало известно, что король уехал в Версаль и что кардинал последовал за ним, толпа вельмож откочевала назад. «Королеве советовали сопровождать короля, – пишет все тот же автор, – и не оставлять его в таких обстоятельствах наедине с его собственной неуверенностью и лукавыми уловками кардинала, но боязнь томиться в Версале от скуки и жить там без привычных удобств оказалась для нее непреодолимым препятствием, и столь разумный совет был ею отвергнут». Следствием этого странного сибаритства в тот момент, когда на карту было поставлено столь многое, было то, что Марии Медичи пришлось испытывать скуку и неудобства всю оставшуюся жизнь, скитаясь изгнанницей по городам Англии, Фландрии и Голландии. Последним ее пристанищем стал Кельн, где она и умерла в 1642 году. День Одураченных привел в Бастилию братьев де Марийак, до конца державших сторону королевы-матери. Маршал Луи де Марийак, известный полководец, окончил свои дни на Гревской площади; его брат Мишель, советник Парижского парламента, член Королевского совета, управляющий финансами и хранитель печати, оставался в тюрьме до самой смерти. Женщины вообще причиняли кардиналу немало хлопот. Помимо королевы-матери, в числе его врагов были Анна Австрийская и ее фаворитка герцогиня де Шеврез. Его отношения с последней добавляли к политическим неприятностям еще и любовные. Мемуаристы той эпохи единодушны в том мнении, что Ришелье был неравнодушен к герцогине. «Этот министр, – пишет госпожа де Мотвиль, – никогда не испытывал к ней ненависти, несмотря на свои неприязненные с ней отношения. Ее красота пленила его». Действительно, если Анну Австрийскую называли первой красавицей Европы, то госпожу де Шеврез с полным правом можно назвать второй красавицей. Высокая, стройная, с голубыми глазами и роскошными светло-каштановыми волосами, она поражала мужчин каким-то неуловимым сочетанием живости, нежности, грации и страсти, запечатлевшимися в ее лице, голосе, фигуре – во всем ее очаровательном облике. Многочисленность ее любовников и еще более значительное число ее поклонников не должны ставить под сомнение искренность ее чувств: полюбив, она стремилась целиком принадлежать своему избраннику, – вплоть до того, что усваивала его политические взгляды. Этим отчасти и объясняется частая смена ее возлюбленных – все они были врагами Ришелье и поэтому рано или поздно покидали герцогиню, чтобы отправиться на плаху, в тюрьму или в изгнание. После заговора Шале госпожа де Шеврез оказалась вовлечена в заговор Шатонефа. Карл де л'Обепен, маркиз де Шатонеф, губернатор Турени, в 1630 году сменил арестованного Мишеля де Марийака на посту хранителя печати. Это была милость Ришелье, отметившего таким образом преданность Шатонефа, которую он до сих пор неизменно демонстрировал. Новый канцлер отличался чрезвычайной работоспособностью и решительным характером – качествами, чрезвычайно ценимыми кардиналом. Но Шатонефа погубили две вещи, одинаково недопустимые для политика: непомерно раздутое честолюбие и ослепление любовью. Когда он познакомился с герцогиней де Шеврез, ему было пятьдесят лет. В этом возрасте страсть к тридцатилетним женщинам обычно оказывается для мужчины роковой; случай Шатонефа не стал исключением из общего правила. Полюбив герцогиню, канцлер естественным образом очутился в лагере Анны Австрийской и по ее просьбе вступил в тайную переписку с иностранными дворами. Ришелье недолго оставался в неведении о двойной измене своего протеже: политической и любовной. Его отношение к Шатонефу окончательно изменилось в конце 1632 года, когда канцлер позволил себе чересчур увлечься танцами на балу во дворце, в то время как кардинал, прикованный к постели одной из своих многочисленных болезней, с минуты на минуту ожидал смерти и диктовал завещание. В феврале 1632 года Шатонеф был арестован, все его бумаги опечатали. В архиве канцлера Ришелье обнаружил множество писем опального герцога Вандома, командора де Жара, других вельмож, находившихся в оппозиции к кардиналу, а также английской королевы. Но больше всего его взбесили пятьдесят два письма госпожи де Шеврез, полных насмешек в его адрес и объяснений в любви к Шатонефу. Влюбленные использовали нехитрый цифровой шифр, который нетрудно было разгадать. Вот образец этой преступной корреспонденции: «28 (госпожа де Шеврез) жалуется 38 (Шатонефу) на своего слугу, который так мало уверен в великодушии и дружбе своего господина, что спрашивает, уж не пренебрегает ли им 28 ради 22 (Ришелье)? Напрасно вам пришла в голову такая мысль; душа 28 не способна к таким низким чувствам. Я обращаю внимания на благорасположение 22 не более, чем на его могущество…» «Жестокость 22 с минуты на минуту увеличивается. Он злобствует и приходит в ярость, потому что 28 не хочет его посетить. Мне кажется, что милости 23 (короля) до последней степени раздули его гордость. Он думает испугать 28 своим гневом и уверен, что 28 употребляет все усилия для его смягчения; но 28 желает лучше погибнуть, нежели покориться 22» и т. д. Шатонефа заключили в Ангулемскую тюрьму, а госпожу де Шеврез кардинал отправил в ссылку в Дампьер – он щадил ее в надежде на примирение. Весь свой гнев кардинал выместил на командоре де Жаре. Командор примкнул к партии королевы по той же причине, что и канцлер, – его привлекла красота госпожи де Шеврез. Кажется, она сильно кокетничала с ним; во всяком случае, де Жара не покидала надежда на взаимность. Он был арестован зимой 1633 года в тот день, когда намеревался последовать за своей возлюбленной в место ее ссылки. Его бросили в самый ужасный каземат Бастилии, где он провел одиннадцать месяцев. Комендант Трамбле не позволял узнику менять белье, платье и морил его голодом; ногти и волосы командора отросли до чудовищных размеров, одежда на нем истлела и едва прикрывала его изможденное, полуобнаженное тело. Глядя на де Жара, трудно было поверить в то, что это еще совсем молодой человек. Командор переносил лишения с удивительной твердостью, тюремщики не слышали от него ни одной жалобы. Де Жара поддерживала мысль, что он страдает за свою возлюбленную; любовь сделала из этого светского щеголя стоика. Ришелье поручил вести расследование по его делу опытному чиновнику – интенданту[22] Шампани де Ла Феймасу. Этого человека называли «палачом кардинала», так как Ришелье использовал его для исполнения самых грязных и жестоких поручений. Кардинал уполномочил Феймаса действовать по своему усмотрению и во что бы то ни стало вырвать у командора признание в существовании заговора с участием королевы, Шатонефа и госпожи де Шеврез. Феймас начал с того, что облегчил условия содержания де Жара и постарался сблизиться с ним, но эта уловка ему не удалась. Тогда он надел личину сострадательного судьи, побуждая командора сознаться для облегчения своей участи, – бесполезно. Угрозы тяжелого наказания также оставили де Жара равнодушным. Всего Феймас учинил командору 24 (!) допроса, но тот ни одним словом не выдал ни себя, ни герцогиню де Шеврез, ни королеву. Наконец его предали суду, на котором председательствовал сам Ла Феймас. После вынесения приговора интендант пришел в тюрьму к де Жару, чтобы лично сообщить ему решение суда: смертная казнь. Командор остался невозмутим, ни один мускул не дрогнул на его лице. Его отвели в пыточную и показали ужасные орудия и приспособления, с помощью которых Ла Феймас клялся выудить у него правду. На губах командора играла улыбка. Взбешенный Ла Феймас завопил: – Через час вы будете обезглавлены! Де Жар пожал плечами. Его отвели обратно в камеру. Когда явился палач, Де Жар спокойно дал связать себе руки, обстричь волосы и последовал за стражей. Он поднялся на эшафот без посторонней помощи и, последний раз взглянув на небо, бросил палачу: – Я готов. После этого он встал на колено и положил голову на плаху. В то мгновение, когда палач занес топор, рядом с эшафотом раздался возглас: – Остановитесь! Король милует! Палач отбросил топор, поднял с колен командора и развязал ему глаза. Оглушенный, ослепленный де Жар ничего не понимал. Оказалось, что смертный приговор был последней уловкой Ла Феймаса, чтобы выудить у командора признание. Дело в том, что судьи вначале признали де Жара невиновным, и Ла Феймас доложил об этом кардиналу. Ришелье приказал осудить командора на смерть, с тем чтобы помиловать его на эшафоте. Судьи выполнили распоряжение кардинала, но на этот раз история Галигай не повторилась. Однако помилование не означало обретения свободы. Де Жара вновь заключили в Бастилию, хотя значительно улучшили его содержание, – Ришелье словно почувствовал к нему уважение. Он действительно пытался склонить де Жара на свою сторону различными блестящими предложениями, но тот отверг их. Через несколько лет де Жар был выпущен из тюрьмы и получил разрешение жить в Италии. Кроме того, с него взяли обещание, что он не станет разыскивать герцогиню де Шеврез, которая к тому времени возвратилась во Францию и жила в Туре. Ришелье простил человека, обвиненного в государственной измене, но не простил своего соперника в любви. Де Жару удалось оказать еще одну услугу госпоже де Шеврез и королеве, причем находясь в Бастилии. С 1633 по 1637 год госпожа де Шеврез жила в Туре и вела обширную переписку с Анной Австрийской, а также с испанским и английским дворами. Письма проходили через придворного камердинера Ла Порта, доверенное лицо королевы, который в свою очередь вручал их своим людям для доставки по адресу. Один из этих агентов и выдал тайну переписки кардиналу. Ла Порта отправили в Бастилию, где ему учинили несколько строгих допросов. Над головой Анны Австрийской сгустились тучи. На основании перехваченного письма кардинал обвинил ее в тайных сношениях с маркизом Мирабелем, испанским послом. «На эти сношения посмотрели как на государственную измену, – говорит Ларошфуко, – и королева почувствовала себя как бы подследственной, чего еще никогда не испытывала. Некоторые из ее слуг были арестованы, шкатулки с бумагами отобраны; канцлер (Пьер Сегье. – С.Ц) допросил ее, как простую подсудимую; предполагалось заточить ее в Гавре, расторгнуть ее брак с королем, дав ей развод». Своим спасением на этот раз Анна Австрийская была обязана верным Ла Порту и де Жару. Вот что сообщает об этом деле госпожа де Мотвиль: «Королева, чтобы получить прощение, была вынуждена подписать собственной рукой признание себя виновною во всех пунктах, которые ей предлагали, и просила у короля прощения с видом унижения и глубокой покорности… Но все были убеждены в ее невиновности. Действительно, она была невиновна в отношении к королю и, напротив, была виновна в том (если только за это можно ее обвинять), что писала к испанскому королю, своему брату, и к госпоже де Шеврез. Обо всех подробностях этого дела мне рассказывал сам Ла Порт, слуга королевы… Он был арестован как передатчик всех писем королевы к испанскому королю и госпоже де Шеврез. Ла Потери (следователь. – С.Ц) допрашивал его три раза в Бастилии. Кардинал хотел лично допрашивать его в присутствии канцлера, призвал его в свою комнату и с угрозами предлагал ему вопросы о таких вещах, которые могли бы послужить к обвинению королевы; но Ла Порт постоянно оставался непреклонным и ни в чем не сознавался, отказываясь от денег и наград, которые ему обещали, и объявив, что скорее умрет, нежели обвинит королеву в таких поступках, в которых считает ее совершенно невиновною. Кардинал Ришелье, удивленный такой преданностью и вполне убежденный, что Ла Порт скрывает правду, хотел во что бы то ни стало приобрести себе такого верного человека. Между тем перехватили еще одно письмо, написанное королевой цифрами, и показали ей. Она не могла отринуть улики; необходимо было об этом сообщить Ла Порту для избежания разногласий (при допросах. – С.Ц.). В этих-то обстоятельствах госпожа де Отфор[23] решилась добровольно собою пожертвовать за королеву и, переодевшись служанкой, отправилась в Бастилию для передачи письма Ла Порту. Это удалось, хотя и с величайшими трудностями и опасностью, благодаря искусству командора де Жара, который тогда еще сидел в Бастилии. Будучи приверженцем королевы, он увлек в ее пользу многих из тамошних людей (т. е. тюремщиков. – С.Ц.) и мог через них доставить письмо Ла Порту. В этом письме извещали его о том, в чем призналась королева. Ла Порт, вновь допрошенный Ла Феймасом, страшась обыкновенной и необыкновенной пытки, показал притворный вид испуганного и сказал, что откроет все, о чем знает, если к нему пришлют одного из доверенных чиновников королевы. Ла Феймас тотчас вообразил себе, что склонил его на свою сторону, и отвечал ему позволением выбрать, кого он хочет, и обещанием исполнить его желание. Ла Порт назвал одного из чиновников королевы и друзей Ла Феймаса, по имени Ларивьер, человека, о котором он был дурного мнения, чья кандидатура и была принята Ла Феймасом с величайшим удовольствием. Король и кардинал велели позвать Ларивьера. Ему было приказано, не заходя к королеве, отправиться к Ла Порту. Подкупленный различными обещаниями, он взялся за все, что им было угодно. Пришедши в Бастилию, он требовал от имени королевы, чтобы Ла Порт рассказал все, что знает о ее действиях. Ла Порт притворился, будто верит приказанию королевы, и, после продолжительного молчания, передал то же самое, что показала королева, прибавив, что более ничего не знает. Это смутило кардинала и обрадовало короля. Ла Порт, человек честный и искренний, уверял меня, что когда он увидел письма, о которых шла речь, и прочитал их содержание, то мог только удивляться, как из-за них могли обвинять королеву! Кроме насмешек над кардиналом, он ничего не нашел в них против короля и государства». Ла Порт подтверждает этот рассказ в своих записках, добавляя, что никаких «замыслов» не было и в переписке королевы с госпожой де Шеврез и что все это дело было затеяно для «компрометации госпожи де Шеврез и распространения в публике слухов об огромном заговоре против государства.» «Не надо забывать, – напоминает Ла Порт, – что кардинал имел обыкновение ничтожные вещи выдавать за обширные заговоры». Историки не столь благодушны в оценке переписки Анны Австрийской с иностранными державами. В ее письмах испанскому королю содержались, по крайней мере, три пункта, весьма смахивающие на государственную измену: сообщение об отправке французским правительством в Испанию монаха с тайным поручением; информация о стараниях Франции сблизиться с герцогом Лотарингским и предупреждение о том, что Англия в скором времени может стать союзницей Франции. А ведь были и другие письма, не попавшие в руки Ришелье. Похоже, что Анна Австрийская, «с видом унижения и глубокой покорности», покаялась лишь в малой части своей антигосударственной деятельности и что кардинал был прав относительно «замыслов», содержащихся в ее переписке с госпожой де Шеврез. Зато по отношению к маршалу Франсуа де Бассомпьеру кардинал проявил жестокость, не оправданную никакими государственными соображениями. Бассомпьер по природе был совершенно безобидное существо. Местом капитана королевских телохранителей он был более всего обязан своему успеху у женщин (некоторые злые языки даже называли его настоящим отцом Людовика ХIII, поскольку Бассомпьер долгое время был любовником Марии Медичи). Впрочем, жезл маршала Франции Бассомпьер добыл, оказав королю услуги как на полях сражений, так и в дипломатических миссиях в Швейцарии, Испании и Англии. Ришелье долго искал предлог арестовать его, так как Бассомпьер определенно предпочитал кардиналу женщин и после падения королевы-матери стал на сторону Анны Австрийской. Кроме того, однажды в Лионе, во время болезни Людовика ХIII, кардинал просил Бассомпьера передать ему начальство над швейцарцами. Маршал тогда отказался выполнить эту просьбу, и Ришелье не забыл этого: преданность королю без преданности ему самому была в глазах кардинала государственным преступлением. 26 января 1631 года Бассомпьер был арестован. Вот что он сам пишет об этом: «В среду, 26 числа, Трамбле посетил меня и сказал мне от имени короля, что его величество приказал арестовать меня не за какую-либо вину, так как считает меня своим верным слугой, но из опасения, чтобы меня не побудили сделать что-нибудь дурное, и что король приказал уверить меня, что я недолго останусь в Бастилии. Это меня очень утешило». Мало с кем Ришелье поступал так коварно и вероломно, как с Бассомпьером. Маршала посадили в ту камеру, где дожидался смерти маршал Бирон. Ришелье то подавал ему надежду на освобождение, то забывал о нем. Не подлежит сомнению, что это была новая пытка, изобретенная кардиналом. В остальном узника не стесняли – ему дозволялось расхаживать по всей Бастилии, иметь двух лакеев и повара, которым отвели помещение рядом с его комнатой, и т. д. Бассомпьер верил и надеялся до того дня, когда госпожа Беврон, его племянница, добилась наконец свидания с кардиналом. На просьбы молодой женщины освободить Бассомпьера Ришелье ответил, что ее дяде не на что жаловаться, поскольку он сидит только пять лет, между тем как граф д'Овернь провел в Бастилии двенадцать лет. После этого разговора маршал просидел в Бастилии еще семь лет. За это время он потерял семью, имущество и должность капитана швейцарцев, которую его заставили продать за бесценок. Все же даже здесь он сумел оправдать свою репутацию соблазнителя, добившись любви Мари д'Эстурнель, заключенной в Бастилию по подозрению в заговоре. Смерть кардинала доставила Бассомпьеру свободу и радость, которую ему не с кем было разделить. Кардинал Ришелье умер в 1642 году. Его красная мантия действительно покрыла потоки пролитой им крови и сотни искалеченных судеб. Даже Ларошфуко, испытавший на себе и опалу, и заключение в Бастилию, признавал: «Никто лучше его не постиг до того времени всей мощи королевства и никто не сумел объединить его полностью в руках самодержца. Суровость его правления повела к обильному пролитию крови, вельможи королевства были сломлены и унижены, народ обременен податями, но взятие Ла Рошели, сокрушение партии гугенотов, ослабление Австрийского дома, такое величие в его замыслах, такая ловкость в осуществлении их должны взять верх над злопамятством частных лиц и превознести его память хвалою, которую она по справедливости заслужила». После его смерти все заключенные Бастилии и других тюрем были освобождены. Король пережил кардинала на год. Бастилия во времена Фронды Людовику XIV было всего пять лет, когда умер его отец. По завещанию Людовика ХIII управление делами государства перешло в руки Опекунского совета, куда вошли Анна Австрийская, Месье (Гастон Орлеанский), принц Конде, кардинал Мазарини и несколько других вельмож. Вскоре двор заполнился теми, кто пострадал при кардинале Ришелье; большинство из них сохранило преданность королеве, которая заручилась также поддержкой Парижского парламента. Опираясь на дворянство и парламент, Анна Австрийская легко добилась того, что завещание Людовика XIII было признано недействительным, а сама она была провозглашена единовластной регентшей. Портфель первого министра сохранился за Мазарини, который получил его из рук умирающего Ришелье. Повторялась ситуация времен регентства Марии Медичи: итальянец, опираясь на милость королевы-иностранки, управлял Францией с полновластием абсолютного государя. Однако было бы неверно говорить, что кардинал не заботился об интересах Франции, – напротив, он со славой закончил Тридцатилетнюю войну и во внешней политике довершил дело, начатое Генрихом IV и продолженное Ришелье, – сокрушил могущество Габсбургов в Европе. Но своей внутренней политикой Мазарини навлек на себя ненависть народа, так как обременил провинции и города новыми податями и налогами. Парижский парламент первым открыто возмутился этим беззастенчивым грабежом страны и подал королеве на утверждение так называемые парламентские реестры, то есть законопроекты, которые предусматривали преобразование администрации и содержали две статьи, имеющие конституционное значение: о том, что новые налоги могут вводиться только с согласия парламента, о том, что лица, арестованные по указу короля и не допрошенные в течение двадцати четырех часов, подлежат освобождению из-под стражи. Королева вознегодовала на «эту сволочь, которая осмеливается вмешиваться в вопросы о реформах в государстве», и прямо спросила: не считает ли парламент себя вправе ограничивать королевскую власть? Не услышав столь же прямого ответа, она хотела арестовать некоторых парламентских советников, чтобы окончательно привести парламент к покорности, но Мазарини, не меньше королевы ненавидевший представительные учреждения, убедил ее не торопиться с репрессиями (в подобных случаях кардинал обычно повторял любимую поговорку: «Время и я»). Члены парламента, сказал он, подобны школьникам, которые швыряют камни из пращи (fronde) в парижские каналы и разбегаются при виде губернатора. Эти слова стали широко известны в городе. 26 августа 1648 года в соборе Парижской Богоматери должен был состояться благодарственный молебен по случаю победы великого Конде[24] над испанцами при Лансе. Кардинал, окрыленный столь крупным успехом, задумал использовать богослужение, по словам Ларошфуко, не столько против врагов государства, сколько против самого государства, и велел арестовать президента парламента Бланмениля и советника Брусселя. Таков был его ответ на парламентские реестры. Однако эта мера не оправдала ожиданий кардинала. Народ взялся за оружие: улицы перегородили цепями, повсюду выросли баррикады. Противники кардинала называли себя фрондерами, в память презрительных слов, сказанных Мазарини о парламенте. Королю, королеве и кардиналу пришлось выдержать осаду в Пале-Рояле, и они оказались вынуждены отпустить арестованных. Это было начало Фронды. После Дня баррикад парламент осмелел еще больше; к мятежным судейским примкнули многие влиятельные вельможи. Мазарини, сочтя, что оставаться в Париже ему больше небезопасно, решил, по уговору с Месье и принцем Конде, окружить город войсками, предварительно увезя короля в Сен-Жермен. Он рассчитывал, что Париж, не имевший регулярных войск и запасов продовольствия, примет все условия, какие ему навяжут. В ночь на 6 января 1649 года королевская семья и Мазарини тайно покинули Париж; за ними в величайшем беспорядке последовал весь двор. Расчет Мазарини на быструю победу оказался неверен. Оправившись от смятения, парламент быстро организовал оборону Парижа, вооружил горожан и назначил принца Конти генералиссимусом, а герцога д'Эльбефа комендантом города. Мазарини был объявлен нарушителем общественного спокойствия, врагом короля и государства, в связи с чем ему было приказано в течение недели покинуть страну. 11 января парламент приказал Конти и д'Эльбефу взять Бастилию, про которую во время этих бурных событий все как-то забыли. По барабанному бою ополченцы собрались на Гревской площади и вокруг ратуши. В толпе царило необыкновенное оживление, горожане потрясали оружием и кричали: – На Бастилию! На Бастилию! Д'Эльбеф привел к крепости несколько тысяч человек и отправил к коменданту парламентера – своего сына, графа де Рье, с требованием капитуляции. Комендантом Бастилии был все тот же Трамбле – едва ли не единственный ставленник Ришелье, который избежал немилости после его смерти. Бегство двора поставило его в весьма трудное положение. В Бастилии не было ни хлеба, ни военных припасов, а ее гарнизон состоял всего из двух десятков солдат. Не желая обнаружить малочисленности гарнизона Бастилии, Трамбле встретил парламентера у ворот крепости. Доводы де Рье выглядели более чем убедительными для такого беспринципного человека, как Трамбле, и комендант уже подумывал ответить на них согласием, как вдруг к нему подошел офицер и что-то шепнул на ухо. Трамбле сразу изменил тон и заносчиво сказал, что он не только не объявит о капитуляции, но, напротив, сам начнет громить Париж из пушек с высоты крепостных стен, если парламент не выразит покорности королю. Причиной его неуступчивости было известие о том, что на помощь Бастилии идет королевская армия. Действительно, через несколько минут до слуха де Рье донеслись звуки выстрелов и крики, раздававшиеся со стороны Сен-Антуанского предместья. Он поспешил назад к отцу, который разговаривал с маркизом Нуармутье. Почти в то же время к ним подскакал Лювьер, сын советника Брусселя, с донесением о том, что армия принца Конде врасплох напала на пикет в Сен-Антуанском предместье. Пикет спешно отошел за городские укрепления, а королевские войска двинулись дальше, грозя прорваться в Бастилию. Д'Эльбеф мгновенно оценил ситуацию. Пропустить в Бастилию королевские войска было нельзя: Париж после этого не продержался бы и сутки. Герцог решил форсировать осаду крепости, одновременно поручив маркизу Нуармутье не допустить прорыва в город войск принца Конде. Все ополченцы, способные носить оружие, отправились к Сен-Антуанскому предместью, а канониры вместе со стариками и женщинами приступили к возведению батареи в саду Арсенала. Д'Эльбеф рассчитывал, что Трамбле, предоставленный самому себе, долго не продержится и сдастся после артиллерийского обстрела крепости. Нуармутье возвратился поздно вечером – ему удалось отбить нападение. Он увидел уже почти законченные укрепления, готовые наутро начать систематический обстрел Бастилии. На следующий день пол-Парижа толпилось возле тюрьмы, с нетерпением ожидая начала бомбардировки. Народ пока был только зрителем; действующим лицом схожей исторической пьесы ему предстояло стать лишь полтораста лет спустя. Однако и сейчас парижане были настроены весьма воинственно: на предложение герцога д'Эльбефа отойти подальше, чтобы не подвергнуться действию ответного огня, из толпы закричали, что если из крепости раздастся хоть один выстрел, все они немедленно бросятся на штурм. Чуть поодаль, не смешиваясь с простонародьем, разгуливали нарядно одетые женщины высших сословий. «Забавно было видеть, – пишет современник, – как они явились в сад Арсенала со своими стульями, точно на проповедь». Трамбле через бойницы с тоской смотрел на эти приготовления. Он уже решил сдаться, но для сохранения чести хотел дождаться хотя бы начала штурма. В это время его лейтенант и солдаты в ярости рыскали по погребам в надежде отыскать хотя бы одно ядро и горсть пороха. Факелы уже были поднесены к фитилям, когда к батарее подъехала герцогиня де Лонгвиль, жена одного из вождей Фронды. Д'Эльбеф галантно приветствовал ее и пригласил подняться на батарею. В голове у него мигом сложился план небольшого, но эффектного представления. – Вам, герцогиня, – громко сказал он, – предоставляется честь сделать первый выстрел по Бастилии. При общих рукоплесканиях герцогиня взяла факел и поднесла к запалу одной из пушек. Раздался выстрел – ядро описало высокую дугу и пробило крышу четвертой башни крепости. Попадание было встречено восторженными воплями толпы, которые еще усилились после того, как из Бастилии не последовало ответного выстрела. – Первый выстрел был сделан самой знатной дамой в Париже, – продолжал д'Эльбеф. – Надо, чтобы второй выстрел сделала самая бедная женщина из народа, ведь народ и дворянство одинаково заинтересованы в подчинении Бастилии парламенту. Из толпы вышла бедно одетая девушка. Герцог подал ей факел. Несколько стесняясь всеобщего внимания, обращенного на нее, она взяла его и, чтобы придать себе храбрости, преувеличенно дерзко обратилась к канониру: – Наклони свою пушку, она целит слишком высоко. Д'Эльбеф, улыбаясь, сделал знак солдату исполнить ее желание. Раздался выстрел, и ядро, попав в подъемный мост, расщепило его. – Дворяне целят в голову, но это слишком высоко, – сказала девушка, возвращая герцогу факел. – Народ метит прямо в сердце и всегда попадает в цель. Возбуждение, охватившее толпу после этих слов, было так велико, что люди хлынули в крепостной ров, крича: – На приступ! На приступ! В это время на одной из башен Бастилии взвился белый флаг. Д'Эльбеф обуздал толпу и вновь послал в крепость де Рье. На этот раз переговоры были недолгими. Трамбле согласился на все условия. Было решено, что крепость капитулирует на следующий день. 12 января в полдень ворота Бастилии открылись, и из них вышли Трамбле, лейтенант и двадцать два солдата, которые сложили оружие у ног д'Эльбефа. Вслед за тем народ ворвался в крепость и освободил всех заключенных. Парламент назначил комендантом Бастилии Брусселя, а его помощником – Лувьера. Вскоре после этих событий король даровал прощение Парижскому парламенту и всем принимавшим участие в мятеже. В договоре, заключенном с парламентом, говорилось: «Немедленно по заключении договора Бастилия будет предоставлена в распоряжение Его Величества, равно как и Арсенал, пушки, порох и прочие военные снаряды». Взамен король соглашался оставить комендантом Бастилии Лувьера. С этих пор и до конца Фронды королева и Мазарини не сажали мятежных принцев в Бастилию, уверенные в том, что их выпустят оттуда через двадцать четыре часа, согласно парламентским реестрам. Поэтому принцев Конде, Конти, герцога де Лонгвиля и прочих фрондеров, попавших в руки властей, держали в Венсенском замке и других тюрьмах. Единственным арестантом Бастилии в эти годы был де Рье, заключенный туда за дуэль с принцем Конде. Он провел в камере сутки и был выпущен Лувьером, так как в течение этого времени не был подвергнут допросу. 21 октября 1652 года Людовик XIV, достигший совершеннолетия, вместе с Анной Австрийской и армией маршала Тюренна торжественно вступил в Париж. Фронда закончилась. Король сразу решил утвердить за собой Бастилию и послал Лувьеру приказ сдать начальство над крепостью. Комендант не подчинился, и Людовику XIV пришлось повторить свое приказание, добавив, что в случае неподчинения Лувьер через два часа будет повешен над крепостным рвом. Одновременно со вторичным приказом короля Лувьер получил письмо от отца, который извещал его о своем отъезде из Парижа и советовал как можно скорее последовать его примеру. Это письмо подействовало на Лувьера сильнее королевских угроз, и он немедленно оставил Бастилию. Древняя крепость вступала в новую эпоху – эпоху, сделавшую ее символом королевского абсолютизма. Глава четвертая Бастилия при Людовике XIV Новая эпоха Людовик XIV стал королем в пятилетнем возрасте и, пожалуй, вряд ли мог припомнить то время, когда к нему еще не обращались «Ваше Величество». Между тем обстановка, в которой прошло его детство, наносила жестокие удары столь рано осознанному королевскому достоинству. Властолюбие матери, постоянные притеснения со стороны кардинала Мазарини, интриги принцев и народные волнения во времена Фронды – все эти покушения на суверенитет королевской власти оставили глубокие раны в его душе. Придворные, стремясь угодить кардиналу, сторонились малолетнего короля, и мальчик часами бывал предоставлен самому себе. Позже Людовик вспоминал, как однажды чуть не утонул, упав в бассейн, и спасся только потому, что рядом случайно оказался кто-то из прислуги. Впечатления детства до предела обострили в Людовике властолюбие и непомерно раздули в нем тщеславное самолюбование, доходившее до самообожания. «Людовику выпало редкое счастье быть любимым самим собой», – писал Вольтер. Первый дошедший до нас его автограф – это копия с прописи: «Пред королями должно преклоняться; они делают все, что им угодно». Впоследствии Людовик нашел более емкую формулу для выражения этой мысли: «Государство – это я». Следует отдать ему должное: молодым королем нельзя было не залюбоваться. Людовик обладал приятной, можно даже сказать, красивой внешностью. Среднего роста, он казался выше благодаря представительной осанке и величественному виду. У него был высокий, слегка покатый лоб, длинный, правильной формы нос, четко очерченный подбородок; карие глаза глядели гордо и вместе с тем мягко, походка сочетала в себе грацию и торжественность. Людовик выглядел прирожденным монархом. Венецианский посол писал о нем: «Если бы судьба и не дала ему родиться великим королем, то несомненно, что природа наделила его такой внешностью». Король мог очаровать не только своей красотой. В молодости он не раз выказывал свою силу, ловкость и грацию, участвуя в турнирах, копьем снимая на скаку кольца, танцуя в балетах и играя на сцене. Помимо того, он читал много романов, стихов, театральных пьес и любил поговорить о литературе. Его сестра вспоминала: «Когда он излагал свое суждение об этих вещах, он излагал его так же хорошо, как очень начитанный и в совершенстве владеющий предметом человек. Я никогда не встречала такого здравого смысла и меткости языка». Конечно, чтобы верить этим словам, надо иметь безусловное доверие к художественному вкусу их автора, но покровительство, оказываемое Людовиком Мольеру, Расину, Боссюэ и другим выдающимся писателям, подтверждает правоту приведенного высказывания. Светские манеры короля были безукоризненны. Он был чарующе обходителен с дамами и приподнимал шляпу даже перед горничными. Слушать собеседника он умел «как никто на свете», по выражению современника. Как заметил Э. Лависс, у него не было того специфически французского остроумия, которое вкривь и вкось издевается над людьми и чувствами. Сен-Симон, касаясь в мемуарах манеры короля вести разговор, пишет: «Никогда ничего больно задевающего в беседе». Всегда спокойный, в совершенстве владеющий своими чувствами, Людовик порой позволял говорить себе очень резкие вещи; вспышка его гнева была целым дворцовым событием, случающимся чрезвычайно редко. Но здесь следует учесть, что суровая жизненная школа, которую король прошел в юности, необходимость опасаться людей и взвешивать каждое свое слово сделали из него ловкого притворщика, хотя, как свидетельствует Сен-Симон, он никогда не опускался до лжи. С годами пагубная привычка к лицемерию окончательно вытравила из сердца Людовика способность не только к любви, но даже и к простой симпатии. Постепенное самообожествление (помимо неограниченной власти сознание короля отравлял фимиам самой нелепой и чудовищной лести, расточаемой его министрами – все больше неродовитыми дворянами, обязанными своим выдвижением одной королевской милости, «выскочками», которыми Людовик старался заменить старую знать, скомпрометированную в его глазах участием в Фронде) окончательно отучило его считаться с людьми, принимать во внимание их чувства и нужды. Приводить примеры этого бездушия можно без конца, но вот одна характерная мелочь: госпожа де Ментенон, наиболее влиятельная любовница, а по некоторым сведениям и морганатическая супруга Людовика, часто простужалась во время прогулок в королевской карете, так как король, любивший свежий воздух, никогда не закрывал окна в дверцах; тем не менее за всю свою тридцатилетнюю совместную жизнь с этим беспримерным эгоистом она так ни разу и не добилась от него позволения хотя бы наполовину прикрыть окна. По своей натуре Людовик был человек совершенно плотский: страшный обжора и женолюб. Помимо жены, испанской принцессы Марии Терезии, и более менее постоянных любовниц, его повсюду окружал рой прекрасных искательниц счастья, добивавшихся высочайшего расположения, и король охотно дарил его им, – «срывал листья с этого кустарника роз», по галантному выражению одного придворного. Когда Анна Австрийская однажды упрекнула его в дурном поведении, Людовик ответил «с горькими слезами, что он сознает свой грех, что он сделал все что мог, чтобы удержаться, не гневить Бога и не предаваться своим страстям, но что, он вынужден ей признаться, они сильнее его рассудка, что он не может больше сопротивляться их пылу и что он не чувствует даже желания это делать». Вечно влюбленный, он и в семьдесят лет требовал любовной близости у госпожи де Ментенон, своей ровесницы, которая не знала, куда деваться от этих шокирующих ее притязаний. Духовные вопросы стали интересовать Людовика лишь на склоне лет, когда благодаря усилиям госпожи де Ментенон и иезуитов король поверил, что, добавив в свое меню постные блюда и преследуя протестантов, он вполне обеспечит себе спасение и вечную жизнь за гробом – в этом благочестивом убеждении он и скончался. Впрочем, он никогда не допускал чувственность в сферу политики и умел разделить в себе любовника и государя. Осмотрительность и благоразумие в государственных делах редко покидали его. В тех случаях, когда он не мог сразу дать ясного ответа на какой-либо спорный вопрос, требующий вмешательства, его обычными словами были: «Я посмотрю». А среди правил, которые он записал для себя, значится следующее: «Остерегаться надежды, плохой руководительницы». Людовик испытывал никогда не утихавшую радость от того, что был королем. «Ремесло короля – восхитительное ремесло», – не уставал повторять он. Чуждый какой бы то ни было созерцательности, он провел свою жизнь в постоянной деятельности. Он был очень вынослив, хотя и страдал расстройством желудка и кишечника – следствие обжорства при плохих зубах, – так что временами испытывал приступы головокружения, тошноты и слабости, повергавшие его в меланхолию. Тем не менее каждый день короля был перегружен делами, и Сен-Симон не слишком преувеличивал, когда писал: «С календарем и часами в руках можно было, находясь от него за триста лье, сказать, что он делает». Эта лихорадочная деятельность под конец утомила Людовика и подорвала его силы. К тому же отдача от этой деятельности зачастую не оправдывала затраченных усилий. К несчастью, Людовик был вполне заурядным человеком, склонным к мелочности. Правда, он понимал трудные веши, когда их ему растолковывали, и даже любил, чтобы ему помогали разобраться в каком-нибудь сложном вопросе, но ум его был пассивен – без всякой инициативы и любознательности, никогда сам по себе не задававшийся никакими вопросами; в нем не было ни постоянной жажды поиска нового, свойственной, например, Петру I – современнику «короля-Солнце», – ни даже простой наблюдательности. Из всех государственных дел, в которые король считал необходимым вмешиваться, он по-настоящему знал только военное искусство и иностранную политику. Поэтому его царствование прошло в непрерывных войнах, которыми Людовик думал обеспечить себе историческое бессмертие. «Любовь к славе, бесспорно, стоит на первом месте в моей душе», – говорил он. Самоанализ не относился к числу его сильных сторон, и здесь он явно ошибался. Сен-Симон был гораздо ближе к истине, когда, имея в виду Людовика XIV, утверждал, что «тщеславия в нем было больше, чем славолюбия» (он передает даже, что король, забывшись, часто напевал хвалебные гимны, сложенные в его честь). Именно тщеславие Людовика XIV в конце концов вооружило против него всю Европу и привело Францию на край гибели. В царствование Людовика XIV Бастилия вступила в наиболее знаменитую свою эпоху, ознаменованную громкими судебными процессами, которые окружили ее таинственным ореолом. Это было время, когда Париж наводнился магами, колдунами, отравителями и фальшивомонетчиками, это было время Железной Маски. В те годы комендант Бастилии получал от министров секретные письма, вроде следующего: «Милостивый государь, в случае если кто-нибудь придет разузнавать об арестованном, который сегодня утром препровожден господином Дюгре в Бастилию по королевскому приказу, то прошу вас не давать никаких сведений; согласно воле Его Величества и препровождаемым при сем приказом является желательным, чтобы никто не знал о вышеупомянутом арестованном решительно ничего, даже его имени». Бастилия оказалась переполнена заключенными, содержание которых значительно ужесточилось. За ее порогом зачастую прекращалось всякое сношение с внешним миром. Арестованные, которых подвергали абсолютной изоляции, почти все принадлежали к одному разряду преступников: это были шпионы иностранных дворов, и, конечно, чем явственней фортуна изменяла армии короля, тем более жестокими становились преследования шпионов. В журнале, который вел офицер Дюжонка, можно прочитать следующую запись: «В среду 22 декабря, около десяти часов утра, явился профос королевской армии де ла Кост; он передал нам пленника, которого он привел через нашу новую дверь, позволяющую нам во всякое время совершенно незаметно выходить в сад Арсенала. Означенный пленник, по имени д'Эстенген, немец, был женат в Англии. Он был препровожден маркизом де Барбезье по королевскому приказу к начальнику Бастилии, причем последнему было указано, что пленника надлежит содержать секретно и не позволять ему вступать в какие-либо сношения с кем бы то ни было ни лично, ни письменно. Означенный пленник – бездетный вдовец, человек умный и к тому же обладающий серьезными новостями обо всем, что происходит во Франции, в целях передачи этих сведений в Германию, Англию и Голландию; в общем, он честный шпион». Даже Ришелье был менее жесток к заключенным Бастилии и позволял своим несчастным жертвам наслаждаться последними крохами утерянной свободы – свежим воздухом и общением. В его время окна в Бастилии не заколачивались двойными и тройными ставнями, арестантам позволялось даже собираться в одной комнате. При Людовике XIV узники не имели ни этих, ни каких-либо других льгот. Дотошное внимание Людовика не обошло и Бастилию. Король сам установил правила содержания в ней заключенных. На бумаге дело обстояло довольно благообразно. Узники должны были получать довольствие соответственно тому званию и сословию, к которому принадлежали. Так, на содержание принца выделялось 50 ливров в день, маршала – 36, генерал-лейтенанта – 16, советника парламента – 15, судьи и священника – 10, адвоката и прокурора – 5, буржуа – 4, лакея и ремесленника – 3. Пища для заключенных делилась на два разряда: для высших сословий (из расчета от 10 ливров и выше) и для низших сословий (меньше 10 ливров). Например, обед первого разряда состоял в скоромные дни из супа, вареной говядины, жаркого, десерта; в постные дни – из супа, рыбы, десерта; к обеду ежедневно полагалось вино. Обеды второго разряда были гораздо скромнее – из менее качественных продуктов и к тому же хуже приготовленные (на прогорклом масле, и т. п.). В праздничные дни – святого Мартина, святого Людовика и на Крещенье – предусматривалось лишнее блюдо: полцыпленка или жареный голубь. Однако в действительности заключенные не получали положенных порций. Офицеры, тюремщики, повара, сам комендант тюрьмы беззастенчиво наживались за счет денег, выдаваемых казной на содержание арестованных. Достаточно сказать, что комендант Бемо за время начальства над Бастилией скопил состояние в 600 тысяч ливров – а заключенные считали его еще очень добродушным и обходительным начальником. При преемнике Бемо, Сен-Марсе, случалось, что узники умирали от голода. (Надо помнить, что комендант получал содержание только на 42 человека, на которых была рассчитана Бастилия; сверхштатных узников он должен был содержать из своего кармана. В царствование Людовика, особенно в первую его половину, в Бастилии находилось одновременно 200—300 заключенных, и комендант, понятно, экономил на самом необходимом.) В продолжение всего царствования Людовика XIV вводились усовершенствования в тюремном режиме, и всегда в сторону большей строгости. Впрочем, король не увлекался новизной и охотно возрождал старые тюремные обычаи, вышедшие из употребления. С увеличением количества заключенных и с введением детальной регламентации обязанностей тюремщиков последние в какой-то мере сами оказывались жертвами Бастилии, будучи вынуждены проводить в ней дни и ночи, боясь в чем-либо преступить устав и стремясь не допустить побега какого-нибудь смелого узника. Тот же Дюжонка, поручик бастильского гарнизона, в своих заметках жалуется на тяжелые условия службы в крепости. «Служа уже около года в Бастилии, – пишет он, – я был обязан исполнять следующее: первым вставать и ложиться последним; нести часто караул вместо офицеров господина Беземо (старший бастильский офицер. – С. Ц.), каждый вечер делать обход, в неуверенности, что эти господа его сделают, весьма часто запирать двери, не смея ни на кого рассчитывать». И далее он перечисляет другие свои обязанности: ревностно заботиться о замковой страже, не будучи в состоянии ни кому-нибудь довериться, ни положиться на двух офицеров господина Беземо. «Когда комиссары являются допрашивать арестантов, надобно идти за ними в казематы и вести их в залу господина Беземо, проходя через весь двор, и ожидать за дверью часто до восьми часов вечера, чтобы забрать арестантов и развести по местам. Арестантов, которым позволено видеться с посторонними, также нужно выводить из казематов, вести через все дворы в обыкновенную залу, где их ожидают родственники и другие посетители, и оставаться до конца свидания, а потом вести обратно в камеры. То же самое нужно соблюдать относительно тех заключенных-протестантов, с которыми приходят беседовать иезуитские миссионеры, чтобы обратить их на путь истины. Кроме того, необходимо следовать за арестантами, которым дозволяется гулять в саду и на террасе… Всех больных арестантов должно почаще навещать и заботиться о них. К тем, кому нужна медицинская помощь, нужно привести доктора и проверять приносимые им лекарства… С тяжелобольными и умирающими арестантами нужно быть вдвойне заботливым, следить, чтобы их исповедовали и причащали, а который умрет, тому отдать последний христианский долг… Когда прибудет новый арестант, должно осмотреть как его самого, так и его вещи и затем отвести его в назначенный номер. Сверх того надо озаботиться, чтобы снабдить комнату всем необходимым, для чего приходится дорого платить обойщику господина Беземо или его домоправительнице. Необходимо также обыскивать арестантов, получивших полное освобождение, и осматривать их вещи до выхода из замка, поскольку другие заключенные через них пытаются подать о себе весть родным и друзьям… Посещать все комнаты и обыскивать их и живущих там арестантов. Точно так же надо обыскивать всех, кто выходит из замка с бельем, предназначенным для починки или стирки… В числе арестантов ежедневно встречаются такие, которые имеют в чем-либо надобность или хотят пожаловаться на плохое качество пищи или дурное обращение с ними тюремщиков; эти арестанты обязаны стучать в дверь, чтобы заявить о своих нуждах, и тогда необходимо их навестить, что бывает очень часто. Надобно наблюдать за пищей арестантов, за вином и бельем, предназначенными для них, ибо все это часто бывает дурного качества… Часто осматривать всю посуду, обыкновенно подаваемую арестантам, „которые пишут нередко на блюдах и на тарелках, передавая друг другу весть о себе“… В годовые праздники предстоит забота, чтобы те арестанты, кому это дозволено, были у обедни, исповедовались и причастились… Несколько раз днем и ночью надобно обходить снаружи замок для воспрепятствования арестантам из разных башен переговариваться между собой, а также посылать солдат забирать людей, которые подают знаки знакомым узникам, и часто это бывают освобожденные арестанты, которые желают оказать услугу товарищам, оставшимся в неволе». Ужесточение условий заключения шло рука об руку с возраставшим произволом власти. Людовик XIV выбрал Бастилию орудием своих личных целей. Начиная с его правления во Франции окончательно привыкают к мысли, что в Бастилию можно попасть без всякой вины, по одному королевскому капризу, – достаточно было обнаружить обыкновенную силу характера, проявление которой король считал личным оскорблением. Ришелье тоже использовал Бастилию в личных целях, но он, по крайней мере, старался оправдать или прикрыть личную месть интересами государства. Его жертвы имели печальное утешение быть судимыми и выслушать свой приговор; притом Ришелье допускал некоторую гласность суда и наказания. Людовик XIV повел дело иначе. При нем людей сажали за что угодно, но в графе тюремных протоколов, где означался род преступлений, чаще всего были слова: «памфлетисты и янсенисты[25]». Потом, в разряде преступлений против религии Людовик XIV ввел новые подразделения и к янсенистам прибавил «дурных католиков». После уничтожения Нантского эдикта[26] религиозные преступления распались на четыре категории: янсенизм, «дурной» католицизм, протестантство и атеизм. Эта весьма тонкая классификация была незнакома даже инквизиции. Часто род преступления и вовсе опускался – это не требовало объяснений заключения и не допускало возражений и жалоб. Случалось, что узник томился в Бастилии долгие годы, так и не зная причины своего заточения. «Заключенный в Бастилию, некто Вакке, – пишет военный министр Лувуа коменданту тюрьмы, – жалуется королю, что находится в заточении 13 лет и не знает своей вины; прошу вас, известите меня, кем подписан приказ о его аресте, для того чтобы я мог доложить об этом Его Величеству». Так как после заточения кого-либо в Бастилию большинство относившихся к делу бумаг уничтожалось, то иногда и сами министры забывали причины того или иного ареста. Один из них писал коменданту тюрьмы: «Я получил приказание короля узнать от вас, кто такой некто Дюмени, содержащийся в Бастилии, сколько лет он уже заключен, какова причина, по которой он там находится». Подобные запросы делал и Лувуа: «Препровождаю к вам письмо господина Коке, относительно которого король приказал мне узнать от вас, если вам это известно, кем подписан приказ, на основании которого он посажен в Бастилию»; или: «Милостивый государь, прошу вас, известите меня, кто такой Пиа де ла Фонтен, который уже в продолжении пяти лет находится в Бастилии; не вспомните ли вы также, за что он был арестован» и т. д. В Бастилию часто попадали иностранцы – в силу договоров, заключенных между Францией и другими государствами. Так, Людовик XIV заключил в Бастилию датскую подданную Маргариту Карита, обвиненную на родине в заговоре, угрожавшем жизни датского короля. В 1690 году он предупредительно избавил английского короля от некоего Пранкура, которого сам Яков II не смел тронуть открыто. Эта история стоит того, чтобы остановиться на ней подробнее. Дворянин Пранкур, умный, хорошо образованный молодой человек, имел несчастье надоесть Якову Стюарту. Чтобы избавиться от него, король отправил его с каким-то формальным поручением в Германию через Францию, предупредив Людовика XIV о своем нежелании когда-либо вновь увидеть своего посланца в Англии. Пранкура арестовали в Париже, ночью. Причину ареста так и не смогли выдумать; впрочем, сошло и так. За свою исковерканную жизнь Пранкур мог отомстить только тем, что однажды пририсовал углем рога к изображению Людовика XIV, висевшему в одной из комнат или коридоров Бастилии, и надписал: «Оружие Франции» («Aux armes de France»). Возмутительному произволу подвергся генуэзец Дельфино, секретарь графа Вальштейна. Дельфино был арестован вместе с графом в 1703 году, в нарушение всех международных прав, в открытом море, на итальянском судне. Через год графа освободили, а Дельфино оставили в неволе. Однажды он повздорил с тюремщиком и спустил его с лестницы, за что жестоко поплатился. Тюремщик вернулся с подкреплением, приказал товарищам держать Дельфино за руки, а сам взял любимую собачку генуэзца, размозжил ей голову о стену и перемазал ее кровью лицо Дельфино. Затем его бросили в каземат. В то же время в одном из казематов томился граф Риччиа, глава неаполитанского заговора против испанского короля Филиппа V, внука Людовика XIV. Его подвергли пытке и держали в Бастилии одиннадцать лет, после чего перевели в Орлеан под надзор полиции. И это были далеко не самые вопиющие случаи захвата иностранных подданных, в чем читатель сможет убедиться чуть позже. В конце XVII века место, где находилась Бастилия, претерпело некоторые изменения. Линия укреплений, воздвигнутая одновременно с Бастилией при Карле V, была окончательно снесена, а вокруг громадной мрачной тюрьмы возник небольшой процветающий квартал: тут селились цирюльники, башмачники, продавцы напитков, лавочники, торговцы дичью и сыром. Жизнь кипела всего в двух шагах от непроницаемых стен и подземных казематов, в которых глохли крики отчаяния и рыдания жертв королевской мести. Падение суперинтенданта Фуке Кардинал Мазарини умер в 1661 году. «Никогда, – пишет Вольтер, – не было больше интриг, чем во время агонии Мазарини. Женщины, слывшие красавицами, льстили себя надеждами владычествовать над двадцатидвухлетним монархом… Молодые куртизанки верили, что вновь возвратится время фавориток. Каждый министр надеялся оказаться на первом месте. Ни одному из них не приходило в голову, что король, воспитанный вне государственных дел, осмелится надеть на себя ярмо управления». Каково же было удивление министров, когда на их вопрос: «Сир, к кому отныне мы должны обращаться со всеми вопросами? (подразумевалось: кто будет вашим первым министром?)» – Людовик ответил коротко и просто: – Ко мне. Этот ответ всех поразил – ведь до сих пор король только подчинялся. Среди немногих лиц, пропустивших мимо ушей слова короля, был суперинтендант финансов Никола Фуке – это погубило его. А единственным человеком, который действительно понял их, стал Жан Батист Кольбер, что и обеспечило ему необыкновенный взлет. Современник так описывает внешность Кольбера: «Среднего роста, уши торчком, угрюмая физиономия, вечно сальные черные волосы – он благоразумно носил скуфейку – жесткий, даже непреклонный взгляд, словом, добропорядочный юноша…» Этот добропорядочный юноша родился в семье лавочника и очень стыдился своих родителей, вследствие чего приписал себе благородное происхождение, выдумав предков-шотландцев, якобы приехавших во Францию в XIII веке. Он даже сделал фальшивое надгробие для их мифических останков. Кольбер был образцовым бюрократом, одержимым порядком. Первым успехам своей карьеры он был обязан Мазарини, который использовал его в основном как личного казначея. За два дня до смерти кардинал вместе с королем составил список нового министерства. При этом Мазарини сказал: – Я всем обязан вам, Ваше Величество, но думаю, что несколько уплачу свой долг, оставив вам господина Кольбера. – И, помолчав, добавил: – Государь! Умейте уважать сами себя, и вас будут уважать все. Не имейте никогда первого министра, а сноситесь с господином Кольбером во всех случаях, когда вы будете иметь нужду в умном и преданном человеке. С тех пор Кольбер сделался постоянным советчиком короля в финансовых вопросах. Но на роль заместителя умершего кардинала с гораздо большим правом претендовал суперинтендант Фуке, финансовый гений того времени. Это был выходец из средних слоев «дворянства мантии» – его отец был советником Парижского парламента. Фуке сделал головокружительную карьеру. В шестнадцать лет кардинал Ришелье назначил его советником в парламент Меца; в двадцать пять он стал инспектором малого Королевского совета, в двадцать семь – главным интендантом Северной армии. В самый разгар Фронды его назначили главным интендантом королевской армии, осаждавшей Париж. Наконец, Мазарини отдал ему должность суперинтенданта финансов всего королевства; кроме того Фуке купил должность генерального прокурора Парижского парламента[27], что сделало его лицом неприкосновенным. Получив в свое единоличное распоряжение казну, Фуке помог кардиналу стать самым богатым человеком Франции. Помимо доверия Мазарини, другой основой его могущества было прочное доверие к нему французских банкиров, желавших иметь его посредником при сделках с нищим королем. У Фуке всегда были деньги, – вот почему в нем нуждались и его терпели, несмотря на то, что и король, и кардинал, и Анна Австрийская прекрасно знали, что суперинтендант зачастую не делал разницы между государственной казной и собственным карманом. Справедливости ради следует заметить, что в те времена такого различия не проводил ни один министр финансов; Фуке же был щедрым меценатом: это он «открыл» Мольера, Лафонтена, Ленотра, Лебрена и многих других выдающихся деятелей французской культуры (все они впоследствии перешли к Людовику XIV «по наследству» вместе с другим имуществом суперинтенданта). По остроумному замечанию Александра Дюма-отца, Фуке взвалил на себя бремя власти, удовольствий и любви – три вещи, которыми Людовик, к несчастью суперинтенданта, хотел распоряжаться сам. При этом Фуке был чрезвычайно добродушен и почти наивен, ему было присуще благородство поступков, из-за чего он легко попадался на обман: если ему случалось оказать кому-либо услугу, то он сразу полагался на этого человека как на своего сторонника и друга. На врагов он не обращал особенного внимания, уверенный, что всегда сможет купить их симпатии. Король и Кольбер без труда сошлись в ненависти к этому улыбчивому человеку, который не умел по-настоящему ценить свое могущество и словно не принимал себя уж слишком всерьез; они же относились к себе с ужасающей серьезностью. По словам П. Морана, для неистового труженика Кольбера Фуке, которого никогда не видели работающим, являл собой непереносимо скандальное зрелище. Для Людовика же Фуке был представителем поколения вельмож эпохи Фронды – этих людей король ненавидел всей душой, так как они сохраняли свою независимость и напоминали ему о годах его унижения. Сразу же после смерти Мазарини Кольбер принялся настраивать короля против Фуке. Он проверял все отчеты суперинтенданта и кропотливо восстанавливал реальные цифры доходов и расходов. Он уверял короля, что при нем, Кольбере, в финансовых отчетах «будет всего лишь два раздела – статья о доходах Вашего Величества и другая, о расходах. В первый день года Вашему Величеству будет представляться ведомость, где подробно будут записаны все доходы Вашего Величества, и каждый раз, как Вам будет угодно подписать ордонанс, я буду просить Ваше Величество вычеркнуть нужную сумму, чтобы знать, сколько фондов остается. Это будет вместо того, что в прошлые времена…» Однако Фуке был неуязвим, пока сохранял за собой должность генерального прокурора. Чтобы лишить его неприкосновенности, король и Кольбер прибегли к подлой уловке: Кольбер сумел убедить Фуке продать эту должность, намекнув, что король желает видеть его первым министром и что, кроме того, его величество нуждается в деньгах… Простодушный Фуке сам снял доспехи, защищавшие его. Он продал должность генерального прокурора за миллион четыреста тысяч ливров – на четыреста тысяч меньше ее реальной стоимости. Миллион ливров он преподнес королю в качестве займа с необязательной уплатой. Людовик имел достаточно низости принять эти деньги; при этом он радостно воскликнул: – Он сам попался на крючок! Весной 1661 года Фуке совершил еще худшую ошибку: он невольно задел личные чувства короля. Людовик в это время оказывал недвусмысленные знаки внимания жене своего брата, герцога Орлеанского. Его ухаживания наконец приобрели скандальный оттенок, компрометирующий герцогиню. Герцог Орлеанский пожаловался на короля Анне Австрийской, и та решила положить в королевскую постель фрейлину, которая смогла бы заставить Людовика забыть о супруге брата. Ее выбор остановился на очаровательной семнадцатилетней Луизе Франсуазе Ла Бом Леблан, маркизе де Лавальер, сироте без приданого. «Довольно хорошенькая, очень слащавая и очень наивная», – пишет о ней Лафайет. Затея королевы-матери увенчалась полным успехом – король без памяти влюбился в Лавальер. Едва узнав о новом увлечении короля, Фуке задумал сделать из Лавальер свою платную осведомительницу, подобно множеству небогатых фрейлин, состоявших у него на жалованье. Суперинтендант не предвидел, что связь Людовика с ней окажется чем-то большим, нежели однодневной интрижкой. «Несчастье его состояло в том, – пишет П.Моран, – что он был абсолютно уверен в успехе и потому атаковал мадемуазель де Лавальер с навязчивостью, удивительной в этом деликатном человеке». Видимо, Фуке уже ощущал настоятельную потребность иметь при короле глаза и уши, которые помогли бы ему узнать об истинных намерениях скрытного монарха. Он предложил девушке двадцать тысяч пистолей, на что получил от нее ответ, что и двести пятьдесят тысяч не соблазнят ее пойти на это. Лавальер, по-видимому, была единственной женщиной, полюбившей Людовика бескорыстно. Король, узнав о поступке суперинтенданта, пришел в ярость. Кольбер подлил масла в огонь, намекнув, что Фуке не собирался ограничиться с Лавальер одними деловыми отношениями. С этого дня участь Фуке была решена. Однако подготовка заговора короля против своего суперинтенданта заняла ни много ни мало четыре месяца – таково было могущество Фуке. Суперинтендант в свою очередь составил план, с помощью которого он надеялся вернуть благорасположение короля. В начале августа 1661 года он пригласил Людовика в свой замок Во-ле-Виконт, где должно было состояться самое необычное празднество XVII столетия. Король ответил согласием, и Фуке немедленно выехал в Во, чтобы сделать необходимые распоряжения. Известие о том, что король удостаивает суперинтенданта своим посещением, облетело весь Париж. Придворные были заняты одной мыслью – как получить приглашение на бал. Англия, Испания, Италия прислали на праздник своих представителей. Фуке задумал придать торжеству невиданный размах. Более шести тысяч приглашений было разослано им по всей Франции; 100 тысяч рабочих были наняты для выполнения подготовительных работ в Во; 20 тысяч телег с припасами тянулись к замку со всех концов страны. Суперинтендант почти не спал в течение двух недель, пока длилась подготовка к празднеству, назначенному на 17 августа. Кольбер сам посоветовал королю ехать в Во, уверенный в том, что пышность праздника возбудит в Людовике зависть и сомнения в честности Фуке. Его расчет оправдался: король отправился в Во, полный ненависти и подозрения, с озлобленным сердцем, хотя и с улыбающимся лицом. Людовик в сопровождении всего двора прибыл в замок к шести часам вечера. Въезд в Во пролегал через арку, над которой возвышался герб суперинтенданта – скачущая белка («фуке» по-бретонски значит «белка»). Фуке встретил короля на верхней ступени лестницы. В кармане у него лежало письмо его друга, госпожи де Плесси-Бельер, в котором она предостерегала его от «страшной опасности»: при дворе все громче поговаривали о том, что против суперинтенданта зреет неслыханный заговор. Но на лице Фуке не было видно никакого беспокойства, как и на лице короля – ни тени душившей его злобы. Они шли навстречу друг другу с широкими приветливыми улыбками. Прежде всего хозяин предложил гостям прогулку между двумя стенами воды, образованными при помощи 50 больших фонтанов и 200 фонтанчиков. Потрясенный король не мог не вспомнить, что в строящемся Версале почти нет фонтанов – из-за нехватки воды… А Кольбер, склонясь к уху короля, нашептывал ему, что дорогостоящие свинцовые трубы для фонтанов в Во вывезены из Англии и доставлены во Францию без уплаты таможенных пошлин. После водяных каскадов последовал осмотр дивных садов. Восхищаясь все больше и больше, придворные дошли до апельсиновой оранжереи и возвратились в замок слегка перекусить. Здесь Фуке подарил Людовику его портрет кисти Лебрена, который король принял с видимым удовольствием. Гораздо меньше удовольствия ему доставила картина того же художника, изображавшая Солнце в своем дворце; светило было помещено в центр небосвода, имеющего форму белки, и символизировало Фуке (впоследствии Людовик присвоит себе эту эмблему, видоизменив ее: солнце на фоне звезд). За столом королю прислуживал сам суперинтендант. Изысканность яств, обилие серебряных и золотых сервизов поразили Людовика. Жадно смотря на массивную золотую сахарницу, стоявшую перед ним, король восхитился: – Какое прекрасное позолоченное серебро! – Простите, сир, – поправил его Фуке, – это не позолоченное серебро, это золото. – В Лувре нет ничего подобного… – процедил сквозь зубы король. Когда все встали из-за столов, Фуке отвел в сторону Гурвиля, своего ближайшего друга и помощника, и спросил: – Что говорят обо мне? – Одни говорят, что вы скоро станете первым министром, другие – что затевается большой заговор с целью вас погубить. Фуке вздохнул и пригласил гостей на театральное представление. В конце пихтовой аллеи зрителей ждала огромная раковина; перед началом представления в ней появилась наяда, исполнившая эклогу в честь короля. Затем актеры разыграли комедию «Несносные жеманницы» еще неизвестного при дворе драматурга по имени Мольер. Автор впервые сыграл здесь одну из ролей. По окончании комедии смотрели балет, затем ночь расцветилась снопами огненных искр фейерверка… Под ослепительное сияние в саду шла беспроигрышная лотерея, каждый билет которой приносил ее участникам бриллиантовые и золотые украшения, дорогие материи, породистых лошадей и т. д. На каминах лежали груды золотых монет для желающих играть в карты; казна в этот вечер превратилась в собственность Фуке, который оплачивал все расходы своих гостей. При свете факелов устроили охоту на дичь, которая бегала по замку и производила страшный беспорядок, к вящему удовольствию охотников. В охоте участвовали и дамы – они лихо гонялись за испуганными животными с пистолетами, заряженными пробковыми шариками. Праздник удался на славу. Переделки в замке, бассейны, парк, сады, лотерея – все это стоило Фуке 18 миллионов ливров. Но главный сюрприз суперинтендант приберегал напоследок. Когда в два часа ночи король подал знак расходиться, Фуке подошел к нему и попросил его величество всемилостивейше принять замок в дар – этим эффектным жестом он и надеялся разом смести паутину опутавших его интриг. Общий вздох изумления пронесся по саду; Кольбер в эту минуту, наверное, почувствовал, как земля уходит из-под его ног… Ответ короля поразил всех еще больше: Людовик отказался принять замок в подарок. Король предпочел отобрать его. «Семнадцатого августа в шесть часов вечера Фуке был повелителем Франции, – пишет Моран, – в два часа ночи он был превращен в ничто». Король весь день задыхался от злобы, разглядывая великолепное убранство замка. (Мазарини экономил на нем, и малолетний король часто ходил в заплатках и спал на дырявых простынях, на которых, без сомнения, и родилась его любовь к роскоши.) Кольбер компетентно объяснял ему, что окружающая их роскошь превышает доходы Фуке. Сев в карету, Людовик отдался во власть обуревавших его чувств. Когда у него делалось такое выражение лица, как теперь, Анна Австрийская называла его ребенком, у которого отняли игрушки. В раздражении откинувшись на подушки, он вскричал: – Через час Фуке будет арестован по моему приказу! – Как? – запротестовала королева-мать. – Арестовать хозяина в разгар праздника? Но Людовик больше не желал ничего слушать. – Ему придется отчитаться перед всеми! – в ярости кричал он. Кольберу с трудом удалось убедить его, что перед арестом суперинтенданта нужно принять необходимые меры предосторожности. 27 августа король выехал в Бретань, будто бы для встречи с местным парламентом. На самом деле он хотел нейтрализовать суперинтенданта в его официальной вотчине: помимо всего прочего Фуке был еще и вице-королем обеих Америк, в его распоряжении были выходы к морю и флот, значительная часть которого состояла из кораблей, являвшихся собственностью суперинтенданта. Кроме того, Фуке принадлежал Бель-Иль – хорошо укрепленный замок, где он мог укрыться в случае опасности. Фуке приехал в Нант вслед за королем и сразу же слег в постель из-за приступа лихорадки. Гурвиль и Пелисон – финансист и писатель, правая рука Фуке с 1637 года, – взывали к осторожности, но Фуке, окруженный поэтами и танцовщицами, с улыбкой говорил им, что скоро станет первым министром, а Кольбер будет арестован; на советы других друзей быть осмотрительнее он отвечал, что признался Людовику во всех ошибках, допущенных при ведении финансовых дел в правление Мазарини, и что король «простил его в выражениях, достойных великого монарха». Некоторые люди с наслаждением предвкушают свою гибель. Арест Фуке готовился самым тщательным образом. Существует три записки Кольбера, где эта акция расписана по минутам. Непосредственные последствия ареста суперинтенданта были очевидны: государство сразу окажется без денег, откупщики перестанут выплачивать авансы и т. д. Кроме того, по свидетельству Лафонтена, король и Кольбер чрезвычайно опасались внезапности, с которой обычно действовал Фуке, этот неповторимый импровизатор. Поэтому Кольбер старался предусмотреть все; он продумал каждую мелочь – вплоть до бульона, который должны были подать Фуке после ареста. Операция была поручена отряду королевских мушкетеров под начальством д'Артаньяна – король полностью доверял только его роте. 4 сентября в полдень Людовик вызвал д'Артаньяна к себе и лично распорядился арестовать Фуке. Слова короля показались капитану гвардии столь неправдоподобными, что он попросил письменного распоряжения. Приказ был выдан ему вместе с инструкцией, касавшейся деталей операции, маршрута, которым должна была проследовать карета с арестованным суперинтендантом и т. д. Писцы, составлявшие эти бумаги, были тайно арестованы. На 5 сентября назначили королевскую охоту. Сорок вооруженных мушкетеров сидели в седлах с самого рассвета. Перед мнимым отъездом король созвал совещание министров. По его окончании Людовик под различными предлогами задержал Фуке. Король все время поглядывал в окно; наконец, убедившись, что во дворе все готово, он отпустил суперинтенданта. Фуке спустился по лестнице и сразу был окружен толпой, привыкшей по всем вопросам обращаться к нему, а не к королю. Вдруг случилось непредвиденное – д'Артаньян потерял суперинтенданта из виду! Он немедленно известил об этом короля, который промолвил с недоброй усмешкой: – Ну, я его отыщу! Спустя несколько минут выяснилось, что Фуке уже уехал в своей карете. Д'Артаньян с пятнадцатью мушкетерами бросился в погоню за ним. Гончие догнали дичь на Соборной площади, где д'Артаньян, попросив Фуке выйти из кареты, объявил ему, что имеет приказ о его аресте. – Воля короля… – чуть слышно произнес Фуке. Его отвели в какой-то дом и обыскали. Найденные при нем бумаги сразу отослали королю; затем суперинтенданту предложили предусмотренный инструкцией бульон. После всего этого он был посажен в карету и под конвоем отправлен в Анжер. Получив известие об успешном исходе операции, король вышел в приемную и объявил изумленным придворным: – Только что по моему приказу арестован Фуке. Это было решено еще четыре месяца назад. У нас больше не будет суперинтенданта. «В вечер ареста Фуке, – записал король в мемуарах, – я получил удовольствие, самостоятельно занимаясь финансами». Это означало: казна наконец-то перешла в мои руки. 7 сентября Фуке был доставлен в анжерскую тюрьму. Отсюда начался его двадцатилетний путь по тюрьмам и крепостям. Из Анжера его перевезли в Удон, затем в Агранд, Амбуаз, Тур… Наконец 18 июня 1663 года его заключили в Бастилию. Сорок пять мушкетеров во главе с д'Артаньяном охраняли суперинтенданта вместо обычной тюремной стражи, двое из них безотлучно находились в его комнате. Кольбер завладел всеми финансовыми бумагами Фуке – с тех пор их больше никто не видел. Он трудился над ними ночи напролет, пытаясь найти доказательства государственной измены суперинтенданта – напрасно. Для смертного приговора Фуке Кольбер хотел доказать, что суперинтендант вынашивал замысел восстания в Бретани. Иначе к чему возводились укрепления Бель-Иля, строился порт (при помощи голландцев), покупались собственные военные корабли?… В поисках компрометирующих документов агенты Кольбера ломали паркет, отдирали обшивку стен замков, принадлежавших Фуке; наконец в одной из комнат Бель-Иля за зеркалом был найден пожелтевший план замка, к которому была приложена инструкция, помеченная: «Воспользоваться этим только в случае беды». Инструкция предписывала госпоже де Плесси-Бельер снестись с бретонскими властями, чтобы они заперлись в своих крепостях; братья суперинтенданта должны были воздействовать на священников и парламент, зять – удерживать Бель-Иль, жена – укрыться в монастырь. Этот давно забытый план времен Фронды стал главным доказательством против Фуке на процессе. Фуке надеялся, что король спасет его: он так и не понял, что Людовик и Кольбер действовали заодно. Четыре раза он просил короля об аудиенции – некоторые историки считают, что он знал какие-то тайны, с помощью которых рассчитывал обеспечить свою безопасность. Людовик отказался от встречи с Фуке. Расин слышал, как король говорил Лавальер: «Если Фуке приговорят к смертной казни, я предоставлю ему умереть». А Анне Австрийской, заступавшейся за арестованного, он отрезал: «Я прошу вас впредь никогда не просить о его помиловании». Король и Кольбер ограбили Фуке, поделив его недвижимое имущество. Они рассчитывали найти у него и огромные суммы наличности, но, к их удивлению, у суперинтенданта не оказалось ничего, кроме непогашенных векселей: даже Во не был оплачен. «Он не только не был богат, он попросту не имел ни гроша», – писала Анна Австрийская госпоже де Мотвиль. Процесс над Фуке был лишен даже видимости законности. Все следователи были личными врагами суперинтенданта, следствие велось со многими процессуальными нарушениями. Поэтому общественное мнение, поначалу настроенное враждебно к Фуке, вскоре встало на его сторону. Огромную роль в этом повороте умонастроений парижан сыграло поведение писателей, не покинувших своего мецената в трудную минуту. Пример другим литераторам подал Пелисон, арестованный и посаженный в Бастилию сразу же после ареста Фуке. «Приказчик должен знать больше хозяина», – заметил Людовик и поручил следователям самым строгим образом допросить его, не останавливаясь перед пыткой. Пелисон выдержал все и ничем не выдал Фуке, искренне считая его невиновным. Ему разрешили переписываться, и он с помощью госпожи Скюдери, известной писательницы, анонимно издал «Обращение к королю, написанное одним из его верных подданных, по поводу процесса месье Фуке». (Позднее Вольтер сравнил литературные достоинства «Обращения» с речами Цицерона: «В них государственная и частная деятельность министра разобраны правдиво; все эти мемуары написаны умно и отмечены необычайно трогательным красноречием».) «Обращение» приобрело широкую известность и дошло до короля, вызвав его раздражение. Полиция дозналась, что книга принадлежит перу Пелисона, и надзор за ним был усилен: у него отобрали чернила, бумагу, перья, запретили гулять и вообще стали содержать хуже, чем прежде. Пелисон откликнулся на эти меры философскими стихами: Doubles grilles a gros clous, Triples portes, forts Verrous, Aux ?mes Vraiment m?chantes Vous repr?sentez l'enfer; Mais aux ?mes Innocentes Vous n'?tes que du bois, de pierres et du fer[28]. Фуке, отличный юрист, прекрасно знакомый со всеми профессиональными тонкостями, вел процесс как нельзя лучше. В конце концов следствие приняло такое направление, что король объявил парламенту о своем желании закончить его как можно быстрее. В октябре 1664 года следствие закончилось. 14 ноября открылись судебные заседания. Фуке блестяще опроверг все обвинения. Он бросил в лицо канцлеру Сегье: «Во все времена, даже теперь, когда жизнь моя в опасности, я был на стороне короля. Преступником же против короны и государства следует считать того, кто возглавил Совет его врагов, того, кто отправил своего зятя показать испанцам проходы через горы и помог им дойти почти до столицы королевства». (Все эти вещи проделал Сегье во времена Фронды.) Судьи были так потрясены, что многие подходили к Фуке, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Париж рукоплескал ему. «В Париже только и говорят, что о его уме и твердости духа», – писала в те дни госпожа де Севинье. На стороне Фуке были Анна Австрийская и маршал Тюренн, который во всеуслышание говорил: «Когда процесс начинался, достаточно было тонкой бечевки, чтобы разделаться с суперинтендантом; теперь его не выдержит и толстенная веревка». Судьи не смогли уличить суперинтенданта ни в оскорблении величества, ни в заговоре против короля; они обвинили его только в расхищении казны, но это преступление тогда не считалось особенно тяжким – в нем так или иначе были виновны все министры. 20 декабря 1664 года при окончательном голосовании десять судей высказались за смертную казнь, а четырнадцать – за высылку бывшего суперинтенданта за пределы Франции. Вольтер справедливо заметил: «Это писатели и люди искусства спасли ему жизнь». С этого времени, очевидно, и возникло то предпочтение, которое большинство людей во всем мире отдает писателям перед политиками. Но короля не устраивал такой исход дела. 22 декабря Фуке в Бастилии зачитали приговор и одновременно сообщили, что король, «взвесив для себя опасность, которую представлял Фуке интересам государства, живя за его пределами», заменяет ему высылку на вечное заточение. Париж все же ликовал: Фуке был обелен от всех наветов. Даже д'Артаньян не удержался и поздравил Фуке, на что тот поклонился ему и ответил, что «отныне он его скромный слуга». 7 января 1665 года Фуке отвезли в Пиньероль и отдали под надзор коменданта Сен-Марса. В продолжение тринадцати лет Фуке запрещалось переписываться с родными и видеться с кем-либо. Только в 1678 году режим его содержания был несколько смягчен: он смог гулять по крепости и встречаться с родственниками. 23 марта 1680 года Фуке, во время одного из таких свиданий, упал без чувств на руки сына и тут же скончался от сердечного приступа. Ему было шестьдесят пять лет. Его прах был захоронен в родовой усыпальнице, о чем сохранилась запись в церковной книге. Пелисон еще некоторое время оставался в Бастилии после того, как Фуке был перевезен в Пиньероль. Над ним не было суда, его держали просто по желанию Людовика. Лишенный бумаги, книг и общения, Пелисон полюбил паука, которого приручил и собственноручно кормил. Однажды тюремщик умышленно раздавил насекомое, чтобы лишить узника этой забавы. Пелисон не выдержал и горько заплакал – впервые за четыре года заключения. У тюремщика хватило жестокосердия всюду хвастаться своим поступком и рассказывать о слезах Пелисона. Эта история дошла до короля, и Людовик, повинуясь чувству жалости, в общем ему не свойственному, выпустил Пелисона из Бастилии в том же, 1665 году. Нормандский заговор Нормандский заговор был последней вспышкой феодального сепаратизма во Франции. В него оказался втянут лишь один представитель старой знати – принц Людовик де Роган. Роган принадлежал к одной из самых знатных фамилий Франции, первой после королевского дома. Некогда богатый, красивый, остроумный, он был душой двора, задавал тон всему и имел толпу друзей и подражателей. Но страшная расточительность и злоупотребление наслаждениями из разряда тех, которые именуются порочными, довели его до бедности и расстроили его здоровье. Умение делать долги считалось тогда главнейшим талантом дворянина; Роган развил этот талант до гениальности. С 1672 года его дела окончательно запутались, бывшие друзья отвернулись от него, его громкое имя было забыто, и теперь его с презрением именовали просто шевалье де Роган. За несколько лет перед тем он был оскорблен Людовиком XIV: король устроил охоту, не предупредив об этом Рогана, занимавшего при дворе должность обер-егермейстера. Взбешенный таким невниманием к своей особе, Роган в присутствии короля и вельмож сломал свой охотничий нож (то есть отказался от должности распорядителя королевской охоты) и ускакал. Его поступок показался придворным чудовищно дерзким, и они ожидали взрыва гнева со стороны короля, но Людовик сохранил невозмутимость. После этой выходки Роган уехал в провинцию и жил там уединенно, ожидая случая отомстить королю. Между тем в Париже созрел заговор, инициатором которого стал Афиниус Ван ден Энден. Этот человек был известен всей образованной Европе. Названный в бастильских протоколах школьным учителем, он был на самом деле доктором филологии, получившим образование в Гааге у иезуитов. По окончании колледжа он принял сан священника, но, не чувствуя призвания к духовному служению, оставил паству и женился. В Амстердаме он открыл частную школу, в которой с невероятной быстротой обучал иностранным языкам по изобретенной им методике; среди его учеников был Спиноза. Кроме того, Энден был известен как философ, занимавшийся политическими вопросами и, в частности, устройством справедливого государства. Энден был последователем и другом Иоганна де Витта, великого пенсионария (президента) Голландской республики, у которого оспаривал власть штатгальтер (главнокомандующий сухопутными вооруженными силами) Вильгельм Оранский. В 1672 году толпа оранжистов растерзала де Витта и его брата Корнелиуса; убийцы получили от Вильгельма Оранского должности и пенсии. Энден бежал от преследований в Париж, где предложил Людовику XIV свергнуть с помощью своих друзей, оставшихся в Голландии, Вильгельма Оранского, который тогда искал союза с Англией и Испанией против Франции. Людовик заинтересовался этим проектом, но вскоре Энден раскрыл истинные планы короля насчет Голландии (Людовик стремился присоединить Голландию к Франции) и начал действовать против него. Он сошелся с Латреомоном, авантюристом, не столько недовольным королем, сколько ищущим случая разбогатеть, – не важно, каким путем, – и через него вошел в сношения с губернатором Испанских Нидерландов де Монтре, договорившись с ним о совместных действиях против Людовика XIV. Заговорщики выработали план оккупации Нормандии при поддержке испанской армии и голландского флота. Чтобы вторжение иностранных войск не так сильно оскорбляло патриотические чувства французов, Монтре хотел иметь руководителем восстания кого-нибудь из видных французских вельмож. Тогда-то заговорщики вспомнили о Рогане. Латреомон отправился к нему в поместье, где в доверительной беседе открыл принцу план заговора. Роган согласился возглавить оккупационные войска, и таким образом руководители заговора составили весьма разношерстную компанию, в которой каждый преследовал свои цели: Энден хотел помочь отстоять независимость своей страны, а заодно попытаться осуществить в Нормандии свою республиканско-демократическую утопию; Латреомон надеялся разбогатеть и занять видный пост в независимой Нормандии; Рогана прельщали слава, бурная жизнь, щекочущая нервы, возможность возвратить утраченное положение и отомстить королю. Были и другие, менее заметные участники заговора: племянник Латреомона, Вильгельм Прео, принявший участие в заговоре по своей бесхарактерности и по привычке слушаться дядю, и маркиза де Вилар, молодая вдова, которая сделалась соучастницей из-за любви к Прео. Оба они не выезжали из Нормандии, где занимались вербовкой местных дворян. 2 июля 1674 года в Париже, в доме Ван ден Эндена, состоялось решающее совещание руководителей заговора. В этот день они получили давно ожидаемые новости. Монтре напечатал в «Голландской газете» условленную заметку, которая означала, что штатгальтер выделяет на экспедицию в Нормандию триста тысяч экю, а голландский флот под начальством адмирала Рюйтера готов высадить в Нормандии двадцать тысяч человек. Было решено, что Латреомон поедет в Руан формировать тайное ополчение из нормандских дворян, а Ван ден Энден отправится в Брюссель для окончания переговоров с Вильгельмом Оранским. Роган должен был остаться в Париже, чтобы не возбуждать подозрений. Однако гром грянул среди ясного неба. 11 сентября 1674 года Роган приехал в Версаль, где собрался весь двор для приема папского нунция. Во дворце к нему подошел капитан королевской гвардии Бриссак и сказал, что должен поговорить с ним наедине. Когда они вышли из капеллы, где должен был состояться дипломатическии прием, Бриссак тотчас потребовал у Рогана шпагу. Принц, пораженный неожиданностью ареста, не оказал никакого сопротивления. Рогана посадили в королевскую карету, специально выделенную для этой цели, и препроводили в Бастилию под охраной лейтенанта и четырех солдат. В крепости его встретил комендант Бемо, который уже имел приказ военного министра Лувуа, запрещающий произносить вслух имя арестованного. Заключенному отвели довольно обширную комнату с одним окном, заколоченным изнутри двойными ставнями; снаружи была толстая решетка. Эта комната стала последним жилищем принца Людовика де Рогана. Окруженный неизвестностью и терзаемый подозрениями, он так и не узнал имени своего предателя. Этим человеком был адвокат Жером дю Козе де Назель. Усердно посещая лекции Эндена, он постепенно втерся к нему в доверие и узнал, что учитель занимается политическими вопросами не только теоретически, но и практически. Рассчитывая на богатое вознаграждение, Назель 10 сентября написал королю длинное письмо, в котором сообщил все, что знал о заговоре. Доносчик мог назвать одни имена, но не имел никаких улик; тем не менее Людовик отреагировал мгновенно, распорядившись арестовать всех участников заговора. После ареста Рогана Бриссак отправился в Руан за Латреомоном. Он расставил солдат у дверей гостиницы, где остановился Латреомон, но вошел в его комнату один – они были давними знакомыми. Латреомон еще лежал в постели; ничего не подозревая, он завязал с Бриссаком дружескую беседу. Вдруг Бриссак сказал тем же добродушным тоном: – Латреомон, я арестую тебя именем короля. Латреомон оторопел от неожиданности, но быстро оправился и попросил позволения собрать свои вещи. Бриссак не возражал, внутренне радуясь тому, что дело сладилось так легко. Латреомон вышел в другую комнату, а Бриссак тем временем впустил в комнату двух солдат. Спустя несколько минут Латреомон вернулся, держа в руках два пистолета, из которых выстрелил сразу, как только появился в дверях. Однако пули попали не в Бриссака, а в одного из солдат. Бриссак, желая показать Латреомону, что он не испугался, крикнул ему: «Стреляй!» Второй солдат, приняв это за команду, выстрелил в Латреомона. Пуля попала ему в бок, Латреомон повалился на пол. Его перенесли в постель и послали за лекарем и духовником. Он умер на другой день, ни в чем не сознавшись и только твердя: – Такая смерть достойна храброго солдата!… Энден, возвращавшийся из Брюсселя, был арестован в Бурже. В его кармане нашли письмо Монтре, доказывавшее факт сношений с главнокомандующим вражеской армей (в это время шла война с Испанией, и Испанские Нидерланды были превращены в арену боевых действий). Прео и госпожа Вилар были схвачены в Нормандии. Всех их заперли в Бастилии. Вскоре, после одного удачного для французов сражения, была захвачена карета Монтре, спасшегося от преследования верхом, где была найдена его переписка с Ван ден Энденом. Открылось следствие. Каждое утро, в пять часов, следователь вызывал арестантов в Арсенал на допрос. Первым перед правосудием предстал Энден. Король приказал обращаться с этим «сумасбродом» как можно строже, но Энден молчал или все отрицал. От всего отпирался и Прео, смекнувший, что у следствия нет прямых улик против него; госпожа Вилар созналась в авторстве восьми малозначащих писем. Фактически следователи имели всего два доказательства преступления арестованных. Первым были шифрованные письма, где Монтре именовался Кверквевином, Фландрия – Марией, Голландия – Маргаритой, а Роган – Марианной, – то были имена зятя и трех дочерей Ван ден Эндена. Латреомон скрывался в них под именем мадемуазель д'Аржан; суммы, которые заговорщики надеялись получить от Испании и Голландии, назывались ценой алмазов, место, где должен был пристать голландский флот, – домом, оружие – обозом, корабли – мешками, вспомогательные войска – лекарствами Кверквевина. Вторым доказательством была копия с договора, заключенного заговорщиками с Монтре, по которому последний обещал выдать им 100 тысяч ливров, а также выхлопотать им пенсион у испанского короля; в заключение он желал Рогану счастья в исполнении его «великодушного намерения», которое, по его словам, предпринималось ради общего блага и спокойствия всей Европы. Защита подсудимых была возложена на них самих, так как еще в 1670 году Людовик XIV издал указ, где было объявлено, что «подсудимые должны сами отвечать на все вопросы и не имеют права пользоваться советами адвокатов». Что касается Рогана, то отсутствие его собственноручных писем к Монтре и гибель Латреомона могло бы, пожалуй, спасти его если не от тюремного заключения, то хотя бы от смерти. Однако он оставался в полном неведении относительно хода следствия. Другие узники пытались предупредить его о выгодах его положения, крича по ночам в каминные трубы: «Латреомон умер и ни в чем не признался!» – но тюремное начальство приняло меры, чтобы Роган не мог их слышать. Людовик чрезвычайно опасался, что Рогану могут устроить побег из Бастилии. Когда его вели на допрос, рота мушкетеров занимала все выходы Арсенала, а комендант Бастилии лично приводил его к следователям и отводил назад в камеру. Несмотря на полную изоляцию, Роган все же понял, что у следствия нет против него ничего, кроме подозрений. Тогда король прибегнул к подлой уловке. Он послал к Рогану в Бастилию министра Лувуа, который от имени короля обещал ему полное прощение, если тот чистосердечно расскажет обо всем, что знает. Роган поверил и попался в ловушку: признавшись во всем, он выдал и себя и остальных. Получив признание Рогана, следователи передали дело в суд парламента, который признал арестованных виновными в государственной измене и вынес следующий приговор: «Принц Роган, кавалер Прео и маркиза Вилар осуждаются на обезглавливание на Гревской площади. Афиниус Ван ден Энден будет казнен смертью на виселице». Когда Рогану зачитали приговор, им овладело отчаяние. Комиссар, читавший бумагу, сделал паузу и продолжил: «Король, принимая во внимание знатное происхождение и оказанные услуги, смягчает приговор суда…» При этих словах лицо Рогана просияло, и он, перебив чтеца, стал горячо благодарить и славить Людовика. – Потрудитесь дослушать, монсеньор, – холодно сказал экзекутор, – я еще не закончил: «Его Величество смягчает наказание господину Рогану следующим образом: он избавляет его от обыкновенных и чрезвычайных допросов перед исполнением приговора, которому он должен подвергнуться по решению суда». Он умолк, а Роган молчал, ожидая продолжения, еще не веря, что это конец. Затем он пришел в такую ярость, что перепугал всех присутствующих. Он кричал, что убьет Лувуа, убьет короля, проклинал их обоих и предсказывал им смерть, еще более постыдную, чем та, которую назначили ему. Его едва усмирили при помощи священников. Опасаясь, что он может от отчаяния наложить на себя руки, комендант Бастилии почел за благо надеть на него цепи и приставить к нему постоянного наблюдателя. Но одного смертного приговора Людовику было мало: Эндена и Прео перед казнью подвергли пытке. Она заключалась в том, что ноги пытаемого сдавливали двумя дубовыми досками, соединенными железным обручем; между колен вставляли деревянные или железные тетраэдры, утыканные гвоздями. Пытка эта всегда сопровождалась обмороками и часто – смертью. Семидесятичетырехлетний Энден совсем обессилел от мучений, его колени были буквально истолчены, как в ступе. Последний вопрос, на который Людовик хотел получить от него ответ, был: верит ли он в Бога? Старик, находясь при последнем издыхании, прошептал: «Да». Судьи составили протокол и дали ему подписать. Роган и госпожа Вилар были избавлены от пытки – первый, как уже было сказано, по милости короля, а вторая благодаря тому, что родилась женщиной. 27 ноября 1674 года в семь часов утра все улицы в Сен-Антуанском предместье были заняты королевской гвардией и двумя ротами конных мушкетеров. На Бастильской площади возвышались три эшафота, между которыми стояла виселица. Башни и стены крепости были заполнены солдатами и офицерами, толпы народа стекались сюда со всего Парижа. В половине третьего люди увидели, как Роган, с обрезанными волосами и связанными руками, вышел из Бастилии, высоко подняв голову и ни на кого не обращая внимания, – видимо, сознание неизбежности смерти придало ему силы. За ним шел Прео, который, несмотря на перенесенные мучения, испросил разрешение идти пешком; за ними ехала тележка с Энденом и госпожой Вилар. Энден проявлял признаки слабости и малодушия, что было приписано современниками его глубокой старости. Роган, увидев страдания старика, растрогался. Осужденных поставили каждого перед своим эшафотом. Рогана первого возвели на эшафот, завязали глаза и поставили на колени. Было очень холодно, и священник накинул ему на плечи свой плащ; в то же мгновение палач снес Рогану голову. Тело его выдали родственникам, которые, выполняя волю покойного, похоронили его в Жуарском аббатстве. Прео в это время не сводил глаз с госпожи Вилар, которая, в свою очередь, шептала ему последнее «прости». Он не позволил завязать себе глаза и умер, глядя на нее. Его голова скатилась на землю, как будто желая покоиться у любимых ног; ее бросили обратно на эшафот. Госпожа Вилар умерла, громко читая молитву. Очередь была за Энденом. Он был повешен помощниками палача, так как сам палач сослался на усталость. Казнью Рогана Людовик XIV окончательно поставил на колени родовитое дворянство, которое с тех пор превратилось в высокопоставленную дворцовую прислугу, целиком зависящую от милости короля. Герцог де Лозен В 1688 году появилась знаменитая книга Лабрюйера «Характеры, или Нравы нашего века». В конце главы «О дворе», говоря о некоем Стратоне, автор заметил, что жизнь, которую он прожил, никому не может и присниться. Современники без труда узнали в Стратоне герцога де Лозена. Лозен происходил из гасконского рода Комонов. Он был третьим сыном в семье и в молодости носил имя маркиза де Пюигильена. Сен-Симон, близко знакомый с ним, рисует внешность и характер Лозена следующим образом: «Он был невысок, белобрыс, для своего роста довольно хорошо сложен, с лицом высокомерным, умным, внушающим почтение, однако лишенным приятности… был он крайне тщеславен, непостоянен, полон прихотей, всем завидовал, стремился всегда добиться своего, ничем никогда не был доволен, был крайне необразован… характером обладал мрачным, грубым; имел крайне благородные манеры, был зол и коварен от природы, а еще больше от завистливости и тщеславия, но при всем том бывал верным другом, когда хотел, что случалось редко, и добрым родственником; был скор на вражду, даже из-за пустяков, безжалостен к чужим недостаткам, любил выискивать их и ставить людей в смешное положение; исключительно храбрый и опасно дерзкий, он как придворный был наглым, язвительным и низкопоклонным, доходя в этом до лакейства, не стеснялся в достижении своих целей ни искательства, ни козней, ни интриг, ни подлостей, но при том был опасен для министров, при дворе всех остерегался, был жесток, и его остроумие никого не щадило». Иначе говоря, Лозен был обаятельным мерзавцем, провозвестником того типа французских аристократов, чей личный и кастовый эгоизм уже не имел противовеса в виде военных и государственных заслуг. Юный маркиз де Пюигильен прибыл ко двору без гроша в кармане. Фуке одолжил ему немного денег на первое время, а затем его приютил маршал де Грамон, двоюродный брат его отца. Юноша сумел понравиться госпоже де Монтеспан, любовнице короля, царившей тогда при дворе; вскоре он сделался также любимцем Людовика, который дал ему только что сформированный гвардейский драгунский полк и придумал специально для него должность генерал-полковника драгун. Но юный честолюбец рассчитывал на большее, и в 1661 году, когда открылась вакансия на должность фельцехмейстера артиллерии, попросил ее у короля. Людовик пообещал передать артиллерию под его начало, поставив одно условие – несколько дней держать назначение в тайне (видимо, чтобы избежать докучных разговоров и неизбежных объяснений с другими просителями). Пюигильен провел эти дни как на иголках. Наконец настал срок, когда король должен был объявить о его назначении. Пюигильен с утра вертелся в Сен-Жерменском дворце, ожидая, пока король выйдет с заседания совета по финансам. В одной комнате с ним находился дежурный камер-лакей Ниер; он поинтересовался, что привело маркиза во дворец в столь ранний час. Пюигильен, уверенный в благополучном исходе своего дела, выложил ему, не таясь, их с королем секрет. Ниер горячо поздравил его, вытащил часы и, сказав, что у него есть еще одно важное поручение, сломя голову помчался по малой лестнице наверх, где размещалось военное ведомство Лувуа, чтобы сообщить министру сенсационную весть. Лувуа неприязненно относился к Пюигильену – из-за того, что ему покровительствовал Кольбер, – и, разумеется, не хотел, чтобы должность, так тесно связанная с его ведомством, оказалась в руках его врага. Выслушав Ниера, Лувуа расцеловал его и отпустил, после чего взял какие-то бумаги, чтобы иметь предлог обратиться к королю, и поспешил в зал заседания Королевского совета. При его появлении удивленный Людовик встал и пошел ему навстречу. Отведя короля в оконную нишу, Лувуа заговорил о том, что знает о намерении его величества отдать Пюигильену артиллерию; он заклинал короля не делать этого ввиду капризного характера генерал-полковника драгун, каковой, по его мнению, послужит причиной неизбежных ссор между ним и военным ведомством. Людовик, крайне раздосадованный болтливостью Пюигильена, заявил министру, что еще ничего не решил, и отпустил его. Чуть позже, когда совещание закончилось, он вышел из комнаты и молча прошел мимо воспрянувшего Пюигильена, не удостоив его даже взглядом. Изумленный Пюигильен, видя, что обещанного назначения не произошло, обратился к королю при вечернем раздевании, прося его объяснить, что случилось. «Ваше назначение пока что невозможно, – сухо ответил король. – И вообще я еще посмотрю». По уклончивости ответа и холодному тону, которым он был дан, Пюигильен догадался, что дело неладно. Он обратился к королевской фаворитке госпоже де Монтеспан, умоляя ее похлопотать за него перед королем. Та с легкостью обещала оказать содействие, но, разузнав, что король недоволен Пюигильеном, так же легко забыла свое обещание; тем не менее она продолжала ободрять маркиза надеждой на успешный исход дела. Потеряв терпение и ломая голову над тем, что могло стать причиной этих проволочек, Пюигильен, рассказывает Сен-Симон, «решился на поступок, который можно было бы счесть невероятным, если бы он не свидетельствовал о нравах тогдашнего двора». Говоря коротко, маркиз переспал с горничной госпожи де Монтеспан и добился от нее того, что девушка разрешила ему спрятаться под кроватью своей госпожи перед тем, как к ней придет король (благопристойный Людовик проводил ночи неизменно в постели с королевой, но во второй половине дня имел обыкновение посещать своих любовниц). Через некоторое время ничего не подозревающие король и госпожа де Монтеспан уединились в ее спальне, прямо над притихшим Пюигильеном. Как и ожидал маркиз, разговор коснулся его, и он узнал обо всем: и о гневе короля на его несдержанность, и о противодействии Лувуа его назначению, и о решении короля отдать эту должность другому; кроме того, он услышал, как госпожа де Монтеспан поддакивает и всячески чернит его перед Людовиком. Можно только догадываться, что чувствовал Пюигильен во время этих разговоров и потом, когда любовники надолго замолчали, но он ни малейшим шорохом не выдал своего присутствия. «Везения у него было больше, чем благоразумия, и его не обнаружили», – говорит Сен-Симон. Дождавшись, когда спальня опустела, Пюигильен выбрался из-под кровати и, тщательно стряхнув пыль с костюма, как ни в чем не бывало устроился у дверей покоев госпожи де Монтеспан, которая переодевалась, чтобы пойти на репетицию балета. Предложив руку вышедшей фаворитке, он «с самым спокойным и почтительным видом» спросил, смеет ли он надеяться, что она соблаговолит-таки напомнить о нем королю. Госпожа де Монтеспан заверила, что не забыла о его просьбе, и принялась расписывать, с каким усердием она ходатайствует за него. Пюигильен «дал ей время вконец завраться» и тогда, склонившись к ее уху, сообщил ей, что она «лгунья, дрянь, мерзавка, сучка», и слово в слово пересказал ее последний разговор с королем. Госпожа де Монтеспан была так поражена, что едва добрела до места репетиции, где упала без сознания на руки королю. Вечером она пересказала Людовику свой разговор с Пюигильеном. Оказывается, ее потрясение было вызвано уверенностью в том, что осведомленность Пюигильена объясняется не чем иным, как вмешательством дьявола. Людовик, пришедший в ярость от тех оскорблений, которые пришлось выслушать госпоже де Монтеспан, недоумевал не меньше ее, хотя и не впутывал в эту историю нечистого. С этого времени между Пюигильеном и королем возникла враждебная натянутость. Несмотря на это, Пюигильен через несколько дней возобновил разговор о своем несостоявшемся назначении, дерзко настаивая на выполнении данного ему обещания. Король коротко ответил, что считает себя свободным от данного им слова, поскольку Пюигильен нарушил поставленное условие хранить дело в тайне. Тогда Пюигильен повернулся спиной к королю, выхватил из ножен шпагу и яростно преломил ее о колено, вскричав, «что в жизни больше не будет служить монарху, который столь недостойно не держит слова». «Разгневанный король, – пишет Сен-Симон, – в тот миг совершил, быть может, самый прекрасный в своей жизни поступок: распахнул окно, выбросил в него трость, сказав, что никогда бы не простил себе, если бы ударил столь знатного дворянина, и вышел». На следующий день Пюигильен был арестован у себя дома и посажен в Бастилию. Его содержали без особой строгости, и маркиз, как видно из дальнейшего, не почувствовал ни капли раскаяния. Де Гитри, близкий друг Пюигильена, осмелился вступиться за него перед королем. Ему удалось убедить Людовика, будто неслыханное поведение маркиза объясняется тем, что он потерял голову, получив отказ от столь значительной должности, на которую полностью рассчитывал. Король объявил о своем намерении забыть произошедшее и в знак примирения попросил Пюигильена принять вместо должности фельцехмейстера артиллерии патент капитана гвардии. Узник, видя «столь невероятно скорое возвращение благосклонности короля», имел довольно наглости, чтобы поторговаться, в надежде вырвать место позначительнее. В конце концов ему все же пришлось удовлетвориться тем, что ему давали. Едва он дал свое согласие, как ворота тюрьмы распахнулись перед ним. Таким образом, он стал первым и единственным узником Бастилии, условием освобождения которого было личное согласие на повышение в чине. И, судя по всему, его препирательство длилось довольно долго, так как он вышел из Бастилии с огромной бородой, над которой потешался весь двор и которую он и не подумал сбрить. Тюремное заключение нисколько не вразумило его, и впоследствии он сыграл над королем еще одну злую шутку. Унаследовав после смерти отца титул герцога де Лозена, он начал ухаживать за принцессой Монако. Но вскоре выяснилось, что король и тут перешел ему дорогу. Взбешенный Лозен вначале дал почувствовать свою ярость коварной принцессе, отдавшей предпочтение не ему, а какому-то королю. Явившись к ней в послеобеденный час, когда она отдыхала вместе с другими дамами, полулежа на ковре, расстеленном прямо на полу, он завел светский разговор, во время которого ловко наступил острым каблуком на ладонь принцессы, попрощался и, круто повернувшись, вышел. Светские приличия заставили принцессу вытерпеть экзекуцию, не издав ни звука. Затем наступила очередь Людовика. Лозен занял позицию в нужнике напротив комнаты, где должно было состояться свидание короля с принцессой Монако. Через небольшое отверстие в двери он увидел, как король зашел в комнату, отослав лакея за принцессой; при этом снаружи в замочной скважине остался торчать ключ. Лозен вышел из своего убежища, запер короля на два оборота и с величайшим наслаждением бросил ключ в нужник. Вслед за тем он занял прежний пост и давился от смеха, слушая недоуменный разговор любовников через запертую дверь, а потом наблюдая, как сбежавшаяся прислуга освобождает сконфуженного короля. Эта проделка благополучно сошла Лозену с рук. К несчастью для Лозена, его стремления и надежды всегда опережали его действительное положение, пусть даже самое блестящее. Вскружив голову Мадемуазель (так называли дочь герцога Орлеанского), он предложил ей выйти за него замуж и получил ее согласие; Людовик разрешил им пожениться. Этот почти королевский брак должен был принести дерзкому счастливцу огромное состояние и неслыханное влияние, но Лозену было этого мало. Он непременно желал, чтобы венчание состоялось во время королевской мессы. Герцог Орлеанский, весьма недовольный выбором дочери, воспользовался этим и сумел убедить короля, что Лозен окончательно зарвался. Людовик вторично взял назад свое слово. «Мадемуазель метала громы и молнии», – пишет Сен-Симон, но Лозен на удивление всем «с великим благоразумием, вообще-то ему не свойственным, принес эту жертву королю». В качестве утешительного приза он получил роту телохранителей-алебардщиков и был тут же произведен в генерал-лейтенанты; чуть позже, в 1670 году его назначили командующим армией во Фландрии. Но что все это значило по сравнению с расторгнутой помолвкой! В ноябре 1671 года последовала новая опала – на этот раз по наговору его врагов, сумевших убедить Людовика в том, что Лозен использует свое влияние в армии для подготовки мятежа. После короткого пребывания в Бастилии он оказался в Пиньероле, где уже десять лет томился Фуке, и был заключен в каземат; все его должности были у него отобраны. Он провел в Пиньероле почти десять лет – с декабря 1671 по апрель 1681 года. Лозен и здесь сумел остаться собой, превратив жизнь коменданта Пиньероля Сен-Марса в сущий ад. В 1676 году он попытался бежать: выломал оконную решетку и стал спускаться по стене, но по неловкости свалился прямо на голову часовому. Будучи огорчен неудачей, он устроил в камере пожар; на следующий день сделал попытку покончить с собой; еще через день симулировал приступ мистического безумия, а затем в течение двух недель изображал глухонемого. И при всем том он еще был вечно недоволен комендантом! Сен-Симон передает следующий случай, рассказанный ему самим Лозеном. Однажды он опасно заболел и позвал священника для исповеди. По его словам, он так боялся, что к нему пришлют поддельного исповедника, что когда в камеру вошел капуцин, Лозен схватил его за бороду и изо всех сил стал дергать, чтобы проверить, не накладная ли она. Тяготясь одиночеством, Лозен выломал решетки в дымоходе и однажды ночью перепугал Фуке, чья комната находилась ниже, свалившись к нему в камин. С трудом признав в неожиданном госте юношу, некогда искавшего его покровительства, бывший суперинтендант, которому в ту пору запрещали видеться и переписываться с кем бы то ни было, жадно принялся его расспрашивать о новостях. «Несчастный суперинтендант, – рассказывает Сен-Симон, – весь обратился в слух и только широко раскрыл глаза, когда этот бедный гасконец, который был счастлив, что его приняли и приютили у маршала де Грамона, повел речь о том, как он был генералом драгун, капитаном гвардии, получил патент и назначение на командование армией. Фуке был в полном замешательстве и решил, что Лозен повредился в уме и рассказывает свои видения, особенно когда тот поведал, как он не получил артиллерии и что случилось потом; услышав же, что король дал согласие на его свадьбу с Мадемуазель, о том, что стало помехой этому браку и какие богатства невеста принесла бы в приданое, Фуке совершенно уверился, что безумие собеседника достигло предела, и ему стало страшно находиться рядом с ним». Позже, когда бывшему суперинтенданту позволили писать родным, он первым делом упомянул о «безумии» бедняги Пюигильена; с каким же изумлением он прочитал в ответном письме, что все рассказанное беднягой Пюигильеном – чистая правда! Одно время Фуке, кажется, готов был поверить, что и его родные тронулись в уме. Отношения Лозена с Фуке продолжались довольно долго и закончились смертельной ссорой. Дело было в том, что шестидесятилетний Лозен сумел соблазнить двадцатилетнюю дочь Фуке, приехавшую навестить отца; передают, что девушка проникла к нему в комнату по тому же дымоходу. Фуке пришел в ярость и нажаловался на Лозена коменданту, выдав, что старый распутник тайно получает письма и деньги. Лозен вышел из Пиньероля заклятым врагом Фуке и, как мог, вредил ему при его жизни, а когда тот умер, перенес свою ненависть на его семейство. Своим освобождением Лозен был обязан Мадемуазель, которая ради этого уступила герцогу Мэнскому, незаконнорожденному сыну короля, ряд своих владений, – такую цену Людовик назначил за свободу ее любовника. Выйдя из тюрьмы, Лозен уехал в Англию, где приобрел славу страстного и необыкновенно везучего игрока. Парламентская революция 1688 года, отнявшая корону у Якова II в пользу голландского штатгальтера Вильгельма Оранского, предоставила Лозену случай с триумфом вернуться во Францию. Свергнутый Яков бежал из страны, доверив ему самое дорогое – королеву и принца Уэльского, которых Лозен благополучно доставил в Кале. Благодарная королева исхлопотала для спасителя аудиенцию у Людовика. Их встреча состоялась на Сен-Жерменской равнине. Король вернул Лозену свое расположение вместе с постоянными апартаментами в Версале, Фонтенбло и Марли. Отныне и до самой смерти Людовика XIV Лозен не покидал двора. Несмотря на значительное влияние, которым он пользовался в Версале, он сделался нелюдим и задумчив; каждую годовщину своей последней опалы он отмечал каким-нибудь сумасбродством, снискав себе славу мрачного оригинала. Их отношения с Мадемуазель длились еще несколько лет, будучи отмечены бурными ссорами, во время которых принцесса царапала его ногтями, а он, не стесняясь, поколачивал ее; однажды, чтобы вымолить прощение, он прополз на четвереньках через всю галерею. В конце концов эта странная пара рассталась. Незадолго перед смертью он сыграл свою последнюю шутку. Серьезно заболев, он уединился в своей комнате, где спустя какое-то время с неудовольствием заметил, что его наследники чересчур навязчиво пытаются выяснить его шансы на выздоровление. Однажды он увидел в каминное зеркало, как они пробрались в комнату и спрятались за портьерами, чтобы своими глазами убедиться в состоянии его здоровья. Не подав виду, что он открыл их хитрость, Лозен притворился умирающим и принялся горячо молиться Богу, обещая во искупление своих грехов отдать все свое имущество больницам. Краем глаза он с удовлетворением наблюдал в зеркале, как наследники в отчаянии покинули свое укрытие. Чтобы нагнать на них побольше страха, Лозен немедленно послал за нотариусом, чье появление вызвало в доме настоящую панику. Лозен так развеселился, что даже поправился, и потом с удовольствием рассказывал о своей проделке знакомым. Он умер девяноста лет от роду, проведя последние дни в монастыре Малых августинцев, где и был похоронен согласно своему желанию. Другим предсмертным распоряжением он запретил пышные похороны. Отравители В начале 1670-х годов в Париже разразился самый громкий скандал за все время царствования Людовика XIV. Он был связан с процессом над отравителями, взбудоражившим воображение парижан. Эта история началась с того, что некий итальянец Экзили, занимавшийся поисками философского камня, обнаружил яд без наружных следов действия, который впоследствии был окрещен остряками «порошком наследства». Его ученик, офицер Сен-Круа, уговорил маркизу де Бренвилье, свою любовницу – молодую, живую женщину с большими выразительными глазами – попробовать этот яд на ее отце, судье д'Обре, который препятствовал их связи. Маркиза не смогла отказать милому и отправила отца на тот свет, благополучно избежав подозрений в отравительстве. Затем настал черед обоих ее братьев и невестки – уже из-за богатого наследства. Видимо, маркиза была психически ненормальной женщиной: вскоре она дала яд и своей малолетней дочери, так как заметила, что она взрослеет (так записано в чудовищном дневнике маркизы, в котором она вела учет своих жертв). Кроме того, маркиза и ее любовник клали яд в паштеты из голубей и потчевали ими своих гостей и сотрапезников – просто для развлечения. Семидесятилетний священник Стефан Гейбург изобрел другой знаменитый яд «avium risus» («смех птиц»), от которого умирали в припадке безудержного смеха, так как у отравившегося им возникала подъязычная опухоль. Известные в Париже гадалки и прорицатели Ла Вуазен, Лесаж и Вигуре воспользовались изобретениями Экзили и Гейбурга и начали не только предсказывать наследникам смерть богатых родственников, но и способствовать ей. Их почитали за людей, имевших необыкновенные познания в тайных науках. В судебных протоколах неоднократно упоминается, что они давали яд тем, кого их просили отравить, под видом чудодейственного средства, якобы наделявшего человека даром ясновидения и узнавания мест сокрытия сокровищ. Несколько священников помогали им в этом деле, весьма своеобразно причащая богатых больных. Они продавали ядовитые снадобья и служили молебны об успехе отравления перед распятием, поставленным вверх ногами. Подпольные черные мессы служились ими едва ли не чаще, чем литургии в церквах. Тот же Гейбург показал на суде, что гофмейстер королевского двора неоднократно привозил к нему знатных женщин, желавших забеременеть, и он читал над их обнаженными животами молитвы и заклинания, вроде следующего: «Я заклинаю вас, духи, коих имена означены на сей бумаге, исполнить волю и намерение той особы, для которой я служу молебен». За короткое время трагедии разыгрались в 500—600 богатых парижских домах. Страх парализовал Париж; отцы семейств закупали припасы и сами готовили пищу в какой-нибудь грязной пригородной харчевне, чтобы не стать жертвой предательства в собственном доме. Вскоре зараза распространилась по всей стране, всюду находили трупы людей, умерших внезапно, без всякой видимой причины. Казалось, вся Франция разделилась на отравителей и отравляемых. Король учредил особую Огненную палату для расследования этих преступлений. Случай помог открыть истину. Сен-Круа погиб при взрыве реторты с отравленной жидкостью. Поскольку у него не было наследников, его имущество опечатали. В одном из ящиков бюро судебные исполнители обнаружили целый арсенал ядов, а в другом – письма маркизы Бренвилье, полностью изобличавшие обоих. Маркиза была обезглавлена, Ла Вуазен и еще пятьсот человек, подозреваемых в отравительстве, исчезли в подвалах Огненной палаты. Однако для дальнейшего расследования король был вынужден создать тайную комиссию, поскольку обвиняемые называли имена таких высокопоставленных лиц, что судьи пришли в ужас. Выяснилось, что колдунью посещал брат короля герцог Орлеанский, требовавший у нее какого-нибудь средства, с помощью которого он мог бы влиять на волю короля; герцог Люксембургский, маршал Франции, заставлял Лесажа приготовлять яды и делать заклятия против короля; кроме того, он просил Сатану сделать так, чтобы его пожалование в Пиренейские герцоги считалось со дня основания Пиренейского поместья (в 1576 году); герцог Бульонский, наследник маршала Тюренна, платил колдунье пятьдесят тысяч ливров, чтобы она вызвала ему тень легендарного полководца, и готов был дать еще двадцать тысяч, если она заставит призрак указать место, где маршал зарыл свои сокровища: герцог не сомневался в правдивости этого слуха; госпожа Дре, влюбленная в герцога Ришелье, отравила всех своих соперниц. (Кстати сказать, в протоколах Огненной палаты упоминается и имя Расина в связи с таинственной смертью его любовницы дю Парк.) Наверное, далеко не все, о чем говорится в судебных протоколах, заслуживает безусловного доверия: допросы велись с применением пытки и, конечно, доля напраслины в показаниях обвиняемых должна быть весьма велика. В этом отношении характерно дело Марии Анны Манчини, герцогини Бульонской (племянницы Мазарини), обвиненной в том, что она просила Лесажа отравить ее мужа для того, чтобы выйти замуж за герцога Вандома. Из показаний самой герцогини видно, что вся ее вина состояла в любопытстве и, быть может, в излишней доверчивости к прославленному шарлатану. Этот «колдун» и «маг», в качестве доказательства своего искусства, обещал герцогине и Вандому у них на глазах сжечь записку с несколькими вопросами, а затем доставить ее в целости и сохранности в любое место, какое они укажут, и ответить на записанные вопросы. Вандом записал на куске бумаги два вопроса: где сейчас находится герцог Наваррский и умер ли в действительности герцог Бофор – и запечатал ее своим перстнем. Лесаж связал ниткой свернутую в трубку бумагу, вложил ее в конверт, который Вандом лично сжег. После этого Лесаж уверил герцогиню, что она найдет записку у себя дома, в одной из фарфоровых ваз. Герцогиня поспешила домой, но, разумеется, ничего не обнаружила. Однако через несколько дней Лесаж принес ей записку – ту же самую или очень похожую, – что немало удивило герцогиню. Вандом потребовал повторения фокуса, причем с условием, чтобы Лесаж возродил сожженную записку немедленно. От этого условия шарлатан отказался, заявив, что они получат записку по прошествии некоторого времени. Проделав все манипуляции, как в первый раз, он простился с сановными любовниками. Герцогиня неоднократно посылала к нему слуг, даже ходила сама и требовала предъявить записку, но он отговаривался под разными предлогами. Наконец через четыре дня Лесаж сам появился в доме герцогини и с печальной торжественностью объявил, что, к сожалению, из-за непредвиденных препятствий сивиллы не могут скоро сообщить ему ответа на вопросы записки. Слова шарлатана показались герцогине настолько смешными, что она рассказала об этом случае многим своим знакомым и даже написала о нем мужу, который тогда находился в армии. Судьи, у которых чувства юмора оказалось меньше, чем у герцогини Бульонской, объяснили провал второго фокуса тем, что во второй записке она якобы спрашивала о времени смерти мужа, а Лесаж не захотел отвечать на этот щекотливый вопрос. Решения суда по ее делу не сохранилось. Впрочем, все титулованные преступники и подозреваемые покинули Огненную палату с гордо поднятой головой: самым строгим наказанием для них стал запрет подъезжать к Парижу ближе чем на двадцать часов езды. (Правда, король тяжело переживал, что зараза поразила его ближайшее окружение; он долго еще повторял со слезами: «Я боюсь, что мне придется ответить перед Богом и перед моим народом за оказанное мною снисхождение».) Ла Вуазен увлекла за собой на хвосте ведьмовского помела одну графиню де Суассон, бывшую любовницу Людовика XIV. Колдунья показала, что графиня около тридцати раз приходила к ней и требовала приготовить любовный напиток, который позволил бы ей возвратить симпатии его величества. Не довольствуясь этим, она носила к ведьме волосы, ногти, чулки, рубашки, галстуки короля для изготовления любовной куклы, с тем чтобы произнести над ней заклятия. Графиня принесла даже капли крови Людовика XIV, подкупив за огромную сумму королевского лекаря. Замаранная показаниями отравительницы, графиня поспешно бежала и остаток своей жизни провела, странствуя по Европе, точнее, изгоняемая из одного города в другой. Зато из пятисот арестованных горожан к ответственности были привлечены сто тринадцать человек. Им вменялись в вину отравительство, убийства, сношения с дьяволом, порча, участие в черных мессах и т. д. Экзили бесследно исчез за стенами Бастилии еще до того, как Сен-Круа и маркиза Бренвилье опробовали на практике его изобретение. Однако страх перед итальянцами долго не проходил. Через несколько лет после описанных событий был арестован один итальянский химик по подозрению в изготовлении ядов, а в 1682 году в Бастилию был заключен другой его соотечественник – за то, что он, как сказано в тюремных документах, «дал очень плохие объяснения, почему он пребывает во Франции». Побывали здесь также четыре дворянина из Сицилии – семья Троватти: отец, двое его сыновей и их дядя. При аресте у них нашли какие-то порошки, травы, магические знаки и т. п. Много позже, в 1704 году, когда эпидемия отравительства уже давно прошла, в Бастилию вновь попала женщина, подозреваемая в этом преступлении. Впрочем, ее скоро отпустили: оказалось, что она продавала нетерпеливым наследникам под видом яда толченый кирпич, смешанный с солью. Из школы – в Бастилию В Париже, на улице Святого Иакова, находилась иезуитская школа – Клермонтская коллегия. В 1674 году, по случаю очередной победы в войне с Голландией, ее профессора написали трагедию, которую должны были разыграть на сцене ученики, и пригласили Людовика XIV на премьеру. Король ответил согласием. Во дворе коллегии королевскую карету встретили декорации и транспаранты, изображавшие различные народы, склонившиеся перед Людовиком; латинские двустишия под ними на все лады восхваляли могущество, славу и набожность его христианнейшего величества. Сама трагедия была полна высокопарной чуши в адрес Людовика и ругательств над его врагами. Авторы дошли до того, что нарочно допустили некоторые неточности в стихах, чтобы дать королю случай поправить эти места и тем самым показать свой тонкий вкус. Людовик остался доволен вечером: ему понравился и сюжет трагедии, льстивший его тщеславию, и волнение актеров, смущенных присутствием «короля-Солнца», и подобострастное внимание святых отцов, которые аплодировали при малейшем знаке одобрения с его стороны… Король сделал ректору несколько замечаний, касающихся стиля трагедии и ее постановки, и тот, несмотря на благосклонную улыбку августейшего критика, побранил потупившихся сочинителей и актеров. Уезжая, Людовик бросил последний взгляд на декорации во дворе и поблагодарил ректора за приятный вечер. При этом один придворный стал довольно громко восхищаться за спиной короля достоинствами профессоров и учеников. Людовик оборвал его на полуслове. – Что ж здесь удивительного? – сказал он, садясь в карету. – Ведь это моя коллегия. Эти слова подали ректору мысль изменить название школы. До сих пор на фасаде здания висела деревянная доска с латинской надписью «Collegium Claromontanum» и изображением креста. За одну ночь вместо этой доски изготовили и повесили плиту из черного мрамора, на которой золотыми буквами было высечено: «Collegium Ludovici Magni» («Коллегия Людовика Великого»); крест был заменен лилиями. Наутро в коллегии только и было разговоров, что о вчерашнем посещении короля и перемене названия школы. Среди учеников коллегии был некто Франсуа Сельдон, шестнадцатилетний юноша из богатой ирландской семьи. Его родители, по обычаю того времени, отправили юношу в Париж, чтобы он научился там всему, что подобало знать дворянину. Но он не мог привыкнуть к жесткой дисциплине иезуитского училища и всячески увиливал от занятий. Вчера Сельдон не присутствовал на празднике, поэтому утром он с изумлением уставился на черную мраморную плиту у входа в коллегию и бросился расспрашивать своих товарищей. Разузнав обо всем, он решил посмеяться над верноподданническим рвением святых отцов. После занятий он подозвал фонарщика, что-то прошептал ему на ухо, сунул в руку экю и передал лист бумаги… На другой день ученики увидели на дверях коллегии латинское двустишие: Нечестивое племя! Иисусу предпочитаете вы лилии, Вместо Бога поклоняетесь вы королю. Эпиграмма произвела страшную суматоху. Сначала ее заметили одни ученики и радостно подхватили. Затем о ней узнали профессора и приказали тотчас снять ее, но было поздно – к вечеру стихи декламировал весь город. Ректор срочно созвал совещание. Скандальный листок ходил по рукам профессоров, вызывая множество толков и предположений: одни обвиняли в случившемся бенедиктинцев, другие грешили на янсенистов… Наконец один профессор узнал почерк Сельдона. Из расспросов учеников и фонарщика, который во всем сознался, были получены бесспорные доказательства его вины. Совет коллегии решил всем составом отправиться в Версаль, чтобы поблагодарить короля за полученное к тому времени позволение сохранить новое название коллегии и попросить о заключении виновного в Бастилию. Выслушав иезуитов, Людовик нахмурил брови и тотчас же выдал бланк на арест шутника, добавив, что подобная дерзкая выходка заслуживает самого сурового наказания. На следующий день Франсуа Сельдон не явился в коллегию: его арестовали той же ночью. Юношу связали, точно какого-нибудь убийцу, бросили в карету и отвезли в Бастилию. На несчастного Сельдона напал страх, когда он увидел, что все встречавшиеся на пути солдаты и тюремщики закрывали лицо или отворачивались при его приближении, – он не знал, что таковы были обычные меры предосторожности, предписанные уставом Бастилии. Затем страх сменился удивлением при виде того, как офицеры на глазах у Сельдона поделили между собой отобранные у него часы, деньги и другие вещи. Его поместили на третий этаж одной из башен, в просторную пустую комнату, куда свет едва проникал через маленькое окно без стекол и с толстой решеткой. В потемках с трудом можно было рассмотреть несколько предметов, составлявших ее меблировку, – сломанную кровать, стул без спинки и стол, изъеденный червями; разорванный матрас издавал невыносимое зловоние. Мало-помалу его глаза привыкли к темноте, и Сельдон различил надписи на стенах, сделанные на многих языках. Одна из них гласила: «Вот уже двадцать лет сижу я в этой комнате, двадцать лет я спрашиваю у людей, что я им сделал, и у Бога – зачем Он оставляет меня жить и страдать». Прочитав эти слова, Сельдон, все еще надеявшийся, что его скоро выпустят, похолодел от ужаса. Он пытался вступить в разговор с тюремщиком, приносившим ему еду, но тот безучастно молчал. Потянулись долгие месяцы одиночного заключения. Ему не разрешали ни писать, ни с кем-либо видеться. Из Бастилии Сельдона переправили на острова Святой Маргариты, где он провел семнадцать лет. В 1691 году он снова оказался в Бастилии, откуда вышел только в 1705 году, таким образом пробыв в заключении тридцать один год за два стиха, которые едва ли заслуживали даже порки. Вероятно, он так бы и умер в тюрьме, если бы в дело вновь не вмешались иезуиты. Его духовник, отец Рикеле, узнал, что после смерти родителей Сельдон оказался единственным наследником огромного состояния. Рикеле немедленно воспользовался этим, чтобы заставить Сельдона купить свою свободу. Он составил и дал ему подписать следующий документ: «Все мое имущество, движимое и недвижимое, я обязуюсь передать отцу Рикеле или тем членам иезуитского ордена, которых он пожелает выбрать. Следуя моим личным интересам, я оставляю себе доход в два процента со стоимости всего имущества, который после моей смерти также перейдет в руки святого иезуитского общества, моего единственного наследника. Такое завещание я делаю в благодарность за услуги, оказанные мне преподобными отцами во время моего долгого заключения. Составлено в Бастилии, 15 ноября 1705 года». Иезуит и не думал выполнять свое обещание, но на этот раз ученик перехитрил учителей. Перечитав завещание, Рикеле с досадой обнаружил в нем приписку, сделанную Сельдоном после слов «которых он пожелает выбрать»: «когда я освобожусь из Бастилии». Делать было нечего. Иезуиты стали так же ревностно хлопотать о спасении Сельдона, как тридцать лет назад хлопотали о его гибели. Скоро они получили соответствующий приказ от стареющего Людовика XIV, находившегося всецело под их влиянием. Сельдон с волнением ожидал своего освобождения. Когда за ним явились, чтобы отвести его к коменданту, он упал в обморок и был отнесен к Сен-Марсу на руках. Комендант заставил его написать под диктовку еще одну бумагу – на этот раз королю: «Сир! По бесконечному милосердию Вашего Величества, Вы соблаговолили простить мне все мои преступления против Вас. Эти преступления я сознаю, ненавижу и от всего сердца прошу за них прощения у Вашего Величества. Я всегда буду самым покорным, самым преданным и самым благодарным из Ваших подданных. Я находился в заблуждении, когда оскорбил Вас – образец государя. Примите, Ваше Величество, всепокорнейшую благодарность от Вашего кающегося подданного, и пусть меня постигнет кара как в этой жизни, так и в будущей, если я когда-либо забуду милосердие Вашего Величества, избавившего меня от суда и пыток, которых я заслужил». Затем комендант сказал: – Сделайте приписку: «Во время моего пребывания в Бастилии все служащие в этой тюрьме, сторожа и офицеры, обращались со мной кротко и вежливо. Я считаю долгом засвидетельствовать, что они оказывали мне все услуги, которые были возможны в моем положении». Здесь Сельдон, вспомнив голод, холод, бряцание ключей и цепей, все притеснения, которые он испытал в течение тридцати лет, заколебался, но Рикеле настоял, что сделать это совершенно необходимо. Сельдон дрожащей рукой, отвыкшей от пера, нацарапал требуемую приписку. После этого с него взяли клятву что он забудет все виденное, слышанное и испытанное им в Бастилии и никому, ни при каких обстоятельствах не откроет ничего, что касается внутренних порядков этого королевского замка. – Теперь вы свободны, – произнес комендант. Через полчаса Сельдон, чисто выбритый и одетый в приличное платье, выданное ему Рикеле за 50 экю в счет его будущих доходов, перешел подъемный мост Бастилии. Иезуиты, получившие от этой сделки сто тысяч ливров годового дохода, продолжали его опекать и после освобождения. Сельдон прожил еще долго, но до конца дней его преследовали воспоминания о Бастилии – воспоминания, которыми он ни с кем не смел поделиться. Новые гонения гугенотов До 1685 года Людовик XIV открыто не нарушал Нантский эдикт Генриха IV о свободе вероисповедания для гугенотов. Правда, королевские драгуны хозяйничали в протестантских селениях, куда их определяли на постой, и, под предлогом подавления бунта против короля часто десятками истребляли протестантов, но те все же еще могли публично исповедовать свое вероучение. Однако драгонады[29], сопровождавшиеся страшным кровопролитием в Руане, Нанте, Марселе и Бордо, не удовлетворили иезуитов, и они побудили Людовика XIV издать постановление, по которому больные протестанты, отказывавшиеся от предсмертного причащения по католическому обряду, предавались суду в случае выздоровления. Мужчины приговаривались к публичному покаянию и ссылке на галеры, женщины – к покаянию и пожизненному заключению. Умершие без причастия не избегали возмездия: имения их конфисковывали, а трупы бросали в поле на съедение хищным животным и птицам. Под влиянием своего духовника иезуита Летелье и последней фаворитки – госпожи де Ментенон – Людовик XIV 25 октября 1685 года отменил Нантский эдикт. Этот указ самым пагубным образом отразился на положении страны. Гонимые протестанты десятками тысяч бежали за границу. Король запретил им покидать Францию без особого письменного разрешения, но, несмотря на этот запрет, около полумиллиона протестантов уехали из Франции, в результате чего многие провинции превратились в пустыню, торговля и промышленность заглохли, приток налогов в казну сократился, страна лишилась состоятельных людей и умелых, квалифицированных работников. Внутренняя политика Людовика XIV принесла Франции не меньше бед, чем внешняя. «Государство выигрывает от того, что теряет таких дурных подданных», – написал король на полях доклада одного французского дипломата, указывавшего на государственные невыгоды религиозной нетерпимости. На деле оно проиграло, что было очевидно многим уже тогда. Например, маршал Вобан в письме военному министру Лувуа жаловался, что Францию оставили 100 тысяч французов, способных носить оружие, из них 9 тысяч матросов, «самых лучших в королевстве», 600 офицеров и 12 тысяч солдат; эмигранты увезли с собой не менее 60 миллионов ливров. После этого стоит ли удивляться сокрушительному поражению Франции в войне за испанское наследство (1701 – 1714), которое увенчало разорительное царствование Людовика XIV? Бастилия в эти годы вторично, после эпохи отравительства, переполнилась заключенными. На этот раз ими в основном были протестанты, которых тюремная администрация во что бы то ни стало хотела обратить в католичество. Если увещевания не помогали, то комендант прибегал к угрозам и пыткам, от которых не были избавлены даже женщины и дети. Такого количества заключенных, столько горя и страданий стены Бастилии не видели ни до, ни после этих страшных лет. Множество подробностей о содержании заключенных в Бастилии в эту эпоху оставил в своих записках Константин Ренвиль. Он был младшим ребенком в многодетной семье; одиннадцать его братьев погибли в войнах, которые вел Людовик XIV. Самому Ренвилю министр Шамиляр дал поручение к одному иностранному двору; Ренвиль в точности исполнил инструкции и спокойно возвратился во Францию, где был обвинен в государственной измене. Он просидел в Бастилии одиннадцать лет, все его письма с просьбой о помиловании даже не отправляли адресатам. Однажды, в первые годы его заключения, за какое-то нарушение дисциплины его поместили в подземный каземат, настолько грязный, что ноги Ренвиля утопали в вонючей жиже, в которой барахтались крысы и жабы, пожиравшие предназначенную ему пищу – хлеб и воду. Ренвиль пересидел чуть ли не во всех камерах Бастилии и насчитал в них 250 заключенных, то есть по пять– семь человек в каждой камере. Бастильское начальство в угоду Людовику XIV стремилось обратить арестованных протестантов в католичество. Однако обращение в «истинную веру» вовсе не означало обретение свободы. Гуарлен, советник из Беарна, внявший совету иезуита Рикеле и отрекшийся от своей веры, продолжал оставаться в заключении: он был доведен до того, что должен был прикрывать свое тело старым одеялом вместо одежды. Некий Ла Маса просидел двадцать два года после того, как перешел в католичество, Суара – десять лет. Очень характерна в этом отношении история одного швейцарца из Невшателя, по имени Перро. Он был арестован за то, что осмелился вступиться за преследуемых соотечественников-протестантов. Обыкновенно миссионерскую работу в тюрьме выполняли добровольцы из заключенных-католиков, которые надеялись таким способом получить свободу. На Перро направил свои миссионерские старания некто Ле Шевалье, тупой и неотесанный грубиян огромного роста. Он начал с обещаний, затем прибегнул к религиозным дискуссиям и под конец набросился на непреклонного Перро с ругательствами. Злоба Ле Шевалье была так велика, что другие заключенные, свидетели их споров, просили бастильское начальство развести противников в разные комнаты, но Сен-Марс не обратил на их слова никакого внимания, радуясь случаю досадить гугеноту. Вскоре Ле Шевалье затеял драку и сильно избил Перро. Измученный швейцарец стал умолять офицеров избавить его от миссионера, но те только смеялись в ответ. Вскоре после этого Перро, защищаясь от очередного нападения Ле Шевалье, раскроил ему стулом череп. Приговоренный к виселице, несчастный гугенот не имел ни минуты покоя от иезуитов, которые убеждали его хотя бы перед смертью спасти душу. Господь был милостив к нему: Перро умер, читая молитву. Палач повесил уже мертвое тело. Рассказать о каждом заключенном, находившемся в те годы в Бастилии, конечно, невозможно. Но вот еще несколько необычных судеб, сохранившихся в тюремных протоколах. В 1691 году, перед отъездом короля на осаду Монса, полиция узнала, что два купца, Дике и Гюи, вместе с двенадцатью родственниками, известными за «смелых людей, которым ничего доброго не доверяли», собираются отправиться туда же. Это показалось подозрительным, и начальник полиции поручил одному из своих агентов следить за путешественниками и арестовать их, если выяснится, что они и в самом деле направляются во Фландрию. 5 апреля Дике и Гюи, верхом, одетые рейтарами, с пистолетами в карманах, добрались до большой Буржской дороги. Здесь к ним присоединился какой-то рейтар, который сказал, что также едет в Монс. В Лувре, где они обедали, их спутник, оказавшийся тем самым полицейским агентом, приказал их арестовать. На допросе купцы заявили, что ехали в Риссель, куда они заранее отправили свои товары; они твердо стояли на том, что никогда не намеревались ехать в Монс. Единственное, что могли выудить из них следователи, – это признание того, что они хотя и отреклись от протестантства по приказу короля, но втайне исповедовали свою прежнюю религию. На основании предполагаемого направления их поездки и того факта, что они были вооружены карманными пистолетами, следствие сделало вывод, что купцы намеревались совершить покушение на жизнь короля. Дике и Гюи бросили в Бастилию, откуда перевели в Гвидскую тюрьму, где они находились еще в 1695 году; там, вероятно, они и умерли. Супругам Лафонтен, посаженным в Бастилию, было объявлено, что их заключение продлится до тех пор, пока во Францию не вернется их сын, бежавший в Швейцарию от наставника-иезуита, к которому он был отдан на воспитание. Они клятвенно подтвердили, что не принимали никакого участия в побеге сына, и добавили, что скорее умрут в тюрьме, чем попросят его вернуться назад. Они открыто исповедовали кальвинистское вероучение и один раз уже побывали из-за этого в Бастилии. Новое заключение они перенесли с твердостью, которая сделала их знаменитыми среди парижских гугенотов. Елизар Кутансе в 1693 году прибил на воротах церкви памфлет на преследование своих единоверцев. В Бастилии, где он пытался разбить себе голову о стену, к нему были приставлены два стража, находившиеся при нем безотлучно. Кажется, Кутансе был психически нездоров; тем не менее он мужественно вытерпел все издевательства и даже пытки. Однажды он попросил передать, что хочет увидеться со следователями. Приведенный к ним, он некоторое время делал вид, что пытается что-то вспомнить, кривлялся, подмигивал и наконец попросил разрешения помолиться. Когда стражники его отпустили, он встал на колени и громко призвал божественное проклятие на голову католиков. – Знайте же, что я всю мою жизнь буду делать то же самое! – воскликнул он в исступлении. Больше от него ничего не смогли добиться. Но, может быть, наиболее поразительной является судьба Исаака Арме Даву-Асетта, проведшего в Бастилии пятьдесят четыре года шесть месяцев и двадцать дней. Он происходил из протестантской фамилии и состоял кадетом в роте под началом своего брата. В 1695 году его обвинили в соучастии в убийстве одного судьи, совершенном двумя его племянниками, но, кажется, главная его вина состояла в том, что он был гугенот. Посаженный в Бастилию, Даву-Асетт провел в ней в качестве узника сорок лет и был отпущен из нее в возрасте 73 лет. Однако он попросил у Людовика XV милостивого позволения по-прежнему жить в Бастилии. Король разрешил ему это, и Даву-Асетт со слезами радости снова увидел тюремные стены, решетки, замки, которые были его домом, и тюремщиков и заключенных, которые были его семьей. Двенадцать последних лет ему не позволяли долго жить в одной и той же комнате, так как он немедленно устраивал в ней склад дров, свечей й всякой ветоши. Боясь, как бы полоумный старик не устроил пожара, комендант Бастилии выхлопотал разрешение о его переводе в Шарантон. Это случилось в 1749 году, когда Даву-Асетту исполнилось 90 лет. В это время он был уже слабоумен, как младенец. Родственники изредка справлялись о нем, устав дожидаться того часа, когда они из опекунов его имущества превратятся в полноправных владельцев. Одновременно с протестантами в Бастилии находились заключенные, содержавшиеся там по другим делам. Так, например, Дюбуа, бывший аптекарь, был переведен в Бастилию из тюрьмы Сен-Лазар в наказание за какие-то бесчинства. Этот неисправимый циник сам говорил, что посажен в тюрьму для исправления, но только развращает других заключенных. Король не счел нужным назначить ему содержание, и Дюбуа очутился на полном иждивении своих товарищей по камере. Уничтожая их порции и выпивая их вино, он расплачивался остротами и непристойными анекдотами. Выйдя из Бастилии, он принял духовное звание, был сделан аббатом и благодаря своей ловкости получил место духовника и воспитателя герцога Орлеанского, впоследствии регента Франции. Во времена регентства Дюбуа достиг должности первого министра и сделал все, чтобы развратить двор и своего духовного сына. Конечно, узники, делившиеся с ним пищей, не могли предвидеть, что этот голодный аптекарь сам будет посылать в Бастилию арестантов. Патриарх Аведик В 1690-х годах французским посланником в Константинополе был назначен маркиз де Ферриоль. Этот бедный дворянин из Дофине сделал карьеру не сразу. Когда-то он был вынужден покинуть Францию из-за скандальной любовной истории и отправился в Польшу; там он крупно проигрался и завербовался во французский экспедиционный корпус герцога Бофора, имевший целью освободить Кандию от турок. После провала экспедиции Ферриоль нанялся на службу к султану и участвовал в венгерском походе турецкой армии. В Венгрии Ферриоль принялся по собственному почину писать депеши в Версаль о положении дел в этой части Европы. Его родственники, оставшиеся в Париже, сумели заинтересовать ими самого короля, и Ферриоль стал дипломатом. Местом посланника в Константинополе он был обязан клевете, распространенной им насчет своего предшественника аббата де Шатонефа, – Ферриоль обвинил его в тайной склонности к мусульманству. Прибыв в Константинополь, Ферриоль оказался втянут в религиозный конфликт между католиками и армянами-грегорианцами. Предыстория этого конфликта такова. В 1622 году папа Григорий XV основал «конгрегацию для распространения веры». Его преемник Урбан VIII присоединил к ней «коллегию пропаганды», где воспитывались будущие миссионеры-иезуиты. Представители Святого Престола вели себя в Турции весьма агрессивно. Особое внимание они уделяли общине армян-грегорианцев, всеми силами пытаясь окатоличить их. Пользуясь тем, что вероучение армянских христиан в основных пунктах совпадало с католическими догматами, иезуиты проповедовали в грегорианских храмах и привлекали к себе многих армян. Однако новообращенным запрещалось посещать грегорианские храмы и общаться с бывшими единоверцами. Армянские иерархи считали действия иезуитов непозволительными и жаловались на их неуместное рвение Дивану – турецкому правительству. Турки в мирное время относились к христианам с большой терпимостью (Коран утверждает, что «тот, кто сказал: нет Бога, кроме единого Бога, войдет в рай»; кроме того, там записано, что «число избранных назначено на всю вечность», что делает миссионерскую деятельность христиан бессмысленной и безвредной для правоверных). Не считая уместным поддерживать одних неверных против других, турецкое правительство долгое время не вмешивалось в эти раздоры, предоставив той и другой стороне полную свободу действий. Ферриоль вначале способствовал примирению грегорианцев и католиков. В 1701 году он пытался стать посредником в заключении договора между ними – нечто вроде унии обеих церквей. Но против унии восстал армянский патриарх Аведик, и это толкнуло Ферриоля в объятия партии насилия. Аведик родился в Эрзеруме, в бедной семье. В юности он был принят в число вертабидов – богословов, призванных хранить в чистоте доктрины Армянской церкви. Сделавшись епископом, а затем и архиепископом, Аведик продолжал защищать интересы единоверцев с твердостью, которую французский посланник называл «дерзостью». Ферриоль попытался добиться от великого визиря отрешения Аведика от управления делами Армянской церкви. Но великий муфтий, духовный глава турецких мусульман, являвшийся хорошим знакомым Аведика, воспротивился этой интриге и даже назначил армянского иерарха «армянским патриархом Константинопольским и Иерусалимским». Поскольку решения муфтия имели силу закона, Ферриолю пришлось временно оставить свои планы. Положение изменилось в 1703 году, когда в Константинополе вспыхнуло большое восстание. Янычары свергли султана Мустафу II и возвели на престол его брата, Ахмета III; великий муфтий был зарезан во время уличных беспорядков. Через два месяца после этих событий Аведик был отрешен от должности патриарха и заключен в Семибашенный замок; затем, по настоянию Ферриоля, его сослали в Сирию. Ферриоль употреблял все свое влияние, чтобы сделать заключение свергнутого патриарха несносным. Он требовал посадить Аведика «в тюрьму, наполненную водой»; правительство Людовика XIV не отмежевалось от действий своего посла. Армянская община отказалась повиноваться новому патриарху и хлопотала о возвращении Аведика. В конце концов они подкупили великого визиря за огромную сумму в 400 кошельков (примерно 800 тысяч тогдашних франков), и после года злоключений Аведик вновь воссел на патриарший престол. «Он соединился с греками, – доносил Ферриоль в Версаль, – и я предвижу страшные преследования против католиков». У патриарха действительно не было никаких причин симпатизировать Римской церкви, но притворная тревога Ферриоля должна была оправдать его собственную злобу против Аведика. «Я не дам ему ни минуты покоя, зная его за человека очень злого и способного на сильное притворство», – писал французский посол. Спустя год Ферриоль с удовлетворением сообщил Людовику XIV, что Аведик вторично отрешен от патриаршества и осужден на ссылку. Тогда-то, чтобы сделать его падение окончательным, этот представитель самой цивилизованной нации Европы и пошел на преступление, которое даже в то время считалось уже совершенно немыслимым. Ферриоль подкупил чауша – чиновника, который должен был сопровождать Аведика в изгнание, и отправил инструкцию французскому вице-консулу на Хиосе, где корабль с патриархом должен был остановиться на несколько часов, доставить пленника в Марсель. 20 апреля 1706 года Аведик отправился в ссылку, вернуться из которой ему было не суждено. На Хиосе чауш передал его в руки иезуитов; специально нанятое купеческое судно, принадлежавшее капитану-французу, доставило патриарха в Марсель. По приказу короля за ним прибыл офицер, имевший на руках распоряжение, предписывавшее «всем губернаторам, мэрам, синдикам и другим чиновникам» оказывать ему «всевозможную помощь и в случае необходимости содействовать вооруженной силой». Таким образом, Людовик XIV с самого начала сделался соучастником этого вопиющего беззакония. Аведика поместили в аббатстве Сен-Мишель – на голой скале у побережья Нормандии. Приору было приказано строго наблюдать за узником, «не позволяя ему сообщаться с кем бы то ни было ни устно, ни письменно». Впрочем, подобные строгости были совершенно излишни в отношении пленника, который не понимал ни слова по-французски. Монахам он был представлен страшным гонителем католиков. Десять месяцев Аведик провел в полном одиночестве. Лишь 1 июля 1707 года его допустили в церковь и позволили исповедаться, для чего пригласили монаха, знавшего восточные языки. Первыми словами Аведика были: – Пусть меня судят и приговорят к наказанию, если я этого заслуживаю. Если же я невиновен, то пусть объявят об этом и освободят меня! Его протест был записан и послан в Версаль, где он и пропал. Между тем в Константинополе Диван и великий визирь обратились к Ферриолю за разъяснениями, куда делся армянский патриарх. Ферриоль отвечал, что, вероятно, судно, перевозившее его, захвачено английскими или голландскими корсарами. Турецкое правительство вступило в переговоры с последними, но те, разумеется, полностью отрицали свою причастность к этому делу. Тогда визирь распорядился подвергнуть пытке чауша, сопровождавшего Аведика, и тот, не вынеся мучений, во всем признался. После этого визирь сразу официально потребовал у Ферриоля возвращения Аведика как подданного султана. Посол без тени смущения заявил, что показания чауша не имеют никакого веса. Визирь пригрозил в случае отказа удовлетворить требование его правительства умертвить всех армян-католиков, на что верный сын Католической Церкви спокойно ответил: «Если Аведик во Франции, я напишу, чтобы его выслали сюда. Султан же волен делать что угодно со своими подданными. Он может приказать умертвить всех армян, но эта угроза не заставит меня признаться в том, чего я не знаю». Раздраженный визирь приказал арестовать всех армянских иерархов-католиков, из которых девять человек купили себе жизнь ценой отступничества, а трое приняли мученическую смерть. Многих армян пытали, спрашивая об участи Аведика; иезуитам запретили миссионерскую деятельность и сожгли их типографию; двух армянских иерархов-грегориан, разрешивших католикам проповедовать в своих церквах, сослали на каторгу. Султан своим указом вновь призвал Аведика на патриарший престол, а исполнение его обязанностей временно возложил на его наместника Иоганнеса, который повел дело так, что вскоре все армяне-католики были вынуждены бежать из Турции или скрываться. Таковы были результаты миссионерской деятельности Ферриоля и иезуитов. Каждый вечер в армянских храмах читались молитвы о возвращении Аведика. Одно время казалось, что эти просьбы были услышаны: в Константинополе распространилась весть, что патриарх объявился на острове Родос. На самом деле это был самозванец, использующий имя Аведика в целях обогащения. Он был посажен в константинопольскую тюрьму, откуда сбежал, подкупив стражу. Во множестве появились обманщики, утверждавшие, что видели Аведика в Голландии, на острове Мальта и в других местах; получив плату за эти сведения, они быстро скрывались. Людовик XIV утаил даже от Ферриоля дальнейшие перемещения Аведика после его прибытия в Марсель. Посол писал министру иностранных дел: «Если Аведик в инквизиционной тюрьме (в Испании. – С.Ц.), он никогда не выйдет из нее. Если он во Франции, умоляю Вас приказать посадить его в темную, чтобы он никогда не видел света». Из Рима к Людовику XIV также поступали самые настойчивые требования «о еще большем притеснении узника». Французское правительство успокаивало Святой Престол: «Возобновлены приказания удвоить внимание и бдительность. Его видит лишь сторож, подающий ему пищу. Он объясняется только знаками, а когда по праздникам и по воскресеньям слушает обедню, его помещают отдельно»; «Мы узнали, что слуга патриарха отправляется из Ливорно во Францию, чтобы узнать о судьбе своего господина. Но как только он появится, его схватят и заключат в крепкую темницу». В письмах же к султану король двоедушничал, рассказывая о своих распоряжениях «разыскивать патриарха в Испании и Италии, чтобы возвратить его законному государю». Похищенный патриарх все еще казался таким опасным, что было принято решение перевести его в Бастилию. «18 декабря 1709 года, – записано в журнале Дюжонка, – поступил весьма важный арестант, имени которого не сказывают». Это был Аведик, в отношении которого по-прежнему строжайше воспрещалось «малейшее сообщение нового узника с кем бы то ни было». Наконец в окружении короля возник план, выполнение которого должно было окончательно обезвредить патриарха: его задумали обратить в католичество. В камеру Аведика доставили богословские книги на армянском языке, по которым он мог ознакомиться с доктринами Католической Церкви и убедиться в несущественности обрядовых отличий грегорианцев от католиков. Невыносимое одиночество и непреодолимое желание хотя бы перед смертью вдохнуть воздух свободы сломили волю престарелого патриарха. 22 сентября 1710 года в присутствии кардинала Ноайля, архиепископа Парижского, он отрекся от веры отцов. Через несколько дней его рукоположили в священники в соборе Парижской Богоматери. В течение последующих девяти месяцев парижане каждое утро видели, как из небольшого домика на улице Феру выходил сгорбленный старик с потухшим взором, опиравшийся на палку. Едва держась на ногах, он доходил до церкви Св. Сульпиция, где числился священником, и служил обедню. Только кое-какие детали армянского национального костюма, сохранившиеся в его одеянии, позволяли догадаться, что это и есть Аведик, бывший патриарх Константинопольский и Иерусалимский. 21 июля 1711 года Аведик скончался, напутствуемый священником той самой Римско-Католической Церкви, которая причинила ему столько бед. Доведя лицемерие до предела, Людовик XIV распорядился составить меморандум, в котором была засвидетельствована скорбь короля по поводу смерти Аведика, и готовность, с какой его величество поспешил возвратить свободу узнику, как только тот «смог объявить о своем звании», ибо его величество «никогда не одобрял насилия». Этот документ был заготовлен на случай вмешательства Турции. Но надобность в нем не возникла. Великие визири менялись в Константинополе настолько часто, что к этому времени турецкое правительство совсем позабыло о существовании Аведика. В дни, когда бывший патриарх умирал на чужбине, в Париж привезли одного сумасшедшего дипломата. Это был Ферриоль. Незадолго перед тем, как сойти с ума, он написал: «Я знаю одно, за что меня могут упрекать, – это похищение Аведика». Железная Маска Тайна узника, известного под именем Железной Маски, волновала людей не одно столетие. Достоверных сведений об этом самом необычном узнике Бастилии сохранилось очень немного. Известно, что в начале 1679 года в тюрьме Пиньероль содержался заключенный, с которого никогда не снимали черную бархатную маску (впоследствии превращенную легендой в железную) венецианского образца, с железными застежками. Почтительное обращение с ним заставляло думать, что узник был знатным лицом; в тюрьме он сохранил привычки аристократа: носил тонкое белье и любил изысканный стол; кроме того, кажется, недурно играл на гитаре. Через несколько лет комендант Пиньероля Сен-Марс, получив назначение на острова Святой Маргариты, перевез его туда с собой, а 18 сентября 1698 года, опять же вместе с Сен-Марсом, ставшим комендантом Бастилии, таинственный узник оказался в ее стенах, которые уже не покидал до самой смерти, последовавшей в 1703 году. В Бастилии ему сначала выделили отдельную комнату, но 6 марта 1701 года он очутился в одной комнате с Домеником Франсуа Тирмоном, обвиненным в колдовстве и растлении молодых девушек, а 30 апреля того же года к ним подселили Жана Александра де Рокорвиля, виновного в «произнесении антиправительственных речей», – все это по приказу короля. Со слов этих людей, видимо, и распространилась легенда о Железной Маске. Примечательно, что сам узник в маске ни разу ни словом не обмолвился сокамерникам о том, кто он и за какое преступление обречен на вечное инкогнито. После его смерти комната, в которой он жил последние месяцы, была тщательнейшим образом обыскана, стены выскоблены и заново побелены, мебель сожжена, а золотая и серебряная посуда переплавлена, – очевидно, власти боялись, что узник мог спрятать какой-нибудь клочок бумаги или нацарапать в укромном месте несколько слов о тайне своего заключения. В знаменитом узнике видели самых разных лиц. Можно сказать, что любая знатная особа, жившая в XVII столетии, о чьей смерти не сохранилось достоверных сведений, немедленно выдвигалась каким-нибудь историком в претенденты на роль Железной Маски. Рассмотрим коротко наиболее популярные версии, в разное время казавшиеся окончательным решением этой исторической загадки. Первое место среди них, безусловно, занимает гипотеза, пытающаяся доказать, или, скорее, верящая в существование брата Людовика XIV, якобы и скрытого из государственных соображений под маской. Ее отцом можно считать Вольтера, который в «Веке Людовика XIV» (1751) написал: «Железная Маска был брат, и, без сомнения, старший брат, Людовика XIV…» Своей же популярностью она обязана блестящему перу Дюма-отца: на этом «гвозде» висит сюжет «Виконта де Бражелона». У профессиональных историков эта легенда давно потеряла всякое доверие; в XIX веке ее придерживался один Мишле, ныне – уже никто. К ее недостаткам относится прежде всего отсутствие достоверных письменных свидетельств: все они, как выяснилось, являются апокрифами. Например, знаменитый в свое время рассказ «гувернера Железной Маски» («Несчастный принц, которого я воспитывал и берег до конца дней моих, родился 5 сентября 1638 года в восемь с половиной часов вечера, во время ужина короля. Брат его, ныне царствующий (Людовик XIV. – С. Ц.), родился утром в полдень, во время обеда своего отца» и т. д.) содержится в так называемых записках маршала Ришелье, изданных Сулави, к которым, однако, сам маршал не имеет никакого отношения. Затем, система доказательств, приводимых этой версией, является порочной, поскольку нарушает принцип Оккама: «Не следует умножать сущности сверх необходимого» – иными словами, никто никогда не объяснит загадку Железной Маски существованием брата Людовика XIV, пока не будет доказано, что у последнего действительно был брат. В целом же к этой версии приложимы слова Монтескье: «Есть вещи, о которых говорят все, потому что о них однажды было сказано». В период Первой империи возникла разновидность этой версии, согласно которой у Людовика XIII, помимо законного наследника – будущего Людовика XIV, – был внебрачный сын, устраненный после смерти отца своим сводным братом. На островах Святой Маргариты, куда его сослали, он якобы сошелся с дочкой тюремщика, которая родила ему сына; когда впоследствии узника в маске перевезли в Бастилию, его малолетнего сына отправили на Корсику, дав ему фамилию Буонапарте, что означает «с хорошей стороны», «от хороших родителей». Этой историей пытались доказать, что императорские короны не падают сами собой на головы артиллерийским поручикам. Перейдем к следующему претенденту – графу Вермандуа, побочному сыну Людовика XIV и мадемуазель де Лавальер. В 1745 году в Амстердаме вышли «Секретные записки об истории Персии», в которых под вымышленными «персидскими» именами рассказывалась анекдотическая история французского двора. Между прочим в них говорилось, что у падишаха Ша-аббаса (Людовика XIV) было два сына: законный Седж-Мирза (Людовик, дофин) и незаконный Жиафер (граф Вермандуа). И вот «Жиафер однажды забылся до такой степени, что дал пощечину Седж-Мирзе». Государственный совет высказался за смертную казнь для Жиафера, нанесшего такое оскорбление принцу крови. Тогда Ша-аббас, нежно любивший Жиафера, послушался совета одного министра: отправив провинившегося сына в армию, объявил о внезапной его смерти в дороге, а на самом деле укрыл в своем замке. Впоследствии Жиафер для сохранения тайны своего исчезновения переезжал из крепости в крепость, а когда ему необходимо было повидаться с людьми – надевал маску. Книга анонимного автора сразу сделалась популярной в Париже, на время потеснив остальные гипотезы о Железной Маске. Однако кропотливые исследования показали, что ни один мемуарист эпохи Людовика XIV ни словом не обмолвился об оскорблении, нанесенном дофину со стороны Вермандуа. Кроме того, официальная дата смерти графа (которая, по данной версии, должна соответствовать дате его исчезновения) – 18 ноября 1683 года – не позволяет ему в 1679 году уже находиться в Пиньероле в качестве Железной Маски. Писатель Сен-Фуа видел в Железной Маске герцога Джемса Монмута. Это был внебрачный сын английского короля Карла II Стюарта, вступившего на престол после смерти Кромвеля (1658), и куртизанки Люси Уолтерс. Король нежно любил его: незаконнорожденный принц, воспитанный в протестантстве, жил во дворце, имел пажей и прислугу, во время путешествий его принимали как члена королевской фамилии. Повзрослев, он получил титул герцога Монмута и стал первым человеком при дворе. У Карла II не было законных детей, и потому наследником престола считался герцог Йоркский, чрезвычайно непопулярный в народе за свою приверженность к католицизму. По стране поползли слухи, что герцог Монмут – не менее законный наследник, чем герцог Йоркский, так как Карл II якобы сочетался тайным браком с Люси Уолтерс и т. п. Герцог Йоркский начал глядеть на Монмута как на опасного соперника, и тому пришлось уехать в Голландию. Здесь он встретил известие о смерти Карла II и о воцарении герцога Йоркского под именем Якова II. 11 июля 1685 года Монмут в сопровождении 80 человек высадился возле небольшого порта Лима, на дорсетширском берегу. Развернув голубое знамя, он смело вступил в город. Его встречали с восторгом. Со всех сторон к месту его высадки стекались недовольные королем, чтобы приветствовать «доброго герцога, герцога-протестанта, законного наследника престола». Через несколько дней под его началом собралось не менее шести тысяч человек; за армией следовала огромная толпа людей, не имевших оружия. Однако после первых успехов потянулась полоса неудач: Лондон не поддержал претендента, экспедиция в Шотландию провалилась, аристократия не примкнула к бывшему кумиру, а парламент не провозгласил его королем. Монмут быстро впал в полное отчаяние. В сражении с королевской армией при Седжмуре он бежал, бросив своих солдат, кричавших ему вслед: «Снарядов, Бога ради, снарядов!» Через несколько дней милиция Портмана задержала его близ Рингвуда: Монмут, одетый в лохмотья, сдался без единого слова, дрожа всем телом. Во время следствия и суда над ним Монмут проявил недостойное малодушие: попросив короля об аудиенции, валялся у него в ногах и целовал руки и колени, умоляя о пощаде… Не лучше повел себя и Яков II. Согласившись встретиться с пленником, он тем самым подал ему надежду на помилование и по традиции должен был сохранить ему жизнь. Но король требовал смертного приговора, и 16 июля 1685 года Монмут был казнен в Лондоне на глазах у тысяч людей. Палач отрубил ему голову только с четвертого удара, за что едва не был растерзан толпой, боготворившей «доброго герцога-протестанта». Сен-Фуа пытался доказать, что королевское происхождение Монмута должно было исключить применение к нему смертной казни и что на самом деле герцог был отправлен во Францию, а вместо него казнен другой человек. Но, как он ни старался, его версия осталась самой неубедительной из всех. Это, конечно, не означает, что она не годится в качестве основы для остросюжетного романа… Загадочное исчезновение герцога де Бофора дало повод Лагранжу-Шанселю и Лангле-Дюфренуа создать систему доказательств в пользу его кандидатуры на роль Железной Маски. Герцог Бофор был внуком Генриха IV и его любовницы Габриэли д'Эстре. Атлетическое телосложение, выразительные черты лица, неумеренная жестикуляция, привычка подбочениваться, усы, всегда закрученные вверх, – все это придавало ему весьма вызывающий вид. Он не получил никакого образования, был полным невеждой во всех науках, в том числе и в науке светской жизни. Двор смеялся над грубостью его манер и языка, зато армия боготворила его за отчаянную храбрость. С началом Фронды он бросился в нее очертя голову, но играл в ее событиях довольно жалкую роль, потому что сам не знал хорошенько, за какое дело он, собственно, стоял. Он чрезвычайно нравился простонародью развязностью поведения и солдатской речью, за что заслужил прозвище «король рынков». С воцарением Людовика XIV Бофор стал самым покорным из подданных. В 1669 году его назначили главнокомандующим экспедиционным корпусом, посланным к берегам Кандии, чтобы очистить этот остров от турок. Двадцать два военных линейных корабля и три галиота везли семитысячный десант – цвет французского дворянства. В некотором роде кандийскую экспедицию можно назвать новым крестовым походом. Кандией когда-то владели венецианцы. К моменту описываемых событий в их руках оставался только крупнейший город острова, который они обороняли против численно превосходившего врага ценой неимоверных усилий. Один бастион был уже взят турками, и горожане со дня на день ожидали падения города и неминуемой резни. В ночь на 25 июня подошедшая накануне французская эскадра высадила на острове десант; Бофор лично командовал одним из отрядов. Турки не выдержали натиска и обратились в бегство. Но в этот миг, когда солдаты Бофора уже предвкушали полную победу, взорвался пороховой склад с 25 тысячами фунтов пороха, уничтожив на месте целый батальон французов. Чудовищный взрыв произвел настоящую панику в их рядах, солдатам почудилось, что весь турецкий лагерь минирован. В одну минуту роли переменились: теперь французы сломя голову мчались к берегу, к своим лодкам, а воспрянувшие духом турки наседали на них, не давая опомниться. О Бофоре во время бегства все как-то забыли; некоторые из беглецов потом смутно припоминали, что герцог, верхом на раненой лошади, вроде бы пытался собрать вокруг себя храбрецов, чтобы отразить вместе с ними турецкий натиск. Когда паника улеглась, Бофора хватились, но оказалось, что его нет ни среди спасшихся, ни среди убитых, ни среди раненых, ни среди пленных… Главнокомандующий бесследно исчез. Вышеназванные авторы – сторонники отождествления герцога Бофора с Железной Маской – настаивали на том, что его похитил во время всеобщей паники Молеврье, брат Кольбера, враждовавшего с герцогом. Но опубликованная переписка Молеврье с братом опровергла этот довод. В первом же письме, отправленном в Версаль после неудачного десанта, Молеврье пишет: «Ничего не может быть плачевнее несчастной судьбы адмирала (Бофора. – С. Д.). Будучи обязан в продолжение всего нападения бросаться в разные стороны, чтобы собрать все, что оставалось из наших войск, я положительно у всех спрашивал о Бофоре, и никто ничего не мог мне сказать». Да и возраст Бофора (он родился в 1616 году) плохо соответствует возрасту Железной Маски (Вольтер говорил, что слышал «от Марсолана, зятя бастильского аптекаря, что последний, за некоторое время до смерти замаскированного узника, слышал от него, что ему было около шестидесяти лет»). Исследователи тайны Железной Маски, конечно, не могли пройти мимо удивительной судьбы суперинтенданта Фуке. «Фуке, содержавшийся в Пиньероле, – пишет Поль Лакруа, – внушал еще ненависть Кольберу и постоянный страх Людовику XIV: можно сказать, что он обладал какой-нибудь важной тайной, открытие которой могло быть гибельно для государства или, по крайней мере, оскорбить гордость короля». Предположение о некой тайне, забота о сохранении которой заставила короля надеть на Фуке маску и затем перевести в Бастилию, само собой отпадает, когда начинаешь знакомиться с тюремным режимом Фуке в Пиньероле. Как помнит читатель, содержание суперинтенданта постепенно смягчалось: ему разрешили переписываться и встречаться с родственниками, он имел возможность гулять вместе с Лозеном; кроме того, до 1679 года, когда в Пиньероле появилась Железная Маска, у него сменилось трое слуг. Все это плохо вяжется с якобы имевшимся у короля желанием изолировать Фуке, чтобы не допустить разглашения важных сведений. Чтобы опровергнуть официальную дату смерти Фуке (1680 год), ссылались на следующее место из мемуаров Сен-Симона: «Никола Фуке, известный своими несчастьями, пробыв восемь лет суперинтендантом финансов, заплатил тридцатью четырьмя годами тюрьмы в Пиньероле за несколько миллионов, которые были взяты кардиналом… Он умер в Пиньероле в 1680 году, семидесяти пяти лет от роду, целиком занятый в течение долгих лет спасением своей души». Как видим, Сен-Симон называет ту же самую дату смерти Фуке, но при этом допускает загадочные неточности. Он говорит, что Фуке пробыл в заточении 34 года – тогда его смерть должна была произойти в 1695 году! Если же он умер в 1680 году, то ему должно было быть 65 лет, а не 75, как утверждает Сен-Симон. Впрочем, в обоих случаях нет соответствия возрасту и дате смерти Железной Маски. Что бы ни имел ввиду Сен-Симон, прозрачно намекая на существование каких-то тайн в судьбе Фуке, нет никаких серьезных оснований ставить под сомнение его смерть в 1680 году или подозревать, что вместо него был похоронен кто-то другой. Известно, что Фуке умер на руках сына и в присутствии дочери; кроме того, имеется письменное распоряжение Людовика Сен-Марсу «выдать тело Фуке его семейству, чтобы они перевезли его куда угодно». Писатель Толе прочитал в мемуарах маркиза Боннака, французского посланника в Константинополе (начало XVIII века), о том, что патриарха Аведика сослали на острова Святой Маргариты, а оттуда перевели в Бастилию, где он и умер. «По прочтении этого места, – пишет Толе, – мне тотчас пришло на ум, что личность эта с большой долей вероятности может быть Железной Маской. Убеждаясь потом более и более в этом предположении посредством множества фактов, возникавших в моей памяти по мере того, как я читал дальше, я сказал с новой уверенностью: «Да, это он самый! Вот Железная Маска!» Действительно, это предположение удачно объясняло молчаливость узника в маске и необходимость скрывать его от посторонних глаз. Но историки, детально проследившие крестный путь армянского патриарха, не обнаружили никаких следов его пребывания на островах Святой Маргариты, а сопоставление дат жизни и смерти Аведика и Железной Маски, подтвержденных письменными источниками, полностью опровергает версию Толе, который в конце концов признал свою ошибку. Совершенно невозможно хотя бы кратко остановиться на всех версиях, объясняющих личность и преступление Железной Маски. Добавлю еще, что в нем видели незаконнорожденного сына Кромвеля; Марии Луизы Орлеанской, первой жены испанского короля Карла II; Марии Анны Нейбургской, второй жены того же короля; Генриетты Орлеанской и Людовика XIV; ее же и графа де Гиша; Марии Терезии, супруги Людовика XIV, и негра-служителя, привезенного ею с собой из Испании; Христины, королевы Швеции, и ее великого конюшего Мональдеска; также говорили о том, что за маской могла скрываться женщина. Эти легенды так занимали весь свет, что даже Людовик XIV, Людовик XV и Людовик XVI, по слухам, интересовались Железной Маской и якобы открывали друг другу на смертном одре эту необыкновенную тайну – на этом настаивал историк Мишле. Герцог Шуазель рассказывал, что на его вопрос, кто скрывался под Железной Маской, Людовик XV ответил: «Если бы вы узнали его настоящее имя, то очень разочаровались бы, оно вовсе не интересно». А госпожа Помпадур уверяла, что на ее аналогичный вопрос король сказал: «Это министр итальянского принца». Наконец Людовик XVI велел министру Морепа прояснить эту загадку. Проведя расследование, Морепа доложил королю, что Железная Маска был опасным интриганом, подданным герцога Мантуанского. Фундаментальное исследование Тапена, а также работы историков Ф. Брентано и А. Сореля подтверждают, что Морепа скорее всего сказал правду: знаменитым узником был граф Эрколь Антонио Маттеоли, министр Карла IV, герцога Мантуанского. Карл отличался разгульным поведением и совершенным равнодушием к делам государства – большую часть года он проводил в Венеции, а в Мантуе правили его фавориты. Герцог очень быстро истощил свою казну и свое здоровье, но сохранил неутолимую жажду удовольствий. В поисках денег он готов был продать что угодно. Аббат Эстрад, тогдашний посол Людовика XIV в Венеции, воспользовался хроническим безденежьем Карла, чтобы оказать своему правительству важную услугу. Он вознамерился заставить герцога продать Людовику город Казале, являвшийся ключом к Верхней Италии. Замысел предприимчивого аббата сулил королю возможность в любое время вмешиваться в итальянские дела и противодействовать аналогичному стремлению Испании и Австрии; однако скандальная покупка, противоречащая нормам международного права и затрагивающая интересы многих держав, должна была состояться в строжайшей тайне. Ища посредника в этой сделке среди фаворитов герцога, Эстрад остановился на Маттеоли как на лице, имеющем наибольшее влияние на Карла. Маттеоли родился в Болонье 1 декабря 1640 года в родовитой и богатой семье. В юности, будучи студентом, он уже получил некоторую известность, удостоившись высшей награды по гражданскому праву, а после окончания учебы – звания профессора в Болонском университете. Породнившись с почтенным сенаторским семейством в Болонье, он перебрался в Мантую, где снискал расположение Карла IV, который сделал его сверхкомплектным сенатором – с этим званием было сопряжено графское достоинство. Маттеоли был чрезвычайно честолюбив и метил на место первого министра. Но для этого он искал случая оказать герцогу какую-нибудь важную услугу, – вот почему он с радостью ухватился за предложение Эстрада. Между ними было решено устроить секретное свидание Эстрада с Карлом в Венеции во время карнавала, так как этот праздник давал возможность ходить в маске, не привлекая внимания. В полночь 13 марта 1678 года, при выходе из Дворца дожей, замаскированные Эстрад и Карл встретились как бы случайно на площади и целый час обсуждали условия договора. Герцог согласился уступить Казале за 100 тысяч экю, с тем чтобы эта сумма была выплачена ему при обмене ратифицированными договорами, в два срока, через три месяца каждый. Так эта постыдная сделка состоялась в центре Венеции – города, который славился своими шпионами и правительство которого всеми силами стремилось не допустить французского проникновения в Северную Италию! Через несколько месяцев Маттеоли, тайно прибывший в Версаль, получил экземпляр договора с подписью короля. Сразу после этого он имел секретную аудиенцию у Людовика и был принят им самым благосклонным образом. Король подарил ему на память ценный алмаз и велел выдать 400 двойных луидоров, обещая еще более значительную сумму после ратификации договора со стороны герцога. Казалось, ничто не могло помешать успешному окончанию переговоров. Однако не прошло и двух месяцев после посещения Маттеоли Версаля, как дворы Туринский, Мадридский, Венский, Миланский, Венецианская республика, – то есть все, кому было выгодно помешать сделке, узнали в малейших подробностях об условиях договора. Эстрад уведомил Людовика, что имеет несомненные доказательства предательства Маттеоли. Сейчас уже невозможно с точностью сказать, что явилось причиной этого поступка Маттеоли: корысть или запоздалый патриотизм. Кажется, благополучный исход переговоров сулил ему если не больше выгод, то, по крайней мере, меньше хлопот. Людовику пришлось бить отбой в тот момент, когда отряд французских войск во главе с новым комендантом был уже готов вступить в Казале. Помимо понятной досады, короля мучила мысль о возможном международном скандале, так как в руках у Маттеоли оставались ратификационные документы с личной подписью Людовика. Чтобы вернуть их, Эстрад предложил захватить Маттеоли. Король ответил в депеше от 28 апреля 1679 года: «…Его Величеству угодно, чтобы вы привели свою мысль в исполнение и велели отвезти его тайно в Пиньероль. Туда посылается приказ принять и содержать его так, чтобы никто не знал об этом… Нет никакой надобности уведомлять герцогиню Савойскую об этом приказании Его Величества, но необходимо, чтобы никто не знал, что станется с этим человеком». В этих словах, полных холодной ненависти к тому, кто чуть было не сделал «короля-Солнце» посмешищем всего света, заключена вся дальнейшая судьба Маттеоли – Железной Маски. 2 мая его схватили «без шума» во время встречи с Эстрадом в какой-то деревне под Турином и переправили в Пиньероль. Бумаг, компрометирующих французское правительство, при нем не оказалось, но под угрозой пытки Маттеоли признался, что отдал их отцу. Его заставили написать своей рукой письмо, по которому агент Эстрада беспрепятственно получил от Маттеоли-старшего эти важные документы, немедленно переправленные в Версаль. Еще ранее Людовик тайно отозвал войска от границы с Италией, и таким образом все следы скандальной сделки с герцогом Мантуанским исчезли. Оставался Маттеоли, но, как мы видели, король позаботился, чтобы исчез и он. Эстрад распространил слух, что Маттеоли стал жертвой дорожного происшествия. Карл IV сделал вид, что поверил этому объяснению, поскольку сам хотел поскорее замять постыдную историю. Семья Маттеоли промолчала: его жена ушла в монастырь, отец вскоре умер. Никто из них не сделал ни малейшей попытки разузнать подробнее о его судьбе, словно чувствуя опасность подобных поисков. Все заботы о сохранении инкогнито Маттеоли были возложены на коменданта Пиньероля Сен-Марса; с этого времени они сделались как бы узниками друг друга. 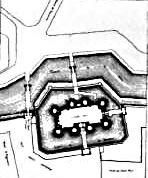
План Бастилии. 1390 год. Строительство крепости было завершено в 1383 году. 
Известный средневековый историк-хронист Филипп де Коммин за рабочим столом. Мемуары Коммина – прекрасное документальное свидетельство по истории драматической борьбы Людовика XI с бургундским герцогом Карлом Смелым. Жертвами этой борьбы пали коннетабль Сен-Поль и граф Жан д'Арманьяк. 
Бургундский герцог Карл Смелый – главный противник политики централизации Франции при Людовике XI. Автор фразы «Я так люблю королевство, что вместо одного короля хотел бы иметь шестерых». 
Франциск I, «язычник, римлянин времен империи…». При нем начались избиения протестантов. 
Средневековое изображение рыцарского турнира. На одном из таких турниров получил смертельную рану в глаз Генрих II – это сочли Божьей карой за процесс над протестантом Анн дю Буром. 
Карл IX – король, вошедший в историю как организатор резни протестантов в Варфоломеевскую ночь. 
План Парижа с крепостью Бастилией из муниципальной библиотеки города Кайен. Середина XVI века. 
Бал при дворе. Средневековое изображение. Большим любителем подобных развлечений и пажей-миньонов, опустошавших французскую казну, был Генрих III, убитый фанатиком из Католической лиги Гизов. 
Генрих IV. При нем Бастилия превратилась из крепости в государственную тюрьму и перестала быть страшилищем в глазах людей. Единственная драма, разыгравшаяся в ней в царствование Генриха IV, – казнь маршала Бирона. 
Королева Мария Медичи. Правила как регентша при несовершеннолетнем сыне Людовике XIII. При ней в Бастилии сидел принц Конде и по обвинению в колдовстве была казнена Элеонора Галигай. 
Кардинал Ришелье. Любил повторять, что следы чужой крови незаметны на его красной мантии. В его 18-летнее правление Бастилия и все тюрьмы Франции переполнились заключенными. Поводы к их аресту могли быть разными, но вина у этих людей была одна – все они когда-то перешли дорогу кардиналу. 
Казнь через повешение на Гревской площади. Часто единственным выходом из каземата Бастилии была именно дорога на эшафот. Парижская толпа воспринимала казнь осужденных как увеселительное мероприятие и бурно реагировала на происходящее. 
Людовик XIV. Стал королем в 5 лет. В его долгое правление Бастилия вступила в наиболее знаменитую свою эпоху. Громкие процессы над магами, отравителями и фальшивомонетчиками, слухи о Железной Маске окружили ее ореолом таинственности. При Людовике XIV ужесточение условий содержания заключенных шло рука об руку с возраставшим произволом власти. В Бастилию стало возможно попасть безо всякой вины, по одному королевскому капризу. 
Жан Батист Кольбер. Образцовый бюрократ, одержимый порядком. Сын лавочника, ставший постоянным советником Людовика XIV в финансовых вопросах. Всеми средствами добивался падения могущественного суперинтенданта Фуке. 
Д'Аржансон, начальник парижской полиции в 1697 – 1718 годах, при Людовике XIV. Умный и ироничный человек, руководивший расследованиями дел алхимиков и фальшивомонетчиков. При нем начались массовые аресты и заключения в Бастилию на основании тайных приказов короля. 
Герцог де Ришелье. Его обожали три поколения женщин. Оказался в Бастилии из-за своей любвеобильности, освобожден благодаря необычному союзу двух высокопоставленных любовниц. 
Людовик XV, из-за слабого здоровья прозванный «Возлюбленным», – сокровище, которого нация боялась лишиться. Царствовал 51 год. При нем произвол властей достиг апогея: в Бастилию заключали и за государственные преступления, и за самые мелкие проступки. Иезуиты усилили религиозные гонения, тюрьмы наполнились сектантами.  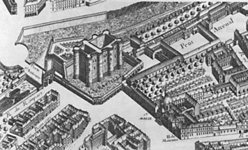
Бастилия в конце XVIII века. План Тюрго, деталь. 
Фронтиспис «Истории Бастилии», изданной в Париже в 1844 году. Мрачная и неприступная – такой виделась Бастилия художникам эпохи романтизма в 1-й половине XIX века. 
«Мнимый спаситель» Жан Анри Латюд. Самый знаменитый узник Бастилии в царствование Людовика XV. Хотел обеспечить себе благоволение королевской фаворитки маркизы де Помпадур, донеся о несуществующем заговоре против нее. В результате получил 35 лет заключения и пожизненную ненависть фаворитки. 
Королева Мария Антуанетта. Ни о чем не подозревавшая жертва графа Калиостро и «дела об ожерелье». Казнена во время Великой французской революции. 
План Курбе. Содержание Бастилии обходилось дорого, и уже при Людовике XVI министр финансов Неккер предложил упразднить ее «ради экономии». В 1784 году архитектор Парижа Курбе представил официальный план открытия на месте крепости Площади Людовика XIV. 
Кардинал де Роган. Другая жертва «дела об ожерелье королевы». Арестован и с позором препровожден в Бастилию прямо в архиерейском облачении. Оправдан после 9-месячного заключения, в результате чего стал весьма популярен в народе как жертва ненавистного двора. 
Другие художники также занимались составлением проектов различных сооружений и памятников на месте Бастилии. План Площади Бастилии времен Наполеона Бонапарта, вероятно навеянный его азиатскими походами. 
Взятие Бастилии. Когда загорелись казармы и дом коменданта и с крепости ударили пушки, вооруженный народ ринулся на последний решительный штурм. Гравюра времен Великой французской революции, сюжет которой сильно героизирует реальные события. 
Гравюра эпохи романтизма, изображающая освобождение узников Бастилии. Благородный солдат революции освобождает древнего старца и ребенка в окружении корчащихся под пытками узников и истлевших скелетов. Сюжет весьма далек от реальных сцен штурма Бастилии. 
Разрушение Бастилии. Гравюра 1790 года. У заключенных нет истории. Мы знаем только, что Маттеоли после двух неудачных попыток подать о себе весть[30] полностью смирился со своей участью. Тапен в своей книге не обошел вниманием и вопрос о том, откуда взялась пресловутая маска и почему пленника Сен-Марса скрыли под ней. В XVI—XVII столетиях обычай ношения маски был широко распространен среди знати, чему есть много исторических примеров. В мемуарах Жерарда описывается, как Людовик XIII, пришедший на свидание с Марией Манчини, «поцеловал ее через маску»; герцогиня Монтеспан разрешала своим фрейлинам носить маски, о чем она пишет в своих воспоминаниях; Сен-Симон свидетельствует, что маршальша Клерамбо «на дорогах и в галереях всегда была в черной бархатной маске»; полицейские отчеты начальника парижской полиции Рейни свидетельствуют о том, что в 1683 году жены банкиров и купцов осмеливались приходить в масках даже в церковь, несмотря на строгое запрещение властей. Таким образом, необычность случая Железной Маски состоит лишь в том, что маску надели на узника, чему действительно нет ни одного примера в истории французских тюрем. Однако относительно итальянца Маттеоли употребление маски было совершенно естественно. В Италии часто надевали маски на заключенных. Так, в Венеции лица, арестованные инквизицией, препровождались в тюрьму в масках. Маттеоли, сотоварищ увеселений герцога Мантуанского, несомненно, имел при себе маску, под ней он скрывался и во время переговоров с Эстрадом. «Конечно, – пишет Тапен, – она была в числе его вещей, захваченных в 1678 году…» Вопрос о том, почему на Маттеоли надели маску при перевозе его в Бастилию, решается довольно просто: Маттеоли прожил в Париже несколько месяцев во время своего тайного визита во Францию в 1678 году и, следовательно, мог быть узнан; кроме того, в 1698 году, то есть когда Сен-Марс привез его с собой в Бастилию, в крепости сидел итальянец, граф Базелли, знакомый со множеством знатных семейств Мантуи и Болоньи и, без сомнения, знавший в лицо Маттеоли. Чтобы сохранить тайну похищения мантуанского сенатора, Сен-Марс воспользовался средством, исключительным для всех, кроме итальянца Маттеоли. Вот почему последний спокойно носил маску, в то время как все видевшие его сгорали от возбуждения и любопытства. В бастильском журнале Дюжонка есть две записи, относящиеся к Железной Маске. Первая гласит: «Губернатор островов Святой Маргариты Сен-Марс 18 сентября 1698 года вступил в должность коменданта Бастилии и привез с собой неизвестного узника в черной бархатной маске, который еще до прибытия на острова содержался под надзором в крепости Пиньероль». Вторая запись от 19 ноября 1703 года говорит о том, что в этот день «неожиданно умер неизвестный узник в бархатной маске, которого Сен-Марс всегда возил с собой». Сен-Марс занес покойного в списки церкви Святого Павла под именем Мартеоли (так, кстати, часто называл Маттеоли Лувуа в своих депешах Сен-Марсу). Вполне вероятно, что за долгие годы комендант подзабыл имя своего пленника или сделал описку – в то время часто неправильно писали имена, особенно иностранные. Алхимики и фальшивомонетчики Те и другие в изобилии обнаружились во Франции в начале XVIII столетия, когда из-за длительной и неудачной войны за испанское наследство в стране стала остро ощущаться нехватка звонкой монеты. С этих пор и до смерти Людовика они стали постоянными клиентами Бастилии. Остановимся на двух узниках – настоящих виртуозах своего дела, принадлежащих к этой категории заключенных. Крупный мошенник по имени Винахе назван в бастильских протоколах поэтически – чудесным доктором, алхимиком, искателем таинств и философского камня, и прозаически – человеком, занимающимся изготовлением и обрезанием монеты, то есть фальшивомонетчиком. Винахе был неаполитанец. На родине он нищенствовал; не умел ни читать, ни писать, выучился только механически подписывать свое имя, да и то не всегда правильно. Тем примечательнее, что высший свет Парижа почитал его за великого медика и ученого. В 1689 году Винахе каким-то образом сумел познакомиться с герцогом Шолнешским, путешествующим по Италии. Герцог привез его с собой во Францию и помог поступить рядовым в Рояль-Руссильский полк, откуда в 1691 году Винахе бежал, прихватив с собой несколько офицерских мундиров, отданных в починку портному Никола – его товарищу. Дорогой он был задержан и препровожден в тюрьму как дезертир. Граф Овернь, по каким-то неизвестным причинам принявший участие в его судьбе, выхлопотал ему помилование и освобождение. В 1692 году Винахе приехал в Париж и по рекомендации герцога Шолнешского остановился в каком-то грязном трактире – не имея ни полушки денег, ни работы, ни мало-мальских познаний в каком-нибудь ремесле. Хозяин трактира Булло прежде торговал свечами и разорился на этом деле. Герцог покровительствовал ему, или, лучше сказать, его молодой и щеголеватой дочери. Через полгода герцог бросил ее, и Булло как добрый отец, желая загладить ее распутство, предложил Винахе жениться на ней. В качестве приданого он обещал 2500 ливров, которых у него не было, и крышу над головой. Винахе согласился. До 1697 года он жил с женой тихо и бедно, пробавляясь случайным заработком от продажи чудодейственных лекарств. Мало-помалу ему стало нравиться ремесло знахаря, особенно он гордился «паранеслоном» – необыкновенным средством от лихорадки собственного изобретения. Разумеется, вскоре он стал утверждать, что лечит все болезни, без исключения. Впрочем, он был шарлатаном только наполовину, так как рецепты всех свои чудесных снадобий брал из медицинских книг, которые читала ему его жена, а он лишь придумывал известным лекарствам собственные небывалые названия вроде помянутого «паранеслона». Винахе настолько уверился в своем блестящем будущем (читай: людской глупости), что в разговоре с одним заезжим соотечественником сказал, чтобы тот не удивлялся, если скоро увидит его, едущего в карете, запряженной шестеркой лошадей. И в самом деле, уехав в следующем году в Бретань, он возвратился оттуда барином: правда, карета была запряжена всего двумя лошадьми. Винахе снял отдельный дом для себя и своей семьи и завел камердинера и двух лакеев. С 1698 по 1700 год он усиленно занимался алхимией и в 1701 году был уже в большой славе как обладатель философского камня. Герцог Шолнешский предлагал ему тысячу ливров для постройки печей и приобретения химического оборудования, а какой-то купец готов был дать и 25 тысяч. Винахе богател не по дням, а по часам. Первое купленное имение обошлось ему в 7-8 тысяч ливров; затем он приобрел еще несколько поместий, которые давали ему вместе 3 тысячи ливров годового дохода. В одном из них он построил плавильную печь и завел лабораторию, одновременно распустив слух, что имеет в услужении духа, названного им Кобальдом, который якобы доставлял ему счастье во всех предприятиях; дух обитал в подушечке, набитой шерстью, которую он носил на затылке, говоря всем, что Кобальд отметил его знаком вдоль спины в виде змеи. Он показывал также циркуль, одна ножка которого была золотая, четырехугольная, а другая – серебряная, треугольная. С этим циркулем он, по его словам, мог добиться невозможного в своей науке. Теперь Винахе предпочитал иметь дело только с высокопоставленными особами. Так, он предлагал адмиралу Деспондю, если тот согласится проделать с ним некоторые обряды, отправиться к нему на корабль и с помощью своего духа сделать судно непотопляемым и непобедимым. На это предложение он получил ответ бравого моряка, что искусство Винахе слишком противоречит искусству самого адмирала, так что он обойдется без его услуг, как до сих пор обходился без них во множестве сражений. А герцог Наваррский уверял, что Винахе обманул его на 8 тысяч ливров, вызвавшись обучать тайнам своей науки и так ничему и не научив. На него также жаловался некий дворянин, которому Винахе за 5 тысяч ливров пообещал констеллировать[31] алмаз, обладающий способностью помогать своему владельцу выигрывать в карты; по прошествии года дворянин, чьи проигрыши и выигрыши примерно уравновесили друг друга, потребовал деньги обратно и получил их, правда, при этом утратив доверие к ученым. Подобный алмаз желал приобрести и герцог Орлеанский – будущий регент. Самым близким друзьям Винахе говорил, что знает тайну философского камня, и если бы мог надеяться, что король и министры не потребуют ее раскрыть, то обязался бы доставить казне 300 миллионов так же легко, как три луидора. Протоколы допросов Винахе показывают, что он действительно должен был держать в секрете тайну своего «философского камня». Уже за два года до ареста полиция подозревала Винахе в изготовлении фальшивой монеты. Его жена на допросах показала, что не раз видела, как муж растапливал золото и серебро, которые целыми коробами доставлялись ему на дом; он также обрезал ходячую монету. Его сообщниками в этом деле были известный банкир Самуэль Бернар и его кассир Тронен, Менажер – королевский секретарь и контролер торговли в Руане, голландский банкир Вандергульц и его сын. Золотые слитки Винахе продавал ростовщикам и золотых дел мастерам по 52—70 ливров за унцию, в зависимости от качества металла. Самые крупные покупатели переплавленного золота находились в Женеве. За день до отъезда в Швейцарию Тронен приходил на дом к Винахе, и они проводили вместе всю ночь, пряча в чемоданах золотые слитки. В Женеве слитки смешивали с медью и продавали как золото низкой пробы. Это преступление наказывалось смертью, но Винахе вел дело очень искусно и несколько лет безнаказанно торговал золотыми слитками в Женеве, Страсбурге, разных городах Дофине и Савойи. Правда, слуги Винахе часто находили в его комнате и лаборатории золотые слитки и куски луидоров, которые они продавали ростовщикам и получали таким способом солидную прибавку к жалованью. Чтобы отвести от себя подозрения, Винахе говорил им, что имеет королевское разрешение на переплавку монеты. Но, разумеется, эти отговорки мало помогали. Его жена однажды застала слуг за разговором о несметном богатстве их господ, и так взволновалась, что уговорила мужа дать им несколько луидоров, чтобы они молчали. В 1703 году, опасаясь разоблачения, Винахе отослал троих слуг (из имевшихся у него семи) в Руан, Фландрию и Рим и назначил им хорошее содержание. Химик Туриати, принятый Винахе на работу в августе 1702 года, рассказал следствию немало интересного о методах работы фальшивомонетчика. Винахе велел ему купить две плавильные печи, несколько стеклянных сосудов и отвезти все это в одно из своих поместий. Две недели спустя он прибыл туда сам. «Винахе велел перенести обе плавильные печи в свою спальню, – рассказывает Туриати, – куда слуги должны были принести много угольев и колодезной воды; последние три дня второй недели, пока продолжались работы, Винахе заперся в этой комнате и не оставлял ее. Он сам брал у дверей ведро с водой у людей из рук, никогда не впускал туда никого, кроме Тронена, который несколько раз в день входил и выходил, а вечером еще долее там оставался. Поутру третьего дня показали мне горничная и лакей кусок золота весом более фунта, множество золотых кружочков, несколько кусков серебра, двойной луидор, который горничная нашла у печки под пеплом; лакей нашел также в печке среди крупинок золота полурастопленный полулуидор». Туриати, заметив, что Винахе не потребовал у прислуги их находок, при первом удобном случае обследовал спальню, когда горничная убирала ее, и, осмотрев печи, нашел в них золотые крупинки и куски серебра, смешанного с золотом. «Я видел также некоторые фарфоровые сосуды, – продолжает Туриати, – наполненные ртутью, которая почти вся была амальгамирована, или смешана с рудами. Я воспользовался присутствием жены его, чтобы открыть ей намерение слуг отнести найденное золото и серебро на монетный двор и донести на них. Они позвали всех людей и отобрали у них найденное. Винахе сказал им в моем присутствии, что он намеревался сделать золото, годное для добавления в лекарства; причем он сослался на меня как на знатока, который должен был подтвердить его слова; при этом вынул между прочим из кармана горсть золотых монет величиною с талер, желая доказать слугам своим, что то были не французские луидоры, но иностранная монета; но они имели дерзость сказать ему в глаза, что они очень уверены в противном и знают, что в продолжение трех дней, когда он запирался с Троненом, он чеканил монету, прибавив к тому, что они сделают на него донос, если он не согласится составить их счастие. Винахе взялся за мягчайшую струну, обещая наградить их, и добился того, что они выдали ему большой кусок золота и несколько золотых крупинок, которые на другой день он заставил меня растопить, и приказал пригласить к себе Тронена и Менажера, которые с ним и ужинали. В одиннадцать часов вечера карета была заложена и послана за комиссаром полиции Сокартом, который приехал через полчаса в мундире и был введен на второй этаж, где еще сидели за столом (Винахе с гостями. – С.Ц.). Винахе приказал снова подать на стол для комиссарa, который просидел с ним почти час. После чего госпожа Винахе созвала на крыльцо слуг своих, из коих горничная должна была первая войти в комнату, где находился полицейский комиссар, Винахе и два гостя. Она пробыла там полчаса; после чего позвали меня, предупредив прежде, чтобы на деланные мне вопросы я не иначе отвечал, как утвердительно, и выдавал себя за ювелира, а не за химика; в противном же случае угрожали мне большими неприятностями, чего опасаясь, я отвечал, как они желали. После меня привели лакея, и весь допрос кончился в час пополуночи, и комиссар в той же карете отъехал домой. На другое утро прочие слуги давали также свои показания, но только в доме комиссара. Винахе сделался против нас горделивее, самоувереннее и сказал, что более не боится нас, ибо если бы нам когда-нибудь пришла мысль говорить противное нашим показаниям комиссару, то он велит повесить нас как лжесвидетелей». Забегая вперед, скажем, что Сокарт впоследствии также был посажен в Бастилию, так как его поступок сочли в высшей степени преступным. Через две недели после описанных событий Туриати увидел у дома телегу, нагруженную мешками, в каждом из которых находилась тысяча ливров. На его вопрос, кому предназначены эти деньги, Винахе ответил, что хочет дать взаймы городскому начальству. Здесь надо сказать, что самому Туриати не платили ничего, а на его жалобу предложили уехать в Вест-Индию, где он, по словам Винахе, будет так же доволен, как другие слуги, отправленные им в Рим, Руан и Фландрию. «Я отвергнул это предложение, – говорит Туриати, – потому что питал большое отвращение к морским путешествиям». Примечательно, что Винахе, ведя столь обширную торговлю, не держал приходо-расходной книги: память заменяла ему ее. Между тем через его руки проходили огромные суммы. Так, он купил на одном аукционе бриллиантов на 60 тысяч ливров; его жена носила на себе драгоценностей еще на 40 тысяч. Золото у него в доме было столь обычным явлением, что в январе 1704 года, за месяц до ареста, в его комнате стояли мешки с луидорами, и еще 15—20 мешков находились в шкафу с грязным бельем; в каждом мешке было 10 тысяч ливров. Винахе купил себе роскошный дом, где принимал высшее парижское общество; он имел карету с четверкой лошадей и трех верховых лошадей, лучших в Париже. Незадолго до ареста он хотел приобрести за 25 тысяч ливров поместье Эрмоновиль, известное впоследствии тем, что в нем жил Руссо. Винахе жил с блеском, зато посредники его сделок получали жалкие крохи. Следствием этого явился донос, поданный в декабре 1703 года уже не какому-то жалкому полицейскому комиссару, а самой госпоже де Ментенон. Фаворитка послала к Винахе своего шталмейстера Мансо, чтобы он под видом покупки алмазов для иностранной княгини осмотрел дом. Вернувшись, Мансо доложил, что видел в картинной галерее полотен более чем на 25 тысяч луидоров, чайный столик с серебряной и золотой посудой, которую он оценил в 10 тысяч луидоров, и т. д. Госпожа де Ментенон поручила министру Шамилляру лично побеседовать с подозрительным богачом. Тот вызвал Винахе в Версаль якобы для того, чтобы посоветоваться с прославленным медиком о каких-то лекарствах, и незаметно направил беседу на причину приезда Винахе во Францию. Винахе, желая придать себе важности, начал рассказывать нелепицы, вроде того, что он вельможа из Неаполя и приехал в Париж с герцогом Шолнешским, которого удостоил дружбой; что женился по его рекомендации и получил 40 тысяч ливров приданого; что глубокие познания в медицине принесли ему всемирную славу и огромное состояние, потому что своими химическими опытами он довел действенность изготовляемых им лекарств до совершенства и т. д. Шамилляр простился с ним весьма благосклонно. Через три дня после этого разговора Винахе был арестован и посажен в Бастилию. Его сообщники остались на свободе. В тюрьме он пробыл недолго: после второго допроса его нашли зарезавшимся в своей камере. Его жене, без помех вступившей во владение наследством, сказали, что ее муж умер от сердечного удара. Возможно, в этом деле была какая-то не известная нам изнанка, на что указывают записи в журнале Дюжонка: «Великий четверг, 20 марта 1704 года. Во втором часу ночи, в присутствии тюремщика Лабатоньера и капрала Мишеля Гирланка, умер Винахе, итальянец, который был заключен в Бастилии в третьей комнате башни, называемой Бертодьер. Как скоро он умер, то два стража сии уведомили о том майора Розаржа, который тотчас встал и пошел в комнату умершего Винахе, который погиб от собственной руки, сделав на шее под подбородком большую и глубокую рану своим ножом вчера, в среду, в час или два пополуночи. Всякая помощь и скорая перевязка не в состоянии были спасти его; когда же он несколько приходил в память и, казалось, хотел говорить, то священник наш все возможное употреблял, чтобы исповедовать его, но труд его остался напрасен. В девять часов вечера объявили об этом несчастье д'Аржансону, который тотчас сам пришел видеть сего несчастного, погубившего самого себя. Суббота, 22 марта. Вчера около шести часов вечера похоронили Винахе под именем Стефана Дюрана в ограде церкви Святого Павла. Прежде чем положили его в гроб, пришел в субботу же в четыре часа пополудни еще раз д'Аржансон в замок, чтобы видеть и осмотреть труп». В этих наивных записях настораживает странная настойчивость начальника полиции, дважды осматривающего труп, чтобы убедиться в самоубийстве Винахе: обычно д'Аржансон не проявлял такого внимания к умершим заключенным Бастилии. Непонятно также, зачем понадобилось хоронить Винахе под чужим именем, к тому же скрыв его настоящий возраст, – в церковной книге значится, что покойному было шестьдесят лет, хотя на самом деле Винахе было тридцать восемь. Возможно, Винахе не покончил самоубийством, а был убит из-за того, что через него обогащались слишком высокопоставленные лица, имена которых могли всплыть на допросах. Смерть Винахе – одна из тех тайн Бастилии, которые никогда не будут разгаданы. Жан Труен, по прозвищу Делиль, оружейный мастер, тридцати девяти лет, был арестован 4 марта 1711 года. Он уверял следователей, что знает тайну превращения металлов; между тем он был совершенно безграмотен. Его жизнь можно проследить по материалам протоколов допросов. Делиль родился где-то на юге Франции и в юности обучался оружейному делу. Двадцати девяти лет он уехал в Ниццу, где познакомился с итальянцем Дионисием, который приохотил его к занятиям химией или, точнее, алхимией. В течение восьми месяцев они собирали в горах необходимые травы и минералы, а затем переехали в Авиньон. Там Дионисий продемонстрировал Делилю свое искусство в изготовлении золота. Используя свинец, известь, травы lunaria major и lunaria minor, а также некоторые минералы, он извлекал из них что-то вроде ртути, из которой затем получал «металлический порошок»; последний помещался в бутылку, заливался специально изготовленным «маслом» (известковое золото, соки трав и селитра), содержимое бутылки перемешивалось и ставилось на солнце до тех пор, пока не исчезнет вся жидкость: в зависимости от климата приходилось ждать год или даже два. Опыт не всегда удавался, а почему – Делиль не умел объяснить. Долгие годы он работал под руководством итальянца, получая в виде вознаграждения кусочки золота, серебра и «металлический порошок» для самостоятельной практики. Со временем Делиль превзошел своего учителя, и слава о нем распространилась по всему Провансу. Какие-то купцы дали ему три тысячи ливров, чтобы он мог получить большое количество дорогостоящего «металлического порошка»; барыши должны были делиться пополам. (Впоследствии купцы заявили, что лишились своих денег.) Но главное – в него поверил местный епископ, известивший двор о чудесных познаниях Делиля. По словам епископа, он сам занимался химией, почему и решил лично понаблюдать за его опытами. Делиль у него на глазах превратил в очаге несколько железных гвоздей в кусочки серебра, которые епископ отослал в Экс к золотых дел мастеру Амперу, признавшему эти кусочки за чистое серебро. Окончательно епископ удостоверился в истинности метода Делиля, когда сам, под его руководством, с успехом проделал тот же опыт. Министр Понтшартрен заинтересовался алхимиком и попросил епископа прислать его в Версаль. В ответном письме епископ сообщил, что Делиль дал согласие на поездку не ранее чем через два года, так как нынешний, 1710 год, выдался холодным и дождливым, из-за чего «металлический порошок» не получился; в заключение он добавил, что Делиль ведет добропорядочную жизнь и упрекнуть его не в чем, но «философ сей» весьма упрям и несговорчив и постоянно твердит пословицу, что поспешность не ведет к добру. В течение следующего года в Прованс приезжали чиновники, имевшие поручение собрать достоверные сведения о Делиле и его опытах. Один из них писал в Париж статс-секретарю Ноантелю: «Сим имею честь сообщить Вам довольно темные понятия о нашем философе; в пользе его искусства я никогда не был совершенно уверен; что же касается опытов, которые я сам действительно производил (под руководством Делиля. – С. Ц.), то должен в сем случае отдать ему полную справедливость». По его словам, он был свидетелем того, как Делиль сделал золотую палочку в три унции весом, а потом из пистолетных пуль получил золотую бляху и несколько кусочков золота. Эти проверки тем не менее кончились арестом Делиля. В письме епископу от 10 марта 1711 года последний известил своего покровителя, что арестован в Ницце по приказу короля, и просил его незамедлительно ехать в Париж, взяв с собой пузырек «металлического порошка», чтобы он, Делиль, мог «открыть королю тайну». Епископ в письме Ноантелю от 14 марта выразил свое недоумение по поводу случившегося, уверяя, что враги и завистники таким образом нарочно хотят ожесточить «философа», чтобы он «умер от досады» или сошел с ума, будучи от природы недоверчивым и чувствительным. Добрый прелат добавлял, что через сутки выедет в Париж, чтобы добиться аудиенции у короля. 11 апреля Делиля доставили в Бастилию. С ним обращались хорошо, давая понять, что король хочет видеть продолжение его опытов здесь, в Бастилии, для чего ему будет доставлено все необходимое. Волей-неволей Делиль взялся за дело. В течение всего лета и начала осени он под наблюдением нескольких чиновников (в том числе и приехавшего епископа) изготавливал «металлический порошок». Было замечено, что он использует ртуть, селитру, мышьяк и серу. 29 октября в комнату коменданта поставили маленькую печь, и началась переплавка порошка в золото. Комендант должен был собственноручно заносить все подробности опытов в протокол. Что касается епископа, то он был так уверен в познаниях Делиля, что часто во время работ падал на колени и просил Бога о благословении его трудов и даровании успеха. Несмотря на эти горячие молитвы, опыты не удались. 27 января 1712 года было решено устроить Делилю первый допрос по всей форме. С этого времени Делиль сделался приметно грустен и не говорил ни о чем, кроме смерти. Утром 30 января у него сделалась сильная рвота, под вечер он почувствовал слабость, потерял способность речи и умер так тихо, что его смерть обнаружили только на следующий день. Все использовавшиеся им материалы вместе с описанием метода его работы были сданы начальнику полиции д'Аржансону. При повторении опытов было получено золото 22-й пробы. Д'Аржансон переслал его генеральному контролеру финансов с письмом, где называл Делиля обманщиком, употребившим во зло доверие многих особ. Первый беглец Невыносимые условия заключения, а еще более – любовь к свободе и ненависть к королевскому произволу, побуждали некоторых узников своими силами добиваться освобождения. Примером проявленной ими при этом замечательной изобретательности, терпения и мужества может служить история графа Дюбюкуа. В двадцатипятилетнем возрасте этот молодой человек, прежде отличавшийся весьма беспорядочным образом жизни, неожиданно для всех сделался монахом картезианского ордена. Но обет молчания и строгая дисциплина скоро наскучили ему, и он снова поступил на военную службу – в один из королевских отрядов, действовавших против контрабандистов. По дороге к месту назначения Дюбюкуа услышал, что солдаты его полка арестовали шайку контрабандистов. Раздосадованный тем, что ему не пришлось принять участия в драке, Дюбюкуа неосторожно сказал в присутствии старосты деревни, где он остановился на ночлег, что, будь он начальником контрабандистов, солдатам пришлось бы несладко. Староста тотчас велел арестовать подозрительного говоруна. К несчастью для Дюбюкуа, при нем обнаружили некоторые бумаги, свидетельствующие о том, что он интересуется политикой, – в то время этого было достаточно, чтобы счесть человека преступником. К тому же благодаря своенравному характеру арестованного он за какой-нибудь час приобрел репутацию величайшего злодея. С этого времени и начались его приключения или, точнее, злоключения. Конвой, сопровождавший Дюбюкуа в Париж, остановился для ночлега в Мелюне. Графа приковали за ногу к ножке кровати. Ночью, когда все заснули, арестант приподнял кровать и снял с ножки цепь. Никем не замеченный, он добрался до окна, но здесь случайно наступил на спящего сторожа. Солдат поднял тревогу, и Дюбюкуа схватили. В Париже его сдали в форт Левек в качестве арестанта. После первого же допроса Дюбюкуа причислили к категории неисправимых и подвергли одиночному заключению. Предприимчивый узник решил бежать из форта во что бы то ни стало. Помещение, где он находился, примыкало к чердаку, в котором имелось слуховое окно. Ночью Дюбюкуа поджег дверь комнаты вокруг замка, выломал его и таким образом сумел выйти в коридор. Затем он поднялся на чердак, сделал из найденных там тюфяков длинную веревку и спустился с шестого этажа по стене, утыканной гвоздями. Когда он достиг земли, его одежда превратилась в лохмотья, и громкие насмешки мальчишек, сопровождавших его по улицам Парижа, только чудом не привлекли к нему внимания полиции. Девять месяцев он скрывался в городе у друзей, посылая королю одно за другим прошения, в которых требовал расследования по своему делу; все они оставались без ответа. Наконец Дюбюкуа покинул Париж с намерением пробраться за границу, но в Ла-Фере был арестован по недоразумению: его приняли за другого. Не ожидая допроса, Дюбюкуа решил бежать из тюрьмы. Он благополучно пробрался на тюремную крышу, но, когда стал спускаться по кровельному желобу, одна женщина увидела его и подняла тревогу. Беглеца схватили и водворили на место. Тогда он вылез через отдушину в камере и бросился в ров, наполненный водой; однако та же самая женщина вновь оказалась рядом и вторично выдала его солдатам. На этот раз Дюбюкуа отправили в Бастилию, которая одна была достойна содержать такого арестанта. В Бастилии его для исправления сначала подвергли одиночному заключению; на его содержание выделили ежедневно всего три ливра. (Это было время комендантства Бернавиля, когда-то служившего лакеем у маршала Бельфона.) После первого допроса его посадили в одну комнату с тремя другими заключенными, которых Дюбюкуа сразу же стал склонять к побегу. Но один из них выдал его, и Дюбюкуа снова очутился в одиночке, где, вероятно, и сгнил бы, если бы ему не пришла в голову удачная мысль разыграть роль умирающего. Испуганное тюремное начальство вновь перевело его в общие комнаты. Дюбюкуа сразу возвратился к прежнему плану, однако теперь он не спешил, решив тщательно подготовиться к побегу. Под различными предлогами переходя из камеры в камеру, он изучал их обстановку и приобретал знакомства среди заключенных. Наконец он обосновался в одной комнате с ирландцем и немцем. Немец пришелся ему по душе, но ирландец положительно не нравился. Чтобы избавиться от него, Дюбюкуа так перессорил его с немцем, что дело между ними дошло до дуэли. Оружием были избраны ножницы, разломанные и прикрепленные к двум поленьям. Готовые к бою, противники встали в позицию, как вдруг Дюбюкуа поднял такой страшный крик, что прибежали тюремщики и развели дуэлянтов. Дюбюкуа пожаловался на ирландца, называя его бешеным сумасбродом и требуя удалить его из комнаты. Надо сказать, что две недели назад он сообщил майору свое намерение обратить немца-еретика в истинную веру, поэтому тюремщики поспешно переселили ирландского буяна, мешающего душеспасительным беседам. Оказавшись с немцем с глазу на глаз, Дюбюкуа открыл ему свое намерение бежать и нашел в бароне Пекене (так звали немца) преданного помощника. Сообща им удалось проломить отверстие на месте окна, заделанного в этой комнате по приказу предусмотрительного Бернавиля. Но барон неосторожно поделился планами побега с соседями на верхних и нижних этажах, с которыми он имел обыкновение разговаривать через каминную трубу. Среди них вновь оказался предатель, однако Дюбюкуа избежал наказания, объявив, что немец склонен к галлюцинациям. Все же их перевели в другую башню. Здесь оба товарища прежде всего вынули из печи железные скобы, а из досок кровати устроили подмостки, на которых они терпеливо пробивали стену этими скобами, а также гвоздями, обломками ножей и какими-то медными дощечками, которыми Дюбюкуа запасся, когда кочевал из комнаты в комнату. Лестницу они изготовили из веревочек, снимаемых ими с горлышек бутылок, и из кусочков одежды; кроме того Дюбюкуа пользовался всякой возможностью отрезать полоску от своей простыни, прятал салфетки, щипал корпию из старого белья и т. д. Лестница хранилась друзьями под плитой, вынутой ими из пола ценой величайших усилий. Работа продвигалась вперед, но однажды вечером пол в их комнате внезапно провалился, и Дюбюкуа с товарищем упали на жившего этажом ниже слабоумного старика, который при этом рехнулся окончательно. Само падение кончилось для них благополучно, но они были переведены в другую комнату, где все пришлось начинать сначала. Дюбюкуа хладнокровно отнесся к этой неудаче, барон же охладел к побегам и сделался таким равнодушным и бездеятельным, что Дюбюкуа искренне посоветовал ему отречься от протестантства, чтобы хотя бы таким образом обрести свободу. Барон послушался совета, но свободы не получил. Это привело его в такую ярость, что сострадательный Дюбюкуа дал ему другой совет: пригрозить тюремному начальству самоубийством. Достойный барон той же ночью вскрыл себе вены и разбудил своего друга. Дюбюкуа пришел в ужас, упал с кровати на пол, перепачкался в крови барона, потом добрался до двери и принялся изо всех сил стучать и звать на помощь. Прошло не менее получаса, прежде чем тюремщики открыли дверь, но барона тем не менее удалось спасти. Дюбюкуа перевели в верхнюю комнату той же башни. Здесь он вызвался обратить в католичество гугенота Гранвиля, который был известен между заключенными как смельчак и отличный товарищ. На самом же деле Дюбюкуа рассчитывал на его содействие при подготовке побега, и на этот раз ему посчастливилось. Бернавиль перевел Дюбюкуа в комнату Гранвиля, вместе с которым содержался еще один бывший товарищ Дюбюкуа; через несколько дней к ним присоединился четвертый заключенный, также из тех, кто участвовал в первой неудавшейся попытке побега. Дюбюкуа потребовал, чтобы все они поклялись на Евангелии (то есть на сорванных с бутылок клочках бумаги, на которых сажей при помощи соломинок были нацарапаны какие-то евангельские изречения) сохранять тайну того, что они сейчас увидят и услышат. После того как клятва были принесена, он показал им маленькую пилу, которую хранил как величайшую драгоценность, скрывая ее даже от барона. Работа дружно закипела. Решетка была перепилена, веревки для лестницы свиты; наконец был назначен и долгожданный день, вернее, ночь побега. Правда, возникли некоторые разногласия при обсуждении вопроса о том, что следует делать, когда беглецы доберутся до рва, но в итоге было принято компромиссное решение, что каждый будет действовать по своему усмотрению. Дюбюкуа выпросил у товарищей позволения спуститься первым, чтобы одному ответить за побег в случае неудачи. Он благополучно достиг земли, однако был вынужден простоять под окном около двух часов, так как никто из его товарищей не показывался. Задержка произошла оттого, что толстый Гранвиль никак не мог пролезть в отверстие и умолял товарищей бросить его на произвол судьбы; те не хотели оставить его, и между ними завязалась великодушная борьба. Наконец Гранвиль убедил их воспользоваться случаем получить свободу. Дюбюкуа и двое других узников добрались до рва, охраняемого часовым. Улучив мгновение, когда часовой отвернулся и пошел в другую сторону, Дюбюкуа скатился в ров и проворно выкарабкался на противоположную сторону; однако его товарищи колебались последовать за ним. Дюбюкуа влез по водосточной трубе на крышу какого-то здания, примыкающего к Сен-Антуанской улице, и очутился среди мясных рядов. Соскакивая на землю, он задел за висящий железный крюк и поранил себе руку. В это время со стороны Бастилии раздались выстрелы. Неизвестно, что сталось с товарищами Дюбюкуа; вероятно, они хотели последовать за ним, но были замечены и убиты. Дюбюкуа между тем скрылся у своих друзей, переоделся и в тот же день покинул Париж. На этот раз ему удалось благополучно достичь Швейцарии и наконец-то почувствовать себя свободным человеком. Побег Дюбюкуа вызвал ответные меры начальства Бастилии по усилению охраны крепости и ужесточению содержания арестантов. Взбешенный комендант приказал срубить в саду все деревья, мешавшие часовым видеть подножия башен, запретил заключенным использование ножей и вилок и велел укрепить на окнах дополнительные решетки. Глава пятая Бастилия во времена Регентства Герцог де Ришелье В 1715 году умер Людовик XIV. По случаю его смерти почти все узники Бастилии получили свободу, причем амнистия выявила новые печальные факты произвола властей. Так, в одной из комнат был обнаружен узник, томившийся в Бастилии уже тридцать пять лет и не знавший причины своего заключения. Справились по книгам – оказалось, что с него никогда не снимали допроса, то есть это было предварительное заключение! Начальство Бастилии рассыпалось в извинениях и сожалениях по поводу такого недоразумения. Перед смертью Людовик XIV объявил своему племяннику, герцогу Филиппу Орлеанскому, о назначении его регентом королевства при малолетнем Людовике XV. Герцог Орлеанский искренне хотел блага разоренной войной стране; но, к несчастью, он не умел жертвовать личными увеселениями в пользу государственных дел и нужд. Причиной тому был его слабый характер, к тому же испорченный и развращенный его воспитателями и фаворитами. Как уже говорилось, воспитателем регента был аббат Дюбуа, проведший несколько лет в Бастилии из-за своего беспутного поведения. Сен-Симон пишет о горе-наставнике следующее: «Ум у него был самый заурядный, знания самые поверхностные, никаких способностей, внешность хорька, но притом педанта, речь неприятная из-за того, что он вечно употреблял неопределенные артикли; то, что он лжив, было прямо-таки написано у него на лбу, а уж безнравственен он был настолько, что это даже нельзя было скрыть; его приступы ярости весьма смахивали на припадки безумия; голова его не способна была вместить более одного дела, да и то предпринимал он и вел их только ради собственной корысти; не было у него ничего святого, он не уважал никакие чтимые людьми связи, вызывающе пренебрегал верностью, данным словом, честью, порядочностью, истиной и почитал своим величайшим достоинством презрение ко всем этим вещам; столь же любострастный, сколь и любовластный, он жаждал заполучить себе все, принимал во внимание лишь себя одного, а всех прочих ни в грош не ставил и полагал крайним безумием думать и действовать по-другому; при всем этом он был умильным, смирным, уступчивым, льстивым, умеющим очаровать, с величайшей легкостью принимал любые обличья и надевал любые личины, часто противоречившие друг другу, лишь бы добиться целей, которые он себе ставил, хотя нередко имел слишком мало способностей, чтобы их достичь; в его порывистой и прерывистой речи, непроизвольно запутанной, не было ни смысла, ни толку, она у всех вызывала неприятное ощущение. Тем не менее, когда ему было нужно, он бывал остроумен, шутлив, умел рассказать забавную историйку, но ему недоставало гладкости речи из-за заикания, ставшего у него привычкой по причине его фальшивости, а также неуверенности, которую он испытывал, когда ему нужно было отвечать и говорить». Дюбуа полностью завладел волей герцога Орлеанского. Он поощрял в воспитаннике, пишет далее Сен-Симон, «склонность к вольности нравов, к щегольству, разврату, презрение к любым правилам, внушал ему прекрасные принципы ученых вольнодумцев и тем самым развращал его сердце и ум, от каковых принципов герцог Орлеанский так никогда и не смог отрешиться, воспитывал в нем чувства, противные разуму, истине, совести, которые герцог всегда старался в себе подавлять». Дюбуа тщательно следил, чтобы никто не мог встретиться с регентом до и, тем более, помимо него. Однако это отнюдь не означало, что аббат утруждал себя государственными делами. Однажды он бросил в огонь целую кипу запечатанных пакетов из своего бюро и потом радостно вскричал, что вот теперь он ознакомился с их содержимым; после его смерти нашли огромное количество подобных нераспечатанных пакетов и конвертов, в которые временщик так и не удосужился заглянуть. Все дела, свидетельствует Сен-Симон, пришли в запустение, а аббат предавался одним удовольствиям. Характерным примером его отношения к делам и людям служит история госпожи де Конфлан, которая однажды в Версале увидела, как Дюбуа ругательски поносит какую-то просительницу. Тем не менее она подошла, чтобы приветствовать его. – Монсеньор… – начала она. – Ну что монсеньор, что монсеньор? – раздраженно прервал он ее. – То, что вы хотите попросить, сударыня, невозможно. – Но, монсеньор… – повторила госпожа де Конфлан, опешив. – Черт бы вас побрал! Говорю вам еще раз: если я сказал, что это невозможно, значит, невозможно. – Монсеньор… – в третий раз начала госпожа де Конфлан, желая объяснить, что она ничего не просит, но Дюбуа схватил ее за плечи, развернул, ткнул кулаком в спину и рявкнул: – Убирайтесь ко всем чертям и оставьте меня в покое! Госпожа де Конфлан, переборов в себе страшное желание грянуться в обморок, побежала жаловаться на Дюбуа герцогине Орлеанской. Супруга регента привыкла к грубым выходкам аббата, но рассказ госпожи де Конфлан показался ей настолько забавным, что она разразилась хохотом, который окончательно доконал оскорбленную женщину. Ближайшее окружение регента составляли люди, которых он сам называл «висельниками» (впрочем, его супруга, не стесняясь, публично употребляла этот же термин по отношению к нему самому). Эти люди имели такое влияние на него, что Сен-Симону никак не удавалось отговорить герцога от участия в их оргиях хотя бы во время Святой недели. Во время правления герцога Орлеанского французский двор, сделавшийся из-за религиозного ханжества Людовика XIV самым скучным местом в Европе, преобразился, дав волю долго скрываемой чувственности, которая придала регентству характер элегантной вакханалии. Это была своеобразная моральная эпидемия, быстро распространившаяся по Франции, а затем и по Европе. Неотразимое искушение окружало женщину, принимая самые разнообразные формы, чтобы погубить ее стыдливость. Туалет ее раздевал, мебель звала ее к падению, книга развращала ее ум, музыка размягчала душу, беседа издевалась над ее совестливостью, картины и статуи обожествляли чувственные наслаждения. Этот апофеоз распутства славил не стыдливую любовь прежних времен, а желание, быстрое и торопливое, однодневные связи скучающих развратников. Чувство осмеивалось, над верностью издевались; страсть сводилась к любви мимоходом, ухаживание превращалось во внезапное нападение. В этих циничных играх обольщение становилось умной и отработанной тактикой разврата. Мужчина больше не надевал маски нежной (или бурной) страсти; он нападал с помощью иронии, острой и холодной, как лезвие шпаги. Он одерживал победу своей сухостью, покидал свою жертву с наглостью, радуясь ее страданию и слезам. Это элегантное вырождение превратилось при Людовике XV в помойную яму и закончилось при Людовике XVI бойней. Бастилия не избежала проникновения в ее стены общего духа времени. Три поколения женщин обожали герцога Ришелье. Его почти вековое очарование стало суеверием и обычаем. К концу столетия он напоминал старых идолов, уже давно не совершающих чудес, но к которым набожные женщины приходят молиться по-прежнему. В восемьдесят пять лет он щеголял своей последней любовницей. Его молодость пришлась на время регентства. В эти годы ему дважды пришлось побывать в Бастилии. (До этого он уже однажды сидел в ней: будучи еще герцогом Фронзаком, он был уличен в любовной связи с одной замужней придворной дамой, за что и был отправлен Людовиком XIV в тюрьму. Отец герцога сам отвез его туда.) После смерти Людовика XIV Бастилия почти опустела, но вскоре вновь стала принимать у себя арестантов: на сей раз это были придворные эпикурейцы. Каковы были забавы этих весельчаков, можно судить по напечатанному в тогдашних газетах описанию оргии, имевшей место в доме принца Субиза. Знатнейшие особы обоего пола собрались за столом обнаженные; нагие куртизанки сидели рядом с каждым мужчиной. Между прочим в описании сообщалось, что одна дама (графиня де Монтиньон), опьянев от шампанского, отправилась в лакейскую с предложением оказать должное внимание ее красоте, в котором ей отказали пировавшие вельможи. Когда муж этой аристократки узнал, что его жена скомпрометирована более других дам, он сорвал свою ярость на герцоге Ришелье, которого считали виновником огласки бесстыдного пиршества. Граф уговорил одного писателя сочинить на Ришелье колкую эпиграмму и, встретившись с ним в маскараде, продекламировал ее герцогу. Не удовольствуясь этим, он встрял в беседу герцога с одной маской: – Прошу вас, сударыня, не верьте этому вероломному домино, – сказал граф, – он вас тотчас же выдаст. Ришелье в бешенстве вышел на улицу, граф последовал за ним. Они дрались на улице Святого Фомы около Лувра. Более трехсот человек присутствовали при дуэли; противников удалось развести только после того, как граф получил два укола в руку и, в свою очередь, ранил герцога в живот. Узнав об этом скандале, Парижский парламент отдал приказ арестовать обоих драчунов. 5 марта 1716 года они были заключены в Бастилию. Если бы эта дуэль случилась во времена кардинала Ришелье, молодые люди наверняка поплатились бы за нее жизнью, но регент проявил больше снисхождения к их проступку и через полгода освободил их. В знак примирения Ришелье обнял своего врага, и они вместе отобедали у коменданта крепости Бернавиля. Однако регенту вскоре пришлось раскаяться в своем человеколюбии. Распространились слухи, что Ришелье, известный своими успехами у принцесс крови, в костюме цыганки пробрался в Пале-Рояль и похитил честь у дочери регента, герцогини де Валуа. Герцог Орлеанский поклялся достойно отомстить распутнику при первом же удобном случае. В 1718 году такой случай представился, нужно было лишь умело им воспользоваться. Герцог де Мэн, незаконнорожденный сын покойного короля, также претендовал на звание регента. Вокруг него сплотились все недовольные герцогом Орлеанским. Сначала они сочиняли песни, направленные против правительства, распускали слухи, порочащие регента, клеветали на него, потом перешли к дерзким выходкам и кончили заговором. Герцог де Мэн, продолжая традиционную политику французских дворян-заговорщиков, обратился за помощью к Испании. Глава испанского правительства кардинал Альберони пообещал ему деньги и войска для ниспровержения регента. В инструкциях, отправленных кардиналом испанскому посланнику при французском дворе принцу Челламаре, не было оставлено без внимания ни малейшей подробности, которая могла обеспечить успех восстания. Но Челламаре, посредственный дипломат, олицетворенная геральдика, увешанная орденами, позволил французскому правительству провести себя и даже не заметил, как аббат Дюбуа проник в плохо скрываемую тайну заговора. Вслед за этим открытием правительство завладело важными документами, уличавшими заговорщиков. Случилось это так. У известной куртизанки Лафильон был назначен ужин, или, вернее, оргия. В числе гостей должен был присутствовать и секретарь испанского посла, который явился с опозданием, извинившись срочной работой, задержавшей его (он должен был приготовить нужные бумаги, касающиеся заговора, для отправки их с курьером в Испанию). Лафильон, в чьи обязанности входил и шпионаж, немедленно сообщила об этом регенту. За курьером была послана погоня, и он был задержан в Пуатье со всеми бумагами. Началось расследование, и регенту представилась блестящая возможность отомстить Ришелье. Для этого требовалось лишь привлечь герцога к делу как соучастника заговора. Такому виртуозу провокаций, как Дюбуа, задача не показалась чересчур сложной. При обыске в доме Ришелье полиция обнаружила письмо от кардинала Альберони (скорее всего умело подделанное Дюбуа), что и послужило основанием для ареста. 28 марта 1719 года Ришелье был отвезен в Бастилию вместе с преданным ему лакеем Рафе. В Бастилии, по словам нового коменданта Делоне, содержалось так много арестованных, что герцогу и его лакею была отведена темная восьмиугольная комната с узкой дырой, которая неизвестно почему называлась окном. Избалованный аристократ едва не задохнулся от запаха плесени, который источали сырые стены; в комнате было так холодно, что герцога и его лакея пробирала дрожь. Между тем в комнате не было ни печи, ни постелей, ни столов, ни стульев, – герцогу отказали в мебели под тем предлогом, что вся она используется в комнатах других заключенных. Впрочем, Ришелье не совсем упал духом: он очень надеялся, что герцогиня де Валуа, чей гордый нрав он хорошо изучил, вступится за него перед отцом, герцогом Орлеанским. Правда, к этим надеждам примешивались сомнения, поскольку продолжавшаяся связь герцога с принцессой де Шароле, чье золото весьма скрасило Ришелье его первое заключение в Бастилии, возбуждала ревность герцогини де Валуа. Что, если обе соперницы сочтут вероломного обожателя недостойным их сочувствия, что, если они обе покинут его? Но Ришелье, как уже говорилось, был божеством любви, и то, что погубило бы другого, спасло его. Регент довольно потирал руки, повторяя, что он мог бы снести Ришелье не одну голову, но даже и все четыре, если бы они у него были. Между тем его дочь и принцесса де Шароле, превозмогая взаимную ненависть, вместе отправились к новому коменданту Бастилии Делоне и за взятку в двести тысяч ливров добились разрешения посещать Ришелье. Они передавали арестанту сведения о ходе следствия, о возводимых против него обвинениях, благодаря чему Ришелье никогда не бывал застигнут врасплох на допросах и умело избегал ловушек, расставляемых ему д'Аржансоном. Необычный союз двух любовниц спас Ришелье. Выйдя на свободу, он отплатил своим освободительницам новыми изменами. Герцог еще раз посетил Бастилию – после ее падения. Девяностолетним старцем он поднялся на ее башни, а затем осмотрел ту темную комнату, которую когда-то озарили своим присутствием две милые посетительницы. Другие заговорщики по делу Челламаре жили в Бастилии весьма вольготно, предаваясь тем же занятиям, что и на свободе: граф Лаваль наслаждался роскошными обедами, кавалер Малезье трудился над собранием мадригалов, посвященных герцогине де Мэн, Давизар сочинял мемуары и т. д. Все они вышли из Бастилии довольно скоро, целыми и невредимыми. Нельзя не согласиться, что между этой Бастилией и Бастилией времен Людовика XIV пролегла целая бездна. Бастильский роман Дух галантности проник и в стены грозной тюрьмы, примером чему может служить история девицы де Лонэ. Она оставила несколько прелестных страниц о своем заключении, на которых остроумно и живо изложен ее маленький роман. Де Лонэ состояла секретарем у герцогини де Мэн. 10 декабря 1718 года регент отправил ее вместе с другими заговорщиками в Бастилию. Неожиданно для себя эта девушка, небогатая и не блиставшая происхождением, оказалась окружена в тюрьме комфортом и вниманием. В мемуарах она пишет, что пребывание в Бастилии стало лучшим временем в ее жизни. Ее поместили в превосходной комнате и позволили иметь при себе горничную. Когда девушка начала жаловаться на крыс, то для их истребления ей дали кошку. Кошка скоро произвела котят, и игры этого многочисленного семейства очень забавляли де Лонэ. Причина такого обхождения с ней выяснилась быстро: майор Мезонруж, второй человек в крепости после коменданта, воспылал к арестантке глубокой и нежной страстью. Он признался ей, что не мыслит для себя большего счастья, чем стать ее супругом. Де Лонэ начала кокетничать с ним. Ее комната находилась рядом с комнатой майора. Неподалеку от них была комната еще одного арестанта – кавалера Дюмениля, также замешанного в заговоре. Мезонруж, человек прекрасного воспитания и редкого благородства, надеясь доставить возлюбленной новое развлечение, стал рассказывать каждому из них про другого (Дюмениль и де Лонэ не могли встречаться и потому ни разу не видели друг друга). Затем при посредничестве Мезонружа арестанты стали обмениваться посланиями в стихах. Стихи, которые носил майор, быстро приняли любовный характер, – надо принять во внимание, что дело происходило в тюрьме, при самых романтических обстоятельствах. Наконец Мезонруж устроил им свидание. Сцена обещала быть волнующей: оба узника были заочно страстно влюблены друг в друга, – каково окажется их первое впечатление от предмета своей любви? Свидание не охладило их чувств: если права поговорка, что для монахини и садовник – мужчина, то для молодого заключенного всякая девушка является прекрасной. Свидания продолжались под присмотром доброго Мезонружа, который, хотя и замечал, что любовь де Лонэ к Дюменилю все возрастает, но предпочитал ее счастье своему благополучию. Комендант крепости узнал о проказах влюбленных и распорядился перевести Дюмениля в отдаленную башню. Де Лонэ безутешно рыдала; соболезнуя ее горю, Мезонруж удвоил свое внимание к ней: он доставлял ей известия о молодом человеке и даже время от времени устраивал им свидания, действуя на свой страх и риск. Де Лонэ вышла из Бастилии весной 1720 года. На свободе она тщетно требовала от кавалера Дюмениля выполнения обещания жениться на ней. «На следующий год, – вздыхает кокетка, заканчивая свою повесть, – от горя, что он не мог жениться на мне, пока я была в Бастилии, скончался Мезонруж; теперь я приняла бы его предложение». Вольтер Вольтер сидел в Бастилии дважды, и оба раза в годы регентства. В 1717 году он еще носил свое настоящее имя – Франсуа-Мари Аруэ. В этом году появился анонимный стихотворный памфлет «Я видел», направленный против регента и его любовницы герцогини Беррийской, славившейся невероятным распутством. В памфлете были такие строки: «Я видел то, видел это, видел все злоупотребления, совершенные и предполагаемые… Я видел это зло, а мне только двадцать лет», – то есть, как можно было заключить, все зло, которое автору довелось увидеть, пришлось на время регентства. Аруэ было немногим более двадцати, он уже пользовался известностью при дворе как поэт и остроумец, чувствовавший себя как рыба в воде на веселых ужинах в Версале, – этого оказалось достаточным, чтобы счесть его автором сатиры. Примечательно, что друзья поэта, находившие поэму превосходной, подтвердили, что видели, как Аруэ писал ее. Между тем впоследствии выяснилось, что ее настоящим автором был поэт Лебрюн. Справедливости ради надо заметить, что Аруэ был не совсем безгрешен, его перу принадлежала другая сатира – «Регент-Пьеро», появившаяся почти одновременно с «Я видел». Герцог Орлеанский решил проучить предполагаемого автора памфлета. Встретив Аруэ у Пале-Рояля, он подозвал его и сказал: – Месье Аруэ, я бьюсь об заклад, что заставлю вас увидеть то, чего вы еще не видели. Поэт понял, на что намекает регент, но с самым невинным видом осведомился: – Что же это, монсеньор? – Бастилия. – А, монсеньор, оставьте ее для тех, кто уже видел! Когда Аруэ желал отказаться от приписываемых ему анонимных произведений, он приводил один-единственный довод, который казался ему неотразимым: «Я не мог написать таких плохих стихов». Это доказательство вовсе не казалось регенту таким уж неоспоримым, и 17 мая последовал приказ арестовать поэта. В бастильском журнале за этот день находится следующая запись: «Франсуа-Мари Аруэ, 23 лет, родом из Парижа, сын Аруэ, казначея счетной экспедиции, посажен в Бастилию 17 мая 1717 года за сочинение оскорбительных стихов на регента и герцогиню Берри». Полицейский комиссар Изабо, пришедший в крепость для допроса Аруэ, спросил, где находятся его бумаги. – В моем бюро, – ответил арестант. – Не верю, – настаивал комиссар. – У вас есть списки памфлета. Где они? Тут в голове у насмешливого Аруэ родилась одна идея. – Мои бумаги спрятаны в уборных, – сказал он. Поэт отказался уточнить, в каких именно уборных он прячет антиправительственные произведения, и полиция насмешила не одну сотню парижан, обыскивая все уборные подряд, пока Изабо наконец не догадался, что попался на розыгрыш. Хотя Аруэ содержали не очень строго, все же это была тюрьма, и узник, привыкший к комфорту, страдал от отсутствия предметов туалета. В письмах родным он просил прислать «два индийских платка – один для головы, другой для шеи, ночной чепец, помаду…», а также Гомера и Вергилия, его «домашних богов». Но все неприятности забывались за работой. Несмотря на то, что ему не давали ни перьев, ни чернил, ни бумаги, он начал в тюрьме «Генриаду», – записывая строки эпоса, вскоре составившие славу французской литературы, карандашом на полях книг. Полицейский Эро в мемуарах свидетельствует, что поэт сочинял, засыпая на жесткой тюремной постели, а просыпаясь, вновь принимался за работу. Впрочем, первое заключение в Бастилии оказалось сравнительно кратковременным и только принесло славу еще малоизвестному тогда поэту. 10 апреля 1718 года комендант Бастилии Бернавиль получил письмо за подписью восьмилетнего Людовика XV: «Я пишу Вам с ведома моего дяди герцога Орлеанского, регента, чтобы известить о моем распоряжении освободить сьера Аруэ, которого Вы по моему приказанию содержите в моем замке, Бастилии… За это я прошу Бога, чтобы Он воздал Вам…» На рассвете Аруэ покинул тюрьму. При следующей встрече с регентом он сказал, поклонившись: – Я прошу Ваше Высочество впредь не заботиться о моем жилище и пропитании. Вскоре после этой истории Франсуа-Мари Аруэ принял имя де Вольтера, что явилось причиной его вторичного заключения в Бастилию. Один парижанин, Матье Маре, в феврале 1726 года писал президенту Дижонского парламента Жану Батисту Буйеру: «Вольтер получил палочные удары. Вот правда. Кавалер де Роан Шабо, встретив его в опере, позволил себе такое обращение: «Месье де Вольтер, месье де Аруэ, как же вас зовут?» Вольтер заявил, что не знает ничего о Шабо. Так это не осталось. Двумя днями позже в фойе Комеди Франсез поэт сказал, что ответит де Роану за происшедшее в опере. Кавалер поднял палку, но мадемуазель Лекуврер[32] упала в обморок, и ссора прекратилась. Еще дня через три-четыре Вольтера вызвали из-за стола у Сюлли. Он вышел, не подозревая, что это все тот же де Роан. У парадной двери Вольтер увидел трех лакеев, вооруженных палками, которыми они «погладили» его по плечам. Говорят, что кавалер наблюдал избиение из лавки напротив. Поэт кричал, как дьявол, ворвался к герцогу де Сюлли, который нашел поступок кавалера грубым и неучтивым. Но он собирался в оперу, рассчитывая увеличить свои шансы на успех у мадемуазель де Прие…» Помимо приведенного выше, которые позволяют думать, существует еще несколько вариантов этой истории, что ответ Вольтера де Роану в опере был гораздо злее и остроумнее. Согласно первому варианту, Вольтер сказал: «Я начинаю свою фамилию, а вы свою кончаете». Во втором утверждается, что Роан обратился к поэту без частицы «де» и опустив обязательное «месье». На вопрос Вольтера, почему он это сделал, кавалер презрительно заявил: – Потому что вы присвоили себе фамилию, которая вам не принадлежит. Разящий ответ последовал незамедлительно: – Зато я ношу свою фамилию, между тем как вы раздавлены тяжестью своей. В третьем случае Вольтеру приписываются слова: – Я не волочу за собой своей великой фамилии, а делаю честь той, которую ношу. Как можно судить по отзывам современников, кавалер де Роан был глупцом – трусливым, но набитым спесью. Передают, что однажды кто-то насмешливо спросил его, не король ли он (фамилия Роан созвучна французскому «руа» – «король»), на что Роан важно ответил: «Я не король, но удостаиваю быть принцем». За свою заносчивость он получил прозвище Журден (из мольеровского «Мещанина во дворянстве»). Как мы видели, Вольтер рассчитывал, что герцог де Сюлли засвидетельствует нанесенное ему оскорбление. И конечно, нежелание титулованного покровителя поэта помочь наказать его обидчика объяснялось не тем, что герцог спешил в оперу. Аббат Комартен прокомментировал историю с избиением Вольтера так: «Дворяне были бы несчастны, если бы у поэтов не было плеч для палок». Вольтер был известный поэт, но он не имел титула – значит, он был ничем. Вот почему вельможи, покровительствовавшие его таланту, не увидели ничего из ряда вон выходящего в поступке кавалера де Роана: он только поставил на место дерзкого «парвеню», выскочку. Принц Конти (кстати, воспетый Вольтером в стихах) острил: «Удары были плохо даны, но хорошо приняты». Вольтеру пришлось самому отстаивать свою честь. Он послал де Роану вызов на дуэль и спешно стал брать уроки фехтования. Доблестный кавалер принял вызов, но одновременно известил об этом власти, ссылаясь на то, что не хочет нарушить закон, запрещавший дуэли. 5 февраля 1726 года государственный секретарь граф Морепа приказал комиссару полиции Эро «из предосторожности арестовать избитого людьми кавалера де Роана Вольтера». У Вольтера оставалось последнее оружие – слово. В письме к Морепа, получившем широкую известность в Париже, он язвительно писал: «Я скромно добивался возможности быть убитым храбрым кавалером де Роаном, воспользовавшимся прежде ударами шести лакеев (здесь, как мы видим, Вольтер расходится с Матье Маре. – С. Ц.), которых он мужественно выставил вместо себя. Все это время я стремился восстановить не свою честь, но честь господина Роана де Шабо, что оказалось весьма трудно… Был бы очень рад доказательству обратного, но сознаю, что всю свою жизнь проведу в Бастилии, куда меня заточили». В последнем утверждении поэт, к счастью, оказался неправ. 5 мая того же года он получил свободу и разрешение уехать в Англию. Позже Вольтер еще раз попытался получить удовлетворение от кавалера де Роана, для чего приехал из Лондона в Париж, но его обидчик предусмотрительно покинул столицу. Обижая людей, подобных Вольтеру, власть многим рискует. Второе заключение в Бастилии оказало большое влияние на поэта. До этого у него не было злобы на общественное устройство, где знатность стоит выше закона, а правитель может полновластно распоряжаться свободой подданных. Но после отъезда в Англию Вольтер все свои силы направил на то, чтобы разрушить бастилии в умах людей. Глава шестая Бастилия при Людовике XV Конвульсионеры В царствование Людовика XV, продолжавшееся пятьдесят один год, произвол властей достиг своего апогея. В это время в Бастилию заключали и за государственные преступления, и за самые мелкие проступки: Бастилия была тогда и государственной тюрьмой, и гауптвахтой, куда сажали на день-другой. Личность Людовика XV во многом определила характер его царствования. Его не воспитывали для управления страной; в детстве он был такого слабого телосложения, что от него требовалось только одно: чтобы он жил. Его звали «Возлюбленным», но не потому, что его сильно любили или он старался заслужить любовь народа, но лишь потому, что смотрели на него как на драгоценное сокровище нации, которого опасались лишиться. Одним своим существованием король гарантировал аристократии привилегии, народу – мир; золото – вверху, хлеб – внизу. Воспитанный регентом и его двором, Людовик привык жить только для себя. Его правление можно назвать всеобъемлющим эгоизмом власти: оно прошло без малейших попыток провести какие-нибудь полезные реформы. Все внимание правительства было обращено исключительно на охрану старого порядка и на преследование всего нового. Людовик XV уже юношей был так красив, что сводил с ума всех женщин двора: любить красивого, молодого, богатого и расточительного человека, и притом короля, – какое счастье сулило новое царствование! Но красота Людовика скоро поблекла, и он остался прекрасен только для льстецов и женщин, имевших на него виды. Тусклые глаза, глядящие без всякого выражения, и вдавленный лоб делали его лицо весьма непривлекательным. Нравственные же качества короля были еще более отталкивающими. Если Людовик XIV юношей взял на себя управление государством и работал за всех своих министров, то Людовик XV с ранних лет бросил всякий труд и заперся во дворце, наподобие султана, с женщинами и поварами. И едва ли какой-либо другой сластолюбец имел более бесчувственное сердце, чем то, которое билось в груди у Людовика XV. Не занимаясь государственными делами, король почти ничего не знал о том, что творили его именем министры. Людовик иногда подписывал приговоры, но можно с уверенностью поручиться, что делал это не читая. Злоупотребления в его царствование были вопиющими, однако он утешался словами своего наставника, кардинала Флери, что они и в прежние времена были велики. Поэтому действительными виновниками всех арестов, тюремных заключений и казней были подлинные правители королевства: министры Фелипо, Шовелен, Амело, Бойен, д'Аржансон, Шуазель и д'Эгильон, а также фаворитки короля – маркиза де Помпадур и другие. Лишь только Людовик XV принял в свои руки правление, иезуиты подняли голову. Религиозные гонения, приостановленные при регенте, возобновились со страшной жестокостью. Самым ненавистным учением для иезуитов был янсенизм, и они выхлопотали более 80 тысяч тайных королевских приказов об аресте приверженцев этой секты. Другими словами, чтобы арестовать человека, достаточно было заподозрить его в янсенизме. Их стараниями к середине XVIII столетия янсенисты почти перевелись во Франции. В первые годы царствования Людовика XV тюрьмы страны переполнились конвульсионерами – приверженцами секты, выросшей из янсенизма; в одной Бастилии их перебывало около четырех тысяч. Вина подавляющего большинства этих людей состояла в том, что они были психически нездоровы. Появление конвульсионеров связано с именем Франсуа Париса. Он был старшим сыном советника Парижского парламента. Рано увлекшись янсенизмом, он после смерти отца уступил его место в парламенте своему младшему брату, чтобы целиком посвятить себя набожным размышлениям. Парис умер в 1727 году, в возрасте тридцати шести лет. Янсенисты почитали его святым, хотя он последние четырнадцать лет не был у причастия под предлогом, что недостоин его. Перед смертью он продиктовал свое исповедание веры и завещал похоронить себя, как бедняка, на общем кладбище. Выполняя волю покойного, Париса похоронили на приходском кладбище церкви Святого Медарда, куда уже на следующий день собралась толпа калек в ожидании исцелений. Некоторые фанатики публично бичевали себя, раздирали на теле лохмотья и доводили себя до экстаза, сопровождаемого конвульсиями. Постепенно их число росло, у них появились учителя, которые проповедовали на могиле Париса, возбуждая толпу невероятными корчами тела. Экзальтированные до безумия последователи этих учителей готовы были идти за ними куда угодно и на что угодно; были случаи, когда они выступали против королевской армии с оружием в руках. Твердую организацию секте конвульсионеров придал Пьер Вальян, полубезумный священник из Труа, в 1725 году попавший в Бастилию за то, что чересчур рьяно проповедовал близкое воскресение пророка Илии. Тюремное заключение навело его на мысль, что пророк Илия – это он сам. Вальян просидел в Бастилии три года, служа посмешищем для товарищей по неволе, которым он проповедовал свое учение с утра до вечера. Когда в 1728 году лжепророка выпустили из крепости, он примкнул к конвульсионерам и вскоре сделался их духовным вождем. Вальян создал иерархию секты, установил обряды и отделил правоверных от еретиков, – в число последних попали все, кто проявил недостаточно восторженности и фанатизма по отношению к нововведениям Вальяна. Начальник парижской полиции Жиро говорил, что можно легко уничтожить на корню это зло, эти соблазнительные догматические распри, приняв строгие меры по отношению к зачинщикам беспорядков. Но применение силы долгое время сдерживалось тем, что ревностным защитником учения Париса выступил кардинал Ноайль, объявивший действительными чудеса, совершавшиеся на Медардском кладбище. Шесть лет Вальян считался первосвященником конвульсионеров. За это время он довел экзальтированность своих учеников до крайнего предела – скачки молодых девиц на могилах кладбища Святого Медарда являли стороннему наблюдателю ужасное зрелище человеческого безумия. В конце концов Вальян показался властям опасным, его арестовали и вторично упрятали в Бастилию, хотя настоящее место «чудотворца» было в сумасшедшем доме. На этот раз над его выходками никто не потешался, так как его заперли в одиночном каземате, где он бился головой о стены и вел себя как помешанный. Однажды, когда тюремщик развел в камине огонь, Вальян вскричал: – А, пусть теперь кто-нибудь осмелится утверждать, что я не пророк Илия! Что же это такое, как не тот огонь, который должен поднять меня на небо? Я узнаю этот огненный вихрь! Он впал в такое возбуждение, что тюремщик вынужден был потушить камин, залив его ведром воды. Едкий дым, распространившийся по комнате, отрезвил безумца. Придя в себя, Вальян написал Жиро следующее письмо: «Для меня теперь очевидно, что я не пророк Илия. Бог показал мне это своим недавним знамением. Вихрь был не для меня. Выполняя обязанности этого пророка с некоторым блеском, я по справедливости должен теперь признать, что не представляю более его особы и что я не имею никакого полномочия ни действовать, ни говорить от его имени». Второе заключение Вальяна в Бастилии продолжалось двадцать два года, после чего он был перевезен в Венсен, где и умер. Из его последователей, которые, несмотря на очевидное безумие Вальяна, никогда не переводились, выделилась секта августинианцев. Последние совершали свои обряды и процессии ночью; с веревками на шеях и факелами в руках они отправлялись на покаяние в собор Парижской Богоматери, а оттуда шли на Гревскую площадь, где целовали землю, на которой, как они полагали, им суждено было погибнуть от руки палача. К этой секте вскоре добавились меланжисты, моргулисты, фигуристы и секуристы, вышедшие также из секты конвульсионеров. Некоторые из них признавали власть Римской церкви и не верили в святость Париса. Все они враждовали друг с другом, доказывая правоверность своего учения и еретичность прочих сект. Секуристы заслуживают особого внимания – их справедливее было бы называть палачами конвульсионеров. Секурировать – значило истязать конвульсионера, топча его ногами, колотя поленьями и прижигая раскаленным железом. Некоторые из секуристов выламывали пальцы у молодых женщин, рвали клещами их груди, кололи их тело острыми железными прутьями и даже распинали их. Число секуристов непрерывно росло, а вместе с тем и количество их жертв. Правительство, желая положить конец этому варварству, запретило проведение на кладбище Медарда публичных обрядов сектантов. Те стали собираться в частных домах, где продолжали истязания; полиция тщетно пыталась прекратить изуверства, а Парижский парламент, которому поручили расследовать эти преступления, бездействовал, видимо, не решаясь посягнуть на «свободу совести» мучителей. Властям пришлось действовать при помощи одних административных мер, в отношении секуристов, безусловно, вполне оправданных. Но Бастилия наполнилась и другими сектантами, которых бросали туда сотнями. Вместо лечения их там морили голодом и холодом. Дошло до того, что в 1747 году арестовали семилетнюю девочку-сектантку. Репрессии оказались бессильны водворить порядок в умах людей. Конвульсионерство, подобно другим массовым эпидемиям безумия, постепенно исчезло само, но в коридорах Бастилии еще долго слышалось эхо тех воплей, которые доносились из казематов, где сидели кровавые изуверы и несчастные безумцы. Мнимый спаситель Жана Анри Латюда можно назвать самым знаменитым узником Бастилии в царствование Людовика XV. В его судьбе запечатлелись все злоупотребления и пороки абсолютистской Франции – фаворитизм, презрение к человеческой личности, бессмысленное насилие. Сын небогатого лангедокского помещика, рано спроваженный отцом из родного дома, Латюд был вынужден с юных лет сам пробивать себе дорогу в жизни. Успев получить кое-какое образование и зная недурно математику, он в 1747 году, двадцати двух лет от роду, поступил на службу в саперный полк в качестве военного фельдшера (а не инженера, как он пишет в мемуарах). Он участвовал в войне против Голландии, но мир, подписанный в 1748 году, заставил его снять военный мундир. Оставив армию, Латюд кое-как перебивался в Париже, приготовляя пилюли и помаду для какого-то аптекаря. И вот тут-то, на свою беду, он задумал легкомысленную и, в сущности, не совсем чистоплотную проделку, которая, по его расчету, должна была обеспечить ему благоволение королевской фаворитки, маркизы де Помпадур. Вот как сам Латюд описывает возникновение своего замысла: «Однажды в апреле 1749 года я находился в Тюильрийском саду. На скамейке рядом со мной сидели два человека, резко выражавшие негодование по поводу поведения маркизы Помпадур. Огонь гнева, разгоревшийся в их сердцах, воспламенил мой ум, и у меня мгновенно мелькнула мысль о том, что я, кажется, нашел способ повернуть в мою сторону колесо фортуны. «А что, – подумал я, – если донести фаворитке короля о том, какого мнения о ней народ? Конечно, я не сообщу ей ничего нового, но, может быть, она оценит мое усердие и из благодарности заинтересуется моей судьбой?» Латюд вернулся домой, насыпал в коробочку совершенно безвредный порошок и отослал эту посылку на имя маркизы Помпадур. Вслед за тем он отправился в Версаль и потребовал, чтобы о нем доложили маркизе, которой, по его словам, угрожала серьезная опасность. Фаворитка тотчас его приняла. Латюд сообщил ей, что он открыл заговор, направленный против ее жизни. Пересказав разговор двух незнакомцев в Тюильрийском саду, он добавил, что они затем отправились на почту и послали пакет на ее имя, в котором находится сильный яд. Маркиза де Помпадур поблагодарила молодого человека и попросила записать для нее его имя и адрес. Латюд, позабыв, что собственноручно написал адрес на посылке, поспешил исполнить просьбу маркизы, которая, бросив взгляд на бумагу, отпустила Латюда грациозным поклоном. Латюд вышел из Версаля, не чуя под собой ног от радости. В скором времени после его ухода маркиза Помпадур получила посылку. Она как бы в шутку уговорила горничную надеть маску и вскрыть пакет. При этом порошок рассыпался, но не умертвил ни горничную, ни собачку маркизы, которая понюхала и лизнула его. Маркиза сличила почерк на посылке с рукой Латюда и легко догадалась о его проделке. Подобный способ добиться ее признательности показался ей гнусным. 1 мая, в шесть часов вечера, Латюд был арестован и препровожден в Бастилию. Он понял, что его хитрость раскрыта, но не пал духом, решив, что несет справедливое наказание и что маркиза, вероятно, желает проучить его, подержав неделю-другую в крепости. В Бастилии Латюда обыскали, сняли с него одежду и отобрали все, что он имел при себе: деньги, драгоценности и документы. Затем его облачили в отвратительные лохмотья, «пропитанные, без сомнения, слезами многих других узников этого страшного замка», как выражается он в своих мемуарах. Наутро арестанта посетил начальник полиции Берье. На все его вопросы Латюд отвечал вполне искренне, чем пробудил сочувствие в Берье, который пообещал ходатайствовать за него перед маркизой. Второй визит начальника полиции разрушил все надежды Латюда: маркиза была непреклонна. Латюда вначале поселили в одной комнате с евреем Иосифом Абузагло, английским шпионом. Но едва узники стали сближаться, как их разлучили: Абузагло выпустили из крепости, а Латюда перевезли в Венсен. Берье не одобрял жестокости маркизы по отношению к Латюду и всеми имеющимися у него средствами старался облегчить участь молодого человека. Он отвел Латюду лучшую комнату в Венсене, распорядился выдать ему хорошую одежду, книги и письменные принадлежности, но, конечно, все эти привилегии не могли заменить пленнику свободы. С той поры как Латюд потерял надежду выйти из тюрьмы с согласия маркизы Помпадур, он решил бежать из тюрьмы. В Венсене ему разрешили гулять в саду. Однажды, когда тюремщик отпер дверь его комнаты, приглашая узника выйти на прогулку, Латюд выскочил на лестницу, запер перед носом у тюремщика входную дверь и убежал в лес. Пробравшись в Париж, он два дня не мог опомниться от восторга при мысли, что вновь свободен. Затем, поразмыслив над своим положением, он решил написать маркизе де Помпадур письмо с просьбой о прощении; при этом, полагая, что только знак полного доверия может загладить его вину, он указал в письме адрес дома, где скрывался. На другой день улыбающийся полицейский офицер вновь отвез беглеца в Бастилию. На сей раз, если бы не новое вмешательство доброго Берье, Латюду пришлось бы худо: он был осужден комендантом Бастилии на тяжкое одиночество при самом скудном содержании. Но Берье распорядился кормить его из расчета восьми ливров в день, снабдил книгами, бумагой и перьями, позволил принести из дома необходимые вещи и дал ему в товарищи одного молодого человека по имени Далегр. Вина этого арестанта состояла в том, что он написал маркизе Помпадур письмо, в котором умолял ее, ради блага Франции, умерить свой беспутный нрав. Новое ходатайство Берье не принесло успеха. На товарищей напала страшная тоска. Далегр целыми днями валялся на соломе, а Латюд, сидя на полу и подперев голову обеими руками, остолбенело смотрел в угол тюрьмы. Тюремщик вечером нередко заставал их в той же позе, в какой видел поутру. «Нам оставалось только два выхода: смерть или бегство», – вспоминал Латюд. Они выбрали второе. Мысль о побеге созрела в голове у Латюда. «Я начал перебирать в уме, – пишет он, – все, что я должен буду проделать и раздобыть для бегства из Бастилии: прежде всего – пролезть сквозь дымовую трубу, постепенно преодолевая все устроенные в ней барьеры и преграды; затем, чтобы спуститься с крыши в ров, – соорудить лестницу не менее 80 футов длиной и еще одну, деревянную, чтобы выбраться из крепостного рва». Обдумав детали своего плана, Латюд бросился к Далегру на шею и крепко его поцеловал. – Мой друг, терпи и мужайся: мы спасены! – воскликнул он и быстро изложил товарищу свои соображения. – Как, – пробурчал Далегр, – ты все еще носишься со своими бреднями? Веревки, материалы… да где они? Откуда ты их возьмешь? – Веревок у нас больше, чем нужно, – возбужденно отвечал Латюд. – Вот тут, – он указал на свой чемодан, – их больше тысячи футов. – Друг мой, приди в себя и успокой свое расстроенное воображение. Я ведь знаю, что лежит в твоем чемодане: там нет ни куска веревки! – Да что ты! А мое белье? А дюжина рубах? А чулки? А полотенца? Разве это нельзя превратить в веревки? По мере того как Латюд развивал перед Далегром свой план, у того загорались глаза. В тот же день они принялись за дело. Им удалось изготовить две веревочные лестницы – для работы в каминной трубе и для спуска с башни, деревянную лестницу, сделанную из отдельных частей, которые соединялись посредством шарниров и шипов, пилу из сплющенного подсвечника, ножик из огнива и множество других инструментов для побега (все эти вещи можно видеть в музее, основанном полковником Мареном). Чтобы спрятать их от глаз тюремщика, они вынули чуть ли не все плиты пола. Удаление железных прутьев из дымовой трубы было наиболее мучительным трудом, потребовавшим шестимесячного напряжения сил. Работать в дымоходе можно было только в скрюченном положении, до такой степени утомлявшем тело, что никто из них не выдерживал этой пытки больше часа, причем каждый раз работавший в трубе спускался с окровавленными руками. Железные прутья в дымоходе были вдавлены в твердую известь, для размягчения которой друзьям приходилось ртом вдувать воду в проделанные отверстия. Вместе с тем, по мере того как они извлекали прутья из гнезд, их надо было вставлять обратно, чтобы офицеры, ежемесячно проверявшие состояние дымоходов и стен, ничего не заметили. Наконец, 25 февраля 1756 года, через два года после начала их трудов, друзья сделали последние приготовления к побегу, который решили совершить в эту же ночь. Они подождали, когда в крепости все утихнет, и по узкой каминной трубе вылезли на крышу башни, таща с собой деревянную и веревочную лестницы, кожаный чемодан с одеждой и мешок с железными прутьями, которыми они надеялись пробить брешь в стене, опоясывающей крепость. Привязав веревочную лестницу к одной из массивных пушек, стоявших на платформе, они спустились к подножию башни (Латюд насчитал до земли двести ступенек лестницы) и очутились по пояс в ледяной воде, так как Сена уже разлилась и затопила ров. На их счастье, стоял густой туман, скрывавший беглецов от глаз часовых, однако им пришлось несколько раз окунуться с головой в воду, при приближении караула с огромным фонарем. Они благополучно добрались до того угла стены, где надеялись пробить брешь. С помощью железных прутьев им удалось вынуть два камня. Во время этой работы часовой, стоявший наверху, окропил их горячей струей, и друзья еле подавили в себе приступ безудержного хохота. В пятом часу утра отверстие в стене было готово. Мусора, вытащенного ими из этой пробоины, хватило бы, чтобы нагрузить три добрые телеги. Латюд и Далегр пролезли в дыру и очутились во внешнем рве, также наполненном водой. Здесь их выручила деревянная лестница. Взобравшись на вал, беглецы перевели дух и осмотрелись: сомнений быть не могло – они спасены… Друзья быстро переоделись и наняли экипаж до Версаля, где жил де Силуэт, секретарь герцога Орлеанского, некогда служивший вместе с отцом Латюда. Беглецы надеялись укрыться у него, но, к несчастью, того не оказалось дома. Тогда они отправились в Сен-Жермен к портному Руи, знавшему Латюда. Здесь они пробыли несколько дней и решили перебраться в Голландию. Далегр тронулся в путь первым, переодевшись в крестьянское платье. Договорились, что в случае благополучного прибытия в Брюссель он пошлет письмо на имя Руи. Через две недели письмо было получено. Тогда в путь двинулся Латюд, переодетый в платье слуги. В Брюсселе, у хозяина гостиницы, где должен был остановиться Далегр, Латюд узнал, что его друга недавно арестовали и увезли во Францию. Не медля ни минуты, Латюд уехал в Амстердам. Отсюда он написал отцу, прося у него денег, и французская полиция, вскрывавшая иностранную корреспонденцию, узнала о его местонахождении. Французский посол в Голландии стал хлопотать перед властями о выдаче Латюда, представляя его опасным разбойником, и добился согласия голландского правительства на его арест. Латюда схватили среди бела дня в банке, где он получал присланные отцом деньги. Таким образом друзья снова оказались в Бастилии, но на этот раз порознь. Латюда заключили в самый темный и сырой подземный каземат и приставили к нему тех самых сторожей, бдительность которых он обманул. За побег Латюда и Далегра их присудили к трехмесячному заключению в подземных казематах, поэтому нет нужды уточнять, как они относились к узнику. Латюд дошел до ужасного состояния, которое внушило тюремному хирургу Сартену опасения за его жизнь. Сохранился протокол, составленный Сартеном о состоянии здоровья узника; вот отрывки из этого документа: «В продолжение почти сорока месяцев, с кандалами на руках и ногах, он сидит в каземате… Постоянная мокрота под носом заключенного разъела его верхнюю губу до самого носа и обнажила зубы, которые ломались и вываливались от холода; борода и волосы на голове его вылезли, и он сделался совершенно плешив. Зрение его страдало ужасно… Заключенный, о котором идет речь, чувствуя себя не в состоянии выносить подобные мучения, задумал лишить себя жизни и с этой целью ничего не ел и не пил в продолжении ста тридцати четырех часов. Ему силой открыли рот, насильно заставив проглотить пищу и помешав умереть. Тогда он придумал новый способ: отыскал кусок стекла, разрезал жилы и истек бы кровью, если б его не остановили… Несколько дней он пробыл без памяти… Такие страдания могут изнурить самый крепкий организм. Когда заключенный наклоняет голову вперед… ему кажется, что его будто кто-то ударяет палкой по лбу, в глазах темнеет и минуту или две он положительно ничего не видит». Это красноречивое свидетельство нисколько не облегчило положение узника. До самой весны он оставался в каземате и был переведен оттуда в другое помещение только потому, что Сена вышла из берегов и грозила затопить каземат, где он находился; однако и новая комната была без камина. Между тем Латюд в своем ужасном заключении обдумывал планы различных преобразований, которые в более благоприятные для него времена могли бы доставить ему известность и видное положение. Он разработал два проекта: как увеличить французскую армию на двадцать тысяч человек, не прибегая к новому рекрутскому набору, и как собрать достаточную сумму, чтобы назначить пенсии вдовам солдат, погибших в сражениях. Суть первого проекта сводилась к тому, чтобы вооружить ружьями сержантов и унтер-офицеров, чьим оружием по уставу того времени были пики и алебарды, совершенно бесполезные в сражении; второй проект предусматривал сбор необходимой суммы за счет увеличения на три денье платы за пересылку писем. Латюд записал оба проекта своей кровью на пластинках, сделанных из хлебного мякиша; его пальцы, которые он колол соломинкой, так воспалились, что только чудом Латюд избежал гангрены или общего заражения крови. Латюду удалось заинтересовать своими проектами тюремного духовника, который переписал их на бумагу и представил королю. Предложением Латюда относительно армии немедленно воспользовались; что касается второго проекта, то он был выполнен лишь наполовину: плата за пересылку писем увеличилась, но пенсии вдовам солдат назначены не были. Положение самого Латюда при этом ничуть не улучшилось; тогда-то он и предпринял те попытки самоубийства, о которых писал хирург. Прошли годы. Маркиза Помпадур умерла, сумев, однако, передать свою ненависть к Латюду другим министрам и вельможам. Латюд испробовал все средства, чтобы развеять это предубеждение против себя: трогательные письма, унижения, мольбы – все было перепробовано им, и не привело ни к чему. Сохранилось несколько его писем; в одном из них он высчитывает часы своего заключения – оказывается, что тюрьма отняла у него сто тысяч часов жизни (она отнимет у него еще двести тысяч); но даже теперь юмор и жизнелюбие не покидают его, и он начинает свои письма словами: «Бастилия, писано на дне кастрюли», – другого стола у него не было. Однажды он смастерил из веточки бузины, случайно обнаруженной им в охапке свежей соломы, маленькую свирель, с которой с тех пор не расставался до конца жизни. В 1765 году его перевели в Венсен. 23 ноября, во время прогулки, Латюд внезапно повалил на землю двух солдат и бросился бежать, опрокидывая встречавшихся по пути сторожей. У ворот замка его остановил часовой, прицелившийся в него из ружья. – Старина, – ласковым голосом сказал Латюд, приближаясь к нему, – ты обязан остановить меня, а не убивать. Прежде чем солдат успел опомниться, Латюд выхватил у него ружье, повалил караульного на землю и очутился в парке. Два часа спустя он был уже в доме у своих друзей. Однако Латюд, умевший так ловко убегать из тюрем, не умел хранить свою свободу. Он еще раз поверил обещаниям министра Шуазеля и снова был арестован и водворен в Венсен. Оттуда его перевели сначала в Шарантон, а потом в Бисетр – отвратительные тюрьмы для уголовников и сумасшедших, по сравнению с которыми даже Бастилия имела свои преимущества. В Бисетре он вновь встретился с Далегром; несчастный товарищ по побегу не узнал его: он сошел с ума. Через некоторое время Далегр расшибся, упав в яму, и умер на руках у Латюда. В Бисетре Латюд подкупил одного тюремщика, который позволил ему написать записку и взялся доставить ее по адресу, но дорогой потерял конверт. К счастью, его подобрала одна женщина, торговка госпожа Легро. Прочитав записку Латюда, она почувствовала к нему необыкновенную жалость. Она показала письмо своему мужу, и супруги решили спасти человека, о котором ничего не знали и которого ни разу не видели. Госпожа Легро ходила ко всем влиятельным лицам, ее отовсюду выгоняли, но просительница не падала духом. Несколько раз в неделю она пешком проделывала путь из Парижа в Версаль и обратно, убеждая вельмож в том, что Латюд не разбойник. Наконец ее старания увенчались успехом. Ей удалось склонить на свою сторону кардинала де Рогана. В 1784 году Латюд был освобожден; таким образом он провел в различных тюрьмах тридцать пять лет. Любопытно, что столь долгое заключение не подорвало ни умственных, ни физических сил Латюда. До самой смерти он имел отличное здоровье, был весел и остроумен и усердно занимался гимнастикой, чтобы предохранить себя от подагры, которой очень боялся. Латюд прожил на свободе еще двадцать лет, приобретя известность как автор интереснейших мемуаров. В июле 1789 года ему довелось присутствовать при взятии крепости, из которой он некогда совершил свой знаменитый побег. В том обвинительном акте, который французский народ предъявил Бастилии, запискам Латюда по праву принадлежит далеко не последнее место. Генерал Лалли В 1762 году всеобщее внимание привлек процесс знаменитого французского генерала Лалли, защитника французских колоний в Индии. Граф Тома Артур де Лалли Толендаль вступил на военное поприще в самом юном возрасте. Ему было всего восемь лет, когда отец, командующий полком, взял его с собой на войну, чтобы приучить сына к зрелищу кровопролития. Мальчик, еще в колыбели получивший офицерский чин, в эту кампанию был произведен в капитаны. Четыре года спустя он участвовал в осаде Барселоны, служа под начальством отца. Вскоре после этого Лалли был назначен командиром полка; в 1740 году он дослужился до звания генерал-лейтенанта, а в 1756 году его назначили генерал-губернатором всех французских владений в Индии. В это время Франция и Англия уже находились в состоянии войны, и Лалли пришлось оставить планы административных преобразований, которые он намеревался осуществить в своем генерал-губернаторстве, чтобы вновь употребить в дело свои военные способности. Храбрость Лалли была общеизвестна, к тому же он был еще и незаурядным полководцем. На другой день после высадки на индийский берег он одержал блестящую победу над англичанами. Тридцать восемь дней спустя на Коромандельском побережье не осталось ни одного красного мундира; Лалли овладел двумя важными крепостями: Гонделуром и Сен-Давидом. Если бы генерал проявил большую осторожность, он мог бы закрепить свои успехи; но отвага и горячность, бывшие основными его достоинствами, превратились в главные недостатки. Увлеченный победами, Лалли двигался вперед, не обращая внимания ни на время года, ни на недостаток в съестных припасах и вооружении, ни на недовольство офицеров и солдат. Французская армия осадила Мадрас и вскоре овладела всем городом, за исключением цитадели, где укрылись англичане. Ворвавшись в Мадрас, офицеры и солдаты Лалли сполна вознаградили себя за перенесенные лишения и многомесячную задержку жалованья; генерал был не в силах остановить грабежи, да и боялся жесткими мерами окончательно настроить против себя армию. Дисциплина во французской армии упала настолько, что, когда Лалли хотел повести войска на штурм цитадели, офицеры отказались повиноваться ему. Наемные солдаты, став свидетелями совершенно неприличных препирательств командующего с офицерами и не зная, кому подчиняться, мало-помалу начали переходить на сторону неприятеля, обещавшего им золотые горы. Дошло до того, что французская армия от дезертирства уменьшилась наполовину, и Лалли, дрожа от ярости, должен был отступить от Мадраса (1760). Потеря Пондишери окончательно погубила его. Это был единственный город, остававшийся в руках французов после злополучной мадрасской кампании. Между тем Лалли, уверенный в победе, не укрепил город и не позаботился обеспечить пути отступления на случай неудачи. В Пондишери не оказалось ни достаточно сильного гарнизона, ни оружия, ни провианта. С самого начала войны город со стороны моря охраняла небольшая французская эскадра, которая, после того как 19 английских кораблей приблизились к гавани, отступила к Бурбонским островам. Если англичане тогда же не овладели городом, то это произошло только потому, что имя Лалли продолжало оставаться грозным для неприятеля. Но когда город был осажден и с суши, французские наемники восстали, требуя выплаты жалованья, которого им не выдавали уже полгода. Воспользовавшись бунтом, англичане ворвались в город и взяли в плен Лалли вместе со всей французской армией. Пленного генерала отправили в Лондон. Известие об этом поражении страшно взволновало Париж и в особенности двор, где у Лалли было много врагов. Лалли и из Лондона видел тучи, сгущавшиеся над его головой, но полагал, что его присутствие в Версале поможет разогнать их. Однако, вернувшись в Париж, генерал понял, что общественное мнение, соединившись с мнением двора, настроено резко против него. Лалли попрекали суровым обращением со своими солдатами и жестокостями по отношению к туземцам, его обвиняли во всех военных неудачах, злоупотреблении властью, излишнем доверии, оказанном им некоторым чиновникам, ненавистным населению края, и прочих грехах. Все доводы генерала, которыми он думал оправдаться или, по крайней мере, свалить вину на других, были признаны неубедительными. Видя, что дело принимает дурной оборот, Лалли сам попросил короля заключить его в Бастилию и назначить расследование. Этот добровольный арест состоялся 1 ноября 1762 года. Лалли в это время был шестьдесят один год. Процесс над генералом растянулся почти на четыре года. Среди всеобщего ожесточения Лалли оставался совершенно спокоен: он надеялся, что если парламент и будет с ним чрезмерно строг, то король смягчит наказание. Язвительные насмешки Лалли над некоторыми сослуживцами, имевшими вес при дворе, еще больше разжигали ненависть к нему. Лалли хотел, по словам Вольтера, очернить своих офицеров и весь правительственный совет Пондишери; но чем упорнее смывал он возводимые на него обвинения, тем настойчивее и ожесточеннее его враги забрасывали его грязью. Генерала начали томить мрачные предчувствия, о чем можно судить по следующей истории. Однажды во время бритья Лалли попытался спрятать одну из бритв, принесенных тюремным цирюльником. Тюремщик, заметивший это, потребовал отдать бритву, но генерал, притворно смеясь, ни за что не хотел возвращать ее. Не зная, что делать, тюремщик стал громко звать на помощь; по всей крепости раздался звон колоколов, коридоры наполнились солдатами, явилась стража, и только тогда генерал отдал бритву, наделавшую столько шума. Ясно, что Лалли был уверен, что настанет день, когда бритва может ему понадобиться, чтобы избежать публичного позора. Вообще, принимая во внимание его чин, с ним обращались довольно сурово. Майору и солдатам, возившим его из Бастилии на допросы, был отдан приказ убить арестанта при малейшей попытке толпы освободить его. А когда дело дошло до развязки и генерал явился на последнее заседание суда в полной форме, со всеми лентами и орденами, президент парламента распорядился снять с него мундир и все регалии. 8 мая за Лалли пришли, чтобы отвести его из Бастилии в парламент для выслушивания приговора. Генерал, томимый тяжелыми предчувствиями, воскликнул: «Я пропал!» Когда протоколист Грефье приказал ему опуститься на колени и выслушать приговор, Лалли некоторое время стоял в нерешительности, затем исполнил требуемое. Приговор парламента гласил, что «за измену интересам короля, государства и Ост-Индской компании, за злоупотребление властью и дурное обращение с подданными короля» генерал де Лалли Толендаль осуждается на смертную казнь путем отсечения головы, а его имущество подлежит конфискации в пользу казны. Во время чтения приговора генерал пребывал в сильном волнении; услышав последние слова, он в ужасе вскочил с воплем: «Какое же преступление я совершил?» – и тут же почти без чувств повалился навзничь. Священник принялся утешать его, но Лалли в раздражении вскричал: «Ах, сударь мой, оставьте меня на минуту одного!» С этими словами он отошел в угол комнаты и сел на пол, закрыв лицо руками. Вдруг он выхватил из рукава нож, неизвестно каким образом оказавшийся у него, и ударил себя в бок, под сердце; генерал хотел повторить удар, но подоспевшая стража удержала его руку. Рана оказалась неопасной: лезвие только скользнуло по ребрам. Приведенный обратно в камеру, Лалли не мог заснуть всю ночь, кричал, что он выиграл девять сражений, а проиграл только одно, что он был при Фонтенуа и т. д. Когда на следующий день за ним пришли, чтобы отвезти на Гревскую площадь, генерал впал в страшное неистовство, проклиная короля, парламент и все на свете. Он грозился на эшафоте обратиться к народу с речью, разоблачающей его врагов. Зная характер Лалли, экзекуторы предпочли завязать ему рот. При этом какой-то умник выразил опасение, что «осужденный, привыкший к восточным обычаям, может проглотить язык и тем избавить себя от процедуры публичного наказания». В пятом часу пополудни телега с приговоренным генералом, что-то мычавшим через повязку и свирепо вращавшим глазами, двинулась к Гревской площади. Палач и отряд солдат сопровождали ее. При виде эшафота Лалли охватило полное бессилие, его пришлось почти нести по ступенькам. Но на эшафоте к генералу вернулось самообладание, и он, сердито косясь на толпу, сам подошел к плахе и встал перед ней на колени. Сын палача, которому отец доверил отрубить эту знаменитую голову, поднял секиру, но по неопытности раздробил осужденному череп. По толпе пронесся вопль ужаса. Тогда палач вырвал окровавленный топор из рук сына, готового упасть в обморок, и быстро прекратил мучения генерала. Вольтер и другой знаменитый писатель, аббат Рейналь, пытались спасти если не жизнь, то хотя бы честь Лалли, доказывая, что он не был изменником. Им удалось склонить на свою сторону общественное мнение. Впоследствии сын Лалли добился пересмотра дела отца, и генерал был реабилитирован посмертно. Полковник Дюмурье В начале 1772 года в кабинет министра иностранных дел герцога д'Эгильона вошел молодой полковник среднего роста, хорошо сложенный, с открытым лицом, решительным видом и энергичной походкой. Через четверть часа герцог гневно повысил голос; полковник отвечал ему в том же тоне. Оба они поднялись с мест и подошли к дверям, вследствие чего посетители, ожидавшие своей очереди в приемной, ясно услыхали угрожающий возглас министра: – Я отправлю вас в Бастилию! – Это вы можете сделать, – невозмутимо отозвался полковник, – но воротить меня оттуда будет уже не ваше дело. С этими словами визитер вышел из кабинета. Герцог с силой захлопнул за ним дверь. Полковника звали Шарль Франсуа Дюмурье. Это имя сделалось широко известным позднее, в годы революции[33]; однако и теперь Дюмурье уже имел некоторые заслуги перед Францией. Он отличился в Семилетней войне и обратил на себя внимание герцога де Шуазеля, бывшего тогда первым министром. Командированный на Корсику, Дюмурье участвовал в кампаниях 1768 и 1769 годов, во время которых и заслужил чин полковника. (Благодаря этим войнам Корсика стала французской провинцией, а Наполеон родился подданным французского короля.) Доверие Шуазеля к Дюмурье постепенно возрастало. В 1770 году он был послан в Польшу в качестве военного инструктора и представителя Франции для поддержки восстания шляхты против России. Дюмурье составил план, предусматривающий ни много ни мало совместный польско-турецкий поход на Москву. Он сумел потеснить русские войска, но столкновение с Суворовым разрушило его планы. Все же, несмотря на постигшую Дюмурье неудачу, Шуазель не мог не отметить его незаурядного мужества и дипломатических способностей. Ссора в кабинете д'Эгильона произошло из-за того, что Дюмурье по долгу службы должен был дать ему отчет о своей поездке в Польшу, но сделал это весьма неохотно. Помимо министра иностранных дел, Дюмурье приобрел врага в лице фаворитки короля госпожи Дюбарри, которую он знал еще в то время, когда она была всем доступна; теперь, желая показать ей свое пренебрежение, он не нанес ей визита, хотя знал, что графиня владычествует, в полном смысле этого слова, над Францией. Вскоре после возвращения из Польши Дюмурье представил военному министру Монтейнару проект оказания военной помощи молодому шведскому королю Густаву III, который в 1772 году произвел государственный переворот, арестовав часть депутатов Государственного совета и введя новую конституцию, усиливавшую власть короля. Проект Дюмурье предусматривал отправку в Швецию солдат, набранных в Германии за счет Франции. Такой образ действий был совершенно противоположен политике д'Эгильона, предпочитавшего не впутывать Францию в европейские военные конфликты. Монтейнар, враждовавший с министром иностранных дел, доложил о проекте Дюмурье Людовику XV. Король, призвав к себе полковника, лично приказал ему отправиться в Гамбург и привести в исполнение свой план. К этому слабовольный Людовик добавил, что желал бы скрыть свое участие в этом деле от д'Эгильона, и потому Дюмурье должен сноситься по всем вопросам лично с военным министром. Ко времени приезда полковника в Гамбург обстановка в Швеции нормализовалась, и проект остался без применения. Тем не менее герцог д'Эгильон, узнавший о секретном поручении Дюмурье, распорядился арестовать его, чтобы нанести удар своим врагам – Шуазелю и Монтейнару, формально действовавшим без приказа короля. В октябре 1773 года Дюмурье был доставлен в Бастилию инспектором полиции д'Эмери. В мемуарах Дюмурье есть целая глава, посвященная его шестимесячному пребыванию в Бастилии. Вот как он описывает первое время своего заключения (о себе Дюмурье пишет в третьем лице). «В девять часов вечера он приехал в Бастилию и был встречен майором, старым педантом… который велел обыскать его и отобрать его деньги, ножик и даже пряжки от башмаков. По поводу пряжек арестант выразил свое удивление, на что майор тонко заметил ему, что один из арестантов сделал попытку удавиться, проглотив от пряжки шпенек. После этого прекрасного замечания майор имел, однако, неосторожность оставить ему пряжки от подвязок. Разумеется, арестант не напомнил об этом, а только спросил поужинать, так как был очень голоден. Ему ответили, что уже поздно. Тогда он попросил майора купить в соседнем трактире цыпленка. – Цыпленка! – воскликнул майор. – Да разве вы забыли, что сегодня пятница? – Вы обязаны охранять меня, а не мою совесть; я болен, потому что Бастилия – это сама болезнь. Еще раз прошу вас послать за цыпленком в трактир. Присутствовавший при этом разговоре д'Эмери уговорил майора послать в трактир, после чего арестанта отвели в его комнату. Это была большая восьмиугольная комната с одним окном, имевшая около 15 футов в ширину и, по крайней мере, 25 футов в вышину. В комнате стояла старая грязная и дрянная кровать, продавленное кресло, деревянный стол, соломенный стул и кружка. Арестованный лег и заснул. На следующее утро его разбудил ужасный грохот огромных ключей тюремщика, открывшего две толстые двери, обитые железом. Он принес арестанту на завтрак вина и хлеба и сказал, чтобы он одевался, так как комендант желает видеть его в девять часов. На вопрос его, нет ли лучшей комнаты, тюремщик отвечал, что в башне «Свободы» это самая лучшая. Изощренное варварство придумало это название для одной из башен Бастилии. Тогда, засмеявшись, он сказал тюремщику: «Мне кажется, в этом очаровательном пристанище остроумие соединено с гостеприимством». Слова эти тюремщиком тотчас были переданы начальству, причем заключенный узнал о существовании в Бастилии толстой книги, куда вносили все слова несчастных жертв министерского произвола. Должно быть, эта книга весьма курьезна». Комендант де Жюмильяк получил от короля секретные инструкции относительно Дюмурье. Людовик боялся, как бы Дюмурье не рассказал в своих показаниях об аудиенции в Версале и о личном его приказе, противоречащем политике герцога д'Эгильона (обнаружение вмешательства короля в политические вопросы грозило ему немилостью со стороны госпожи Дюбарри, действовавшей заодно с д'Эгильоном, и очень неприятным разговором с самим всесильным министром иностранных дел). Следуя этим инструкциям, комендант обошелся с Дюмурье весьма любезно, передал ему желание короля и предупредил о содержании пунктов допроса, чтобы заключенный мог к ним приготовиться. Дюмурье оказался заложником в борьбе между партией мира и партией войны при дворе. Герцог д'Эгильон избрал девизом своей политики «Мир во что бы то ни стало»; герцог Шуазель считал, что нельзя жертвовать престижем страны ради сохранения мира. Через девять дней Дюмурье позвали в залу Совета, где он застал трех комиссаров: де Сартина, Марвиля и Вилево. Комиссары надеялись узнать от Дюмурье планы партии войны и расспрашивали его, какие поручения он имел за границей от Шуазеля, Монтейнара и короля. Дюмурье как мог выкручивался, отрицая политическую подоплеку своей поездки в Гамбург и участие короля в этом деле. «Дюмурье слишком хорошо знал историю Франции, – пишет он в мемуарах, – чтобы не понять опасности подвергнуться суду чрезвычайной комиссии. Знаменитый кардинал Ришелье, двоюродный дед и кумир герцога д'Эгильона, умел делать из подобных комиссий грозное употребление; Дюмурье понимал, что необходимо принять меры предосторожности». Он заявил, что не считает комиссию законным судом и готов признать ее членов только следователями. Он потребовал также, чтобы его ответы записывались под его диктовку, чего прежде никогда не делали. На другой день Жюмильяк посвятил Дюмурье в ход событий. «Он ему передал, что… распространили в Париже слух, что… Дюмурье был отправлен в Пруссию, чтобы побудить Фридриха[34] начать войну; что герцог Шуазель был предводителем этой партии… а он, Дюмурье, главным агентом». Узник узнал также, что д'Эгильон мечтает отправить его на эшафот и что «из трех комиссаров Марвиль не держал особенно ничьей стороны, Сартин был за Дюмурье, а Вилево шел против него». «Очень довольный полученными сведениями, он вернулся к себе в тюрьму и шпилькой начертил на стене свой допрос, написав каждую фразу на разном языке и с разными сокращениями; он боялся забыть содержание своих ответов, между тем он был уверен, что при последующих допросах комиссары наверное зададут ему те же самые вопросы». Опасения Дюмурье подтвердились. Следователи действительно сделали промежуток в две недели между первым и вторым допросами, рассчитывая, что арестованный собьется в своих показаниях. Благодаря предусмотрительности Дюмурье хитрость эта не удалась. Полковник продолжал все отрицать и даже перешел в наступление, заставив занести в протокол восемь пунктов своих обвинений против герцога д'Эгильона и проводимой им политики. Спустя несколько дней у Дюмурье произошла драка с тюремщиком из-за того, что последний замахнулся на него. Дюмурье схватил полено и ударом в грудь повалил тюремщика на пол. На шум прибежали караульные и отвели Дюмурье к майору. Арестант хотел переговорить с комендантом, но майор ни за что не соглашался тревожить начальство по пустякам. Он велел Дюмурье вернуться в комнату, однако тот, схватившись за стол, заявил, что скорее даст себя изрубить на куски, чем уступит. Пришлось позвать Жюмильяка, который разобрал дело и хотел наказать тюремщика, но удовлетворенный Дюмурье выговорил для него прощение. Своим поведением полковник заставил тюремщиков уважать себя. Допросы ни к чему не привели, но Марвиль сказал Дюмурье, что тот просидит в Бастилии не менее двадцати лет. Дюмурье пожал плечами и только попросил о своем переводе в более удобную комнату. Ему отказали. Тогда он задумал так испортить свою комнату, чтобы ее вынуждены были счесть непригодной для обитания. Конечно, стены были слишком толстыми, чтобы можно было что-нибудь с ними сделать, но камин в его комнате уже несколько обвалился. Однажды ночью узник ударами лома разворотил его. «Дюмурье, кончив свою работу… вымыл как можно чище себе руки, так как они были все в крови и изранены, и в окно закричал старшему часовому, чтобы он позвал тюремщика. По приходе тюремщика он объявил, что камин разрушился…» Хитрость Дюмурье удалась благодаря снисходительности коменданта, помнившего инструкции короля. Его перевели в самую лучшую комнату Бастилии, где обыкновенно сидели самые знатные узники. – Господин полковник, – усмехаясь, сказал майор, препроводивший Дюмурье в его новое жилище, – эта комната лучшая в крепости, но она приносит несчастье тем, кто в ней живет. Коннетабль Сен-Поль, маршал Бирон, кавалер де Роган и генерал Лалли, которые в ней жили, потеряли свои головы на плахе. Это предсказание нисколько не испугало Дюмурье – он был очень доволен, что сменил помещение. Его только удивила постель, щеголеватость и удобство которой показались ему странными. Майор пояснил, что эта постель была доставлена для девицы Тирселен, любовницы короля, когда ее заключили в Бастилию. Дюмурье с любопытством перечитал надписи на стенах. Он нашел здесь имя Бирона, несколько слов, оставленных Лалли и другими узниками. Дюмурье чувствовал себя как нельзя лучше; ему доставили вещи, книги, письменные принадлежности и позволили иметь слугу. Он настойчиво просил короля назначить судебное разбирательство по своему делу. Наконец Людовик внял его просьбам и поручил парламенту закрыть расследование; оправдывая свое решение, король сказал герцогу д'Эгильону: – Он не виновен, а между тем уже давно страдает. Но распоряжения Людовика XV никогда не выполнялись его министрами более чем наполовину. Дюмурье признали невиновным, однако это привело только к смене одной тюрьмы на другую – его перевели в замок Кайен. Оставляя Бастилию, Дюмурье позаботился об облегчении участи тех, кому выпадет на долю занять его место. В каждом углу его комнаты была колонна, украшенная фигурой сфинкса, полой изнутри. Дюмурье спрятал в сфинксов бумагу, перья и чернила, налитые в раковины устриц, которые ему присылал любезный Жюмильяк. На каждой колонне он вырезал слово: «Ищите». Дюмурье был освобожден после смерти Людовика XV и отставки герцога д'Эгильона. «Таков был конец этого великого бастильского дела, – иронично замечает он в мемуарах, – которое было не что иное, как придворная интрига, где Дюмурье играл роль пажа Людовика XIV, которого секли для исправления его властелина». (Согласно фрацузскому придворному этикету, вместо провинившегося дофина секли его пажей.) Инженер Герон Инженер-географ Герон принадлежал к той многочисленной категории обедневших французских дворян, которая зарабатывала на хлеб собственным трудом. Нужда заставила его совершить опрометчивые поступки, ставшие причиной его ареста. В 1763 году закончилась Семилетняя война. Тридцативосьмилетний Герон, составлявший планы фортификационных сооружений для французской армии, оказался не у дел. В поисках заработка он написал прусскому королю Фридриху II письмо, в котором предлагал ему купить планы и чертежи нового способа установки мин. Понимая, что власти могут не одобрить его сношений с недавним врагом Франции, Герон отдал письмо одному знакомому, ехавшему в Англию, с тем чтобы тот отправил его в Берлин из Лондона. Вскоре Герона посетил агент прусского короля Жансон. Инженер показал ему те документы, о которых писал, и запросил за них 50 луидоров. Жансон снесся с Фридрихом и получил распоряжение не давать за чертежи больше 40 луидоров. Герон стал торговаться, и король в конце концов согласился на его цену с условием, что отставной картограф уговорит известных инженеров Туперта и Миннеро перейти на прусскую службу, – видимо, они были нужны Фридриху для практического применения изобретения Герона. Последний написал своим коллегам письмо, уговаривая их ехать в Пруссию, и получил от Фридриха деньги. Ободренный успехом, Герон вступил в переписку с другими европейскими монархами и правительствами. Он предлагал Австрии использовать его знания и опыт для постройки биржи в Будапеште и для осуществления надзора за строительством мостов, гаваней и т. д.; Голландии – приобрести у него для гравировки составленные им географические карты; испанскому послу – «Трактат о подземной войне»; Дании – чертежи нового лафета для пушек. Но Герон не успел воспользоваться плодами своей предприимчивости. 21 декабря 1764 года его арестовали и посадили в Бастилию. Его выдал секретарь одного инженера, чьими услугами он пользовался. Горе-изобретателя обвинили в государственной измене. Он даже и не думал защищаться и сразу признал себя виновным; единственное оправдание, которое он приводил в надежде на помилование, было то, что не злой умысел, а нужда и бедность заставили его поступить так неосторожно. В тюрьме он написал письмо на имя одного знакомого трактирщика, чтобы тот передал его «известной особе», вхожей в Версаль. Герон просил эту особу уговорить герцогиню Беррийскую признать его своим инженером, иначе, писал он, «если дело не удастся, тогда прощай жизнь, – она висит на волоске! Если Вы узнаете, что мне исходатайствовано прощение, то приходите в понедельник вечером в восемь или девять часов, я буду слушать в ту сторону, где стоят инвалиды у ворот Святого Антония, и в таком случае прокричите пять или шесть раз «Аллилуйя» или засвистите; если же я не прощен, то прокричите четыре или пять раз: «Прощай, флибустьер!» – и тогда вы можете через два или три дня присутствовать при моих похоронах в церкви Св. Павла». Из последних слов можно предположить, что Герон хотел в случае неудачного исхода ходатайства покончить с собой. Впрочем, письмо не дошло до адресата, так как было перехвачено тюремщиками. 14 апреля Герона перевели в Бисетр, где через полгода он лишился рассудка. По его делу не вынесли никакого решения. Он находился в заключении до 28 декабря 1783 года, когда был выпущен на свободу, видимо, в связи с улучшением здоровья. Выйдя из Бисетра, Герон требовал вернуть ему его чемодан, набитый чертежами, – единственное его достояние, но это оказалось невозможно, так как незадолго до его освобождения комиссар Шенон распорядился сжечь чемодан со всеми бумагами, которые за долгие годы истлели и издавали зловоние. В Бастилию – по собственному желанию В 1765 году в Бастилии содержался странный узник, обвинивший сам себя в намерении совершить страшное преступление. Его звали Меркур. В письме кардиналу Жеврскому он добровольно признался, что охвачен неодолимым желанием убить короля, и потому покорнейше просит, чтобы его взяли под стражу и тем самым не дали привести в исполнение ужасный умысел. Кардинал немедленно сообщил обо всем в полицию, и Меркура посадили в Бастилию, где он на досуге обстоятельно описал свою жизнь. В его судьбе поражает какая-то безысходная неприкаянность. Успешно окончив обучение, Меркур юношей прибыл в Париж, где быстро издержался. Чтобы поправить дела, он украл у зятя, в доме которого остановился, 52 луидора и бежал в Безансон, где епископ Грамон предоставил ему приход с 600 ливрами годового дохода. Новоиспеченный священник и тут не удержался от соблазна, вступив в связь с дочерью местного аптекаря, которая забеременела от него. Эта неприятность заставила Меркура бросить приход и завербоваться в полк, квартировавший рядом с поместьем маркиза Биссе, брата кардинала Жеврского. Меркур ежедневно обедал у маркиза и познакомился здесь с его любовницей. Через некоторое время она перестала быть ему чужой, но выяснилось, что у коварной сердцеедки есть еще и третий любовник – некий кавалерийский поручик. Меркур узнал о его существовании, когда получил от него вызов на дуэль (к маркизу Биссе поручик почему-то не ревновал). Они дрались на шпагах, затем стрелялись на пистолетах, в результате чего поручик был опасно ранен. Скрываясь от судебного преследования, Меркур вновь очутился в Париже. Здесь он немедленно спустил все деньги и, не зная, что делать дальше, продал посуду, которую ему передал на хранение один трактирщик. За это, по жалобе последнего, Меркур четыре года провел в тюрьме. Потеряв надежду получить освобождение законным путем, он бежал из тюрьмы вместе с сокамерником и в течение месяца скрывался у одной знакомой, пока отец не прислал ему денег. Аббат Бофремон, принимавший участие в его судьбе, дал ему рекомендательное письмо к прусскому генералу Вальбургу – так Меркур снова стал солдатом. Через три месяца он был произведен в поручики, но затем, уже который раз, Меркур своими руками сломал свою карьеру. Повздорив с одним офицером, насмехавшимся над его немецким произношением, Меркур вызвал его на дуэль и продырявил ему живот. Следствием дуэли был новый побег. На этот раз соучастницей Меркура стала племянница канцлера, госпожа Маршал, желавшая выйти за него замуж во Франции. За беглецами послали погоню. Во время одного из привалов, когда Меркур пошел в ближайшую деревню за свежими лошадьми, преследователи обнаружили укрытие госпожи Маршал и увезли ее. Не найдя по возвращении из деревни своей возлюбленной, Меркур не стал утруждать себя ее поисками и продолжил путь один. Вернувшись во Францию, он осел в Провансе, где женился и получил место откупщика, приносившее ему 8 тысяч ливров годового дохода. Но жена его умерла, выгодная должность была отобрана… Эти удары судьбы, вероятно, лишили его рассудка, что и явилось причиной самодоноса. Или, может быть, 68-летний Меркур искал себе под старость надежное убежище, где бы он не умер от голода? Доставленный в Бастилию в 1765 году, он пробыл там не более года, затем был переведен в Венсен, где и умер от водянки в декабре 1775 года. Дела семейные Аресты и заключения в Бастилию и другие тюрьмы производились на основании тайных приказов короля (lettres de cachet). Тайные приказы, известные во Франции с XIV века, заменяли собой решение суда и лишали осужденного права апелляции. В отличие от прочих королевских указов, писавшихся на пергаменте и скреплявшихся большой королевской печатью и подписью монарха, тайные приказы писались на бумаге и скреплялись малой королевской печатью. Король редко подписывал тайные приказы, и чаще всего их выдачей распоряжались министры, фавориты и фаворитки, что, конечно, приводило к ужасающим злоупотреблениям. Пик произвольной раздачи министрами тайных приказов пришелся на царствование Людовика XV, когда ими стали даже торговать. Мишле в своей знаменитой «Истории революции» пишет: «Все это делалось из любезности. Король был слишком добр, чтобы отказать какому-либо вельможе в тайном приказе. Заведующий делами был столь любезен, что не считал возможным отказать даме в ее просьбе. Чиновники министерств, их содержанки и друзья этих последних, желая быть вежливыми и обязательными, получали, раздавали и одалживали эти ужасные приказы, из-за которых людей погребали заживо». Рамбо в своей «Истории цивилизации Франции» подтверждает слова Мишле: «Таким образом лица, получавшие чистые бланки тайных приказов, вписывали туда имена своих личных врагов, соперников, кредиторов. В царствование Людовика XV эти приказы можно было купить за деньги. Министр Ла Врийер продавал их через графиню де Лонжак; он дошел даже до того, что продавал их через своих слуг, так что за 25 луидоров можно было засадить кого угодно в Бастилию». Этот же министр каждый Новый год рассылал своим друзьям, в виде подарка, по пять-шесть чистых бланков тайных приказов, чтобы дать им возможность избавиться от своих врагов, нажитых ими за год. Даже Вольтер, противник произвола и самовластия, сам просил о выдаче тайного приказа. Этот случай не столько скандален, сколько курьезен. Поскольку он касается бытовой ссоры, где, как известно, трудно бывает найти виновника, то, чтобы не бросать тень на великого писателя, ограничимся пересказом фактов, как они изложены историком Ф. Брентано, много работавшим с бастильскими архивами. По возвращении из Англии Вольтер поселился в доме на улице Вожирар, около ворот Сен-Мишель. 16 августа 1730 года начальник полиции Жиро получил прошение, подписанное двенадцатью лицами, среди которых значилось и имя Вольтера; в прошении излагалась жалоба на скандальное поведение домовладелицы госпожи Себастьяны де Травер и просьба о заключении ее в тюрьму по королевскому приказу. Прошение написано рукой Вольтера. Донесение пристава Леконта, уполномоченного расследовать это дело, не было благоприятно для госпожи Травер, но в нем указывалось, что обвиняемая имеет, в свою очередь, право жаловаться на дурное обращение с ней соседей, так как «она сама показывала приставу на своих руках синяки, которые, по ее словам, произошли от полученных ею ударов». Три дня спустя госпожа Травер явилась к приставу Леконту с жалобой на кухарку и слуг Вольтера, которые в ее же квартире напали на нее, сорвали с головы чепец, разорвали его и чуть не убили ее саму; по ее словам, Вольтер лично присутствовал при экзекуции, «всячески ее поносил и угрожал застрелить ее из пистолета, когда она около двух или трех часов утра будет выходить из дома в город за покупками» (госпожа Травер была торговкой требухой и выходила рано утром купить на аукционе оптовую партию требухи, которую распродавала в течение дня). 27 сентября она снова явилась к приставу. На этот раз причиной ее прихода было то, что она узнала о стараниях соседей получить тайный приказ на ее арест. «Они ложно обвиняют меня, – говорила она, – будто бы я в пьяном виде подожгла дом, между тем как известно, что это сделал Вольтер, что нетрудно доказать; не будучи в состоянии до сих пор достигнуть своей цели, они… пускают в ход все средства, чтобы сделать мне неприятность». Между тем Вольтер беспрестанно навещал начальника полиции и засыпал его письмами. Благодаря этим настойчивым посещениям пришлось принять жалобу на госпожу Травер. В архиве полицейского управления хранится справка, в которой собраны все проступки, вмененные ей в вину; на полях этой справки написано, вероятно, начальником полиции: «При первой новой жалобе-в тюрьму!» Новая жалоба не замедлила появиться, – конечно, не без участия Вольтера, который известил полицию, что госпожа Травер – развратная женщина, она напивается, ругает прохожих и, прибавляет атеист Вольтер, порочит «святое имя Бога». Это бумага была подписана Вольтером и восемью другими жильцами; кроме того, знаменитый писатель отправил короткое, но весьма настойчивое частное письмо начальнику полиции. Тайный приказ был наконец получен, и 6 декабря 1730 года госпожу Травер заключили в Бастилию. Через несколько дней из показаний сестер и соседей торговки выяснилось, что «некоторые из ее жильцов, будучи ей должны и не желая платить, стали ее угнетать». Сама госпожа Травер не отразила такой мотив ее «угнетателей» в своих заявлениях полиции, но, как бы то ни было, начальник полиции счел себя обманутым Вольтером и К° и 31 декабря того же года освободил заключенную. Здесь надо заметить, что большинство выданных тайных приказов карали вовсе не государственных преступников. За исключением периодов массовой охоты за янсенистами и конвульсионерами, основную массу заключенных Бастилии составляли люди, отправленные туда по так называемым «семейным тайным приказам». Последние характеризуют эпоху абсолютизма с особенной стороны и позволяют заглянуть в глубь того общества, которое вскоре было разрушено как несоответствующее идеям разума и свободы. Из огромного множества «семейных тайных приказов» здесь возможно привести лишь самые любопытные и характерные. Дюрю в «Очерке по истории Франции» рассказывает забавный анекдот про одну женщину, желавшую засадить в Бастилию своего мужа; «последний возымел ту же самую мысль, и, таким образом, в один день оба попали в Бастилию». В конце 1750 года начальник полиции Берье получил несколько жалоб от Марии Адрианы Пети, жены Франсуа Оливье, имевшего на улице Графини Артуа галантерейный магазин. Молоденькая швея Мария Буржуа появилась в их семье и своими розовыми пальчиками перевернула там все вверх дном. Госпожа Оливье заметила, что муж стал ее избегать и подчас даже ругать; покупатели мало-помалу перестали посещать магазин, так как хозяин почти не появлялся там; наконец, все семейные сбережения тратились господином Оливье на молоденькую кокетку, которой он ни в чем не мог отказать. Начальник полиции послал к Марии Буржуа частного пристава Гримпереля. Пристав говорил с ней внушительным тоном и закончил свою речь запрещением девушке отныне посещать дом четы Оливье. Выслушав все это, хорошенькая швея рассмеялась очень громко, но так мило, что пристав не смог на нее рассердиться. Отношения между господином Оливье и Марией Буржуа продолжались по-прежнему. Между тем Берье не желал прибегать к крайним мерам, ему хотелось образумить влюбленных более мягкими средствами. Он написал священнику того прихода, где жила Мария Буржуа, прося его вмешаться; но оказалось, что предусмотрительная швея, предвидя такой ход полиции, сменила адрес и приход. В мае поступила новая жалоба страдающей супруги. «Сжальтесь, – писала она, – посадите в тюрьму Марию Буржуа». Однако Берье решился провести новое расследование лишь после следующей жалобы госпожи Оливье, которая гласила: «Муж мой со дня на день собирается покинуть Париж; содержанка его уже отказалась от занимаемой ею комнаты». 15 июля 1751 года Мария Буржуа была арестована и мир в семье восстановлен. Случаи, подобные вышеизложенному, наиболее часты. Любопытно, что обыкновенно при этом наказывался не неверный супруг, а особа, нарушившая семейное счастье. Если же в тюрьму отправляли одного из супругов, то и здесь соблюдалась интересная закономерность: хотя вообще мужу было гораздо легче достать тайный приказ на арест своей жены, чем жене – на арест мужа, но тайные приказы, выданные против мужей, встречаются чаще. «Это потому, – поясняет министр Малесерб, – что о них хлопотали с наибольшими стараниями». Королевская власть вторгалась в дела семей даже тогда, когда в них не происходило публичного скандала. Молодой герцог Фронзак, сын герцога Ришелье, был посажен в первый раз в Бастилию на том основании, что не любил свою жену. Красивый молодой человек был вынужден просидеть несколько недель в мрачном уединении, как он сам об этом пишет, а на самом деле – в обществе аббата, без умолку толковавшего ему о его супружеских обязанностях. Видимо, увещевания святого отца, а всего скорее тюремные стены произвели нужное впечатление: когда внезапно двери тюрьмы отворились и к Фронзаку вошла хорошенькая и грациозная супруга, он воскликнул: «Прекрасный ангел, спустившийся с неба, чтобы освободить св. Петра, не был так лучезарен, как ты!» Начальник полиции д'Аржансон с полицейским юмором рассказывает в одном рапорте подобную же историю: «Молодая женщина по имени Бодуен громогласно заявила, что никогда не будет любить своего мужа и что каждый волен располагать своим сердцем по своему желанию. Нет такой дерзости, которой она бы не сказала своему мужу; последний был от этого в совершенном отчаянии. Я говорил с ней два раза, и, несмотря на то, что в продолжение многолетней моей практики я успел привыкнуть к смешным и безрассудным речам, все же я был поражен теми доводами, на которых эта женщина основала свои убеждения: ими она живет, с ними же и умрет и скорее лишится рассудка, чем отступится от них; она говорит, что лучше сделается гугеноткой или монахиней, чем будет жить со своим мужем. После таких безрассудных слов я вначале думал, что она сумасшедшая; к сожалению, она не была столь очевидно сумасшедшей, чтобы на этом основании ее можно было посадить в тюрьму; она была даже довольно умна, и я надеялся, что, проведя два или три месяца в тюрьме Рефюж, она поймет, что такой образ жизни еще печальнее, нежели жизнь с нелюбимым мужем. К тому же этот последний был столь покладистого характера, что соглашался обходиться без ее любви, лишь бы она вернулась и не говорила ему ежечасно, что ненавидит его, как черта. Но жена отвечала, что не умеет лгать, что именно в этом и заключается честь женщины, а все остальное пустяки и что если ей придется оказать мужу хоть каплю нежности, то она наложит на себя руки». В 1722 году парижский буржуа Никола Корний возвратился после продолжительного морского путешествия к себе домой. Веселый и счастливый пришел он к своей жене, которая встретила его следующими словами: «Если вы думаете выдавать себя за моего мужа, то это очень глупая шутка». Несмотря на упорные просьбы мужа, она отказала ему не только в его супружеских правах, но и в правах собственности на его состояние. Последнее было особенно тяжело для Никола Корния, и он испросил тайный приказ, чтобы образумить жену. Молодая женщина Анна Луиза Беш, потеряв мужа, нашла в своей скорби утешение, о котором легко догадаться. «Прекрасное утешение», – говорила она. Мать написала начальнику полиции: «Моя дочь позорит нашу семью». Письмо было подписано многими лицами, в том числе и священником этого прихода. Полиция произвела расследование, и, поскольку жалоба подтвердилась фактами, Анна Луиза была брошена в тюрьму. Просьба отца о выдаче тайного приказа отклонялась в редких случаях. «Авторитет отца, – пишет один чиновник, – является совершенно достаточным, потому что нельзя предположить, чтобы дружба и сострадание отца могли иметь какое-либо предубеждение». Опасения увидеть своих детей идущими по дурной дорожке были вполне достаточным основанием для получения тайного приказа. Один адвокат посадил в Бастилию своего сына, чтобы тот не обесчестил всю семью, сделавшись актером; один актер, в свою очередь, отправил туда же своего отпрыска, который не хотел следовать занятию отца. Иногда родители приводили еще более удивительные доводы. Так, некая госпожа Леблан настаивала на том, что желает жить со своим мужем, потерявшим состояние. «Она настаивала на этом с таким упорством, – читаем в полицейском расследовании, – что даже духовник не мог ее переубедить». Мать этой женщины упрятала ее в тюрьму. «С глубокой скорбью, – пишет она, – смотрела я на судьбу моей дочери; действительно, ужасно быть лишенной свободы только из-за слишком большой привязанности к своему мужу». Остается только согласиться с сострадательной матерью. Одним из наиболее часто встречавшихся доводов, приведенных главами семей в прошениях о выдаче тайного приказа, были опасения, чтобы сын или какой-либо другой родственник не вступили в неравный брак. В этом случае заурядный сапожник или торговка выказывали не меньше спеси и жестокосердия, чем высокопоставленные особы. «Выдать семье тайный приказ, – пишет один министр, – препятствующий какой-нибудь вдове предаться своей минутной фантазии, то есть сделать дурную партию, было со стороны короля лишь актом правосудия». Правительство и общество взаимно развращали друг друга: одно – чиня произвол, другое – используя этот произвол в своих интересах. Тайные приказы проклинали и одновременно клянчили их. Дело дошло до того, что Малесерб, который в качестве министра двора и управителя парижским департаментом особенно внимательно занимался всем, что касается тайных приказов, писал Людовику XVI в 1789 году, за несколько недель до революции: «В Париже нет ни одной семьи, за исключением разве семейств самых строгих судей, не прибегавшей к тайным приказам, которые, таким образом, как бы заменяют собой обыкновенное правосудие». Писатели в Бастилии Остается упомянуть еще об одной, весьма многочисленной категории заключенных при Людовике XV. «Во времена кардинала Флери, – пишет Лагарп, – в знаменитом замке находились почти исключительно писатели-янсенисты; затем в него помещали поборников философии и тайных авторов памфлетов». Пишущей братии попасть в Бастилию было легко – достаточно было написать или пропеть сатирический куплет против какой-нибудь фаворитки или министра. Пикардийский дворянин, капитан пьемонтского полка де Тарси, провел в крепости двадцать два года за то, что распространял неприличную песенку о маркизе Помпадур; в тюрьме он сошел с ума и тем не менее продолжал отбывать свое наказание. Писатель де ла Пламбанье написал ироническую книгу «Что нам делать с иезуитами?». Перебрав все возможные и невозможные способы сделать святых отцов полезными обществу, он закончил предложением королю стать главой ордена Иисуса. После ареста (1762) он оправдывался тем, что просто хотел при помощи веселой книги заработать немного денег. Пламбанье легко отделался: многие знатные особы, знавшие его, выхлопотали ему прощение. Впрочем, не всем писателям Бастилия запомнилась в мрачном свете. Известный писатель Мармонтель, отправленный туда за оскорбление герцога д'Омона, весьма недурно провел там время. «Я спокойно слушал репетицию оперы «Амадис», – пишет он в мемуарах, – как вдруг мне сказали, что весь Версаль пылает на меня гневом, что меня обвиняют в сочинении сатиры на герцога д'Омона, что высшее дворянство требует мщения и что герцог де Шуазель во главе моих врагов». Получив это известие, Мармонтель тотчас возвратился домой и написал герцогу письмо, в котором уверял его, что никогда не занимался сатирами (это было чистейшей правдой), а если бы и занялся, то, уж конечно, начал бы не с него. Это письмо герцог счел за новое оскорбление и показал его королю. Двор еще более вознегодовал. Мармонтель приехал в Версаль и встретился с герцогом Шуазелем. Писателю удалось убедить министра, что он не автор сатиры, оскорбившей честь герцога, и виновен лишь в том, что продекламировал ее в кругу знакомых, где все говорили откровенно, без стеснения. – Я вам верю, – сказал герцог Шуазель, – но все-таки вы будете заключены в Бастилию. Отправляйтесь к министру Сен-Флорентину, ему король выдал приказ на ваш арест. – Я отправлюсь туда, но могу ли я льстить себя надеждой, что вы более не будете в числе моих врагов? Шуазель обещал ему это, и Мармонтель направился к Сен-Флорентину. «Этот человек, – пишет он, – был ко мне доброжелателен и легко убедился в моей невиновности. «Но чего же вы хотите? – сказал он мне. – Герцог д'Омон обвиняет вас и желает, чтобы вас наказали. Он требует этого удовольствия в награду за свою службу и за службу своих предков, и король на это согласился. Отправьтесь к де Сартине, я отошлю к нему королевский приказ». Мармонтель спросил, «может ли он предварительно отправиться обедать в Париж, на что Сен-Флорентин согласился». Начальник полиции Сартине отнесся к писателю не менее сердечно, чем остальные. – Когда мы с вами вместе обедали у барона Гольбаха, – сказал он Мармонтелю, – кто бы мог предвидеть, что при следующей нашей встрече я буду вынужден отправить вас в Бастилию. Предоставим далее слово самому Мармонтелю. «Я встретил у господина Сартине, – рассказывает он, – полицейского, который должен был отвезти меня в Бастилию. Господин де Сартине предложил, чтобы мой провожатый ехал в отдельном экипаже, но я отклонил это любезное предложение, и в одном экипаже мы прибыли в Бастилию. Комендант со своим штабом принял меня в зале Совета, и там я заметил, что данная касательно меня инструкция была для меня благоприятна. Комендантом был господин Абади. Прочитав бумаги, врученные ему полицейским, он спросил меня, хочу ли я, чтобы мой слуга остался при мне, но с условием, что мы будем жить в одной комнате и он должен будет оставаться в тюрьме до тех пор, пока я не буду выпущен оттуда. Моего слугу звали Бюри. Я с ним об этом переговорил, и он сказал, что желает остаться при мне. Тогда слегка осмотрели мои вещи и мои книги и отвели меня в просторную комнату, в которой вся мебель состояла из двух кроватей, двух столов, шкафа и трех соломенных стульев. Было холодно, но тюремщик развел огонь и принес много дров. В то же время мне дали перьев, чернил и бумаги, но с условием, чтобы я дал отчет в том, как я их употребил и сколько листов бумаги мне было выдано. В то время, когда я собирался писать и устроил для этого свой стол, сторож опять вошел и спросил у меня, доволен ли я своей кроватью. Рассмотрев ее, я сказал, что тюфяки нехороши и одеяла грязны. Тотчас же все это переменили. Меня велено было спросить, в каком часу я обедаю. Я отвечал, что обедаю в то же время, когда обыкновенно обедают все. В Бастилии была библиотека, и комендант прислал ко мне каталог этой библиотеки, предлагая выбрать какое-либо из сочинений, входивших в ее состав. Я этим не воспользовался, но мой слуга попросил романы Прево и ему принесли их. Что касается меня, то у меня было чем разогнать свою скуку. Давно досадуя на презрение, с которым ученые относятся к поэме Лукана, которую они не читали в подлиннике, но с которой знакомы только по варварскому и напыщенному переводу Бребефа, я решился перевести эту поэму прозой более точным и более приличным образом. Эта работа, которая заняла меня, не утомляя головы, была наиболее подходящим трудом для моего тюремного досуга. По этой-то причине я взял с собой эту поэму и, чтобы лучше понять ее, захватил с собой и комментарии Цезаря. И вот я очутился у пылающего камина, погруженный в размышления о распре Цезаря с Помпеем и забыв о моей ссоре с герцогом д'Омоном. Со своей стороны и Бюри, столь же философ, как и я, занялся приготовлением наших постелей, расположенных в двух противоположных концах комнаты, освещенной зимнем солнцем, несмотря на крепкую железную решетку в окне, через которую я видел Сен-Антуанское предместье. Через два часа после того я был выведен из своей глубокой задумчивости сторожами, отворившими двери моей комнаты и принесшими обед, который они молча поставили. Я думал, что этот обед предназначается мне. Один из этих сторожей поставил перед камином три небольших блюда, покрытых тарелками из простого фаянса, а другой разостлал скатерть, хотя немного грубую, но чистую, на одном из столов, который был свободен. Он поставил на этот стол бутылку вина, довольно чистый прибор и положил оловянную ложку, оловянную вилку и хорошего домашнего хлеба. Исполнив свою обязанность, сторожа удалились, заперев за собой опять обе двери моей комнаты. Тогда Бюри пригласил меня сесть за стол и подал мне суп. Это было в пятницу, а потому суп был постный. Это было пюре из белых бобов с самым свежим маслом. Кроме того, Бюри подал блюдо этих самых бобов. Я нашел, что все это очень вкусно. Еще вкуснее было кушанье из трески, приправленное немного чесноком. Вкус и запах были так пикантны, что могли удовлетворить самого взыскательного гасконца. Вино было не из лучших, но сносное. Десерта не было, но ведь надобно же было терпеть какое-либо лишение. В заключение я нашел, что в тюрьме обедают очень хорошо. Когда я встал из-за стола, а Бюри собирался сесть, за обед (для него было еще чем пообедать от того, что осталось после меня), – вдруг оба мои сторожа входят ко мне с пирамидами блюд. По великолепию принесенного сервиза, по прекрасному белью, по прекрасному фаянсу, по серебряным ложке и вилке мы увидели, как мы ошиблись, но скрыли, какой мы сделали промах. Когда сторожа удалились, Бюри сказал мне: «Сударь! Вы съели мой обед, согласитесь, чтобы я в свою очередь съел ваш». «Это справедливо», – отвечал я ему. Мы засмеялись, и я думаю, что стены моей комнаты были очень удивлены, услышав смех. Обед был скоромный, несмотря на пятницу. Вот из чего состоял этот обед; превосходный суп, кусок сочной говядины, ножка вареного каплуна, покрытая жиром, и сочные жареные артишоки с маринадом, шпинат, чудесная груша, виноград, бутылка старого бургундского вина и самое лучшее кофе мокко. Этот обед Бюри съел, за исключением фруктов и кофе, которые он оставил мне. После обеда ко мне пришел комендант и спросил меня, доволен ли я пищей, и обещал мне посылать ее от себя, уверяя, что сам будет отрезать на мою долю и что никому не позволит распоряжаться этим. Он предложил мне к ужину курицу: я поблагодарил его и сказал, что мне достаточно к ужину тех фруктов, которые остались от обеда. Таков был мой повседневный стол в Бастилии. Из этого видно, с какой снисходительностью со мной обходились или, вернее, как неохотно меня карали для удовольствия герцога д'Омона. Комендант ежедневно навещал меня, и так как он имел кое-какие сведения по части словесности и даже знал латинский язык, то следил за ходом моей работы и это ему доставляло удовольствие, но он позволял себе это развлечение лишь на короткое время. «Прощайте, – говорил он мне, – я иду утешать людей, которые несчастнее, чем вы». Судя по тому, как со мной обходились в Бастилии, я имел основание думать, что меня недолго в ней продержат. Мне не приходилось там много скучать, так как я продолжал мою работу и имел интересные книги (у меня были Монтень, Гораций и Лабрюйер). Наконец на одиннадцатый день я был освобожден». В 1753 году в Бастилию попал писатель Ла Бомель. Этот молодой, талантливый литератор, неразборчивый в средствах и жаждавший славы и денег, переиздал без ведома Вольтера его книгу «Век Людовика XIV», присвоив всю вырученную от продажи сумму. Помимо нарушения прав собственности, Ла Бомель снабдил это издание своими примечаниями, большей частью сатирического и клеветнического характера: он проводил ту мысль, что великий король был весьма ограниченный правитель, а великий писатель Вольтер является просто ловким компилятором. Вольтер, обкраденный и оскорбленный разом, возмутился; но, к сожалению, он вступил в полемику с Ла Бомелем так горячо, что вскоре заставил публику забыть о том, кто кому нанес первую обиду. Неловкость положения Вольтера усугублялась тем, что Людовик XV, как наследник Людовика XIV, счел себя также задетым комментариями Ла Бомеля: король справедливо решил, что этак ведь можно дописаться, что и он – посредственный монарх. Нападки Вольтера на молодого писателя привлекли внимание полиции к сочинению последнего; его образ мыслей сочли опасным, и Ла Бомель очутился в Бастилии. Таким образом, Вольтер невольно оказался в роли литературного доносчика. В тюрьме Ла Бомель вел дневник, любопытные отрывки из которого будет нелишне здесь привести. «Я был арестован 24 апреля в 10 часов утра. После вежливого осмотра моих бумаг, продолжавшегося два часа, следователи на время ушли, и я мог бы еще скрыться куда-нибудь, но для полной безопасности следовало оставить Францию, а я хочу в ней жить и в ней умереть». «Вид Бастилии не произвел на меня потрясающего впечатления, и я не потерял присутствия духа. Отправляясь туда из дома, я утешал своих слуг; в карете по дороге туда из дома я, сохраняя полное хладнокровие, вел занимательный разговор с полицейским офицером. Я не унизил себя трусостью и, входя в мрачные двери, вполне владел собой. В самой тюрьме я занялся чтением на стенах имен моих предшественников и первый день заключения меня вовсе не тянуло к окну. Я глубоко сознавал, что в силу тайного повеления об аресте можно заключить в Бастилию самого добродетельного человека. Я за собой не знал никакой вины, я знал, что только безрассудство побудило моих врагов употребить против меня это насилие, и одного этого убеждения было достаточно для того, чтобы я спокойно переносил свои невзгоды». «Мне пришло в голову, что если б составлять в Бастилии газету, она вышла бы крайне интересной. И какой богатый материал она могла бы соединить в себе: ощущения заключенных, их мысли, их планы, их игры, забавы, перемены в образе мыслей, которым они подвергаются вследствие заключения; их стремление общаться друг с другом, их несчастья, жажда свободы; все это послужило бы великолепным материалом для множества интересных статей, знакомящих с человеческим умом и сердцем». «Человек еще не совсем несчастлив, если он может думать о хорошем, прекрасном и справедливом». «Я не могу здесь делать добро, но, по крайней мере, могу его желать тем, кто преследует меня. Господи, возврати мне свободу и сделай Вольтера честным человеком!» «30 апреля гг. Рошебрюн и Дюваль (полицейские следователи. – С. Ц.) пришли проведать меня и снова пересмотреть мои бумаги. Они меня закидали тысячами вопросов и наговорили кучу любезностей, отрекомендовали меня майору и принесли от своего начальника слова мира, возбудившие во мне новые надежды.» «Что могу обещать я г. д'Аржансону? – Что буду и впредь вести себя столь же разумно, как вел с тех пор, как дал ему в том обещание. Но к чему поведет мое благоразумие? Чем я гарантирован, что меня не ждет еще худшая участь? В стране, где действует произвол, никогда нельзя быть уверенным в собственной безопасности». «Мальчик, который мне служил, должен любить меня, так как я даю ему каждый день бутылку вина. Но если жажда будет мучить меня и я не отдам ему этой бутылки, он подумает, что я виновен против него в открытом грабеже». Ла Бомелю было в то время двадцать шесть лет, он обладал незаурядным умом, его стиль был сжат и чист, он искусно владел парадоксом. На сей раз этот ум не погас в стенах тюрьмы – Ла Бомеля выпустили через полгода. Однако Вольтер не простил ему его непочтительности и преследовал всю жизнь, нападая на него в стихах и прозе и называя педантом, бездельником и нищим. Ненависть знаменитого писателя не утихла и тогда, когда Ла Бомель издал «Мемуары госпожи де Ментенон» – сатиру, направленную против злоупотреблений правительства, и был за это вновь заключен в Бастилию – теперь уже надолго. В Бастилию сажали не только писателей, но и книги, которые казались правительству опасными; королевский приказ, по которому книги препровождались в крепость, писался таким же образом, как и обыкновенные приказы. Книги помещались в каземат рядом с башней Казны. В 1733 году начальник полиции просил коменданта Бастилии принять во вверенный ему замок «все инструменты тайной типографии, помещавшиеся в одной из комнат аббатства Сен-Виктор; означенные инструменты прошу вас поместить в склад Бастилии». Когда те или иные книги переставали внушать опасения, их освобождали. Так, знаменитая «Энциклопедия» Дидро и д'Аламбера появилась на прилавках лишь после нескольких лет заточения. Глава седьмая Бастилия при Людовике XVI Последние годы Бастилии Вступление в 1774 году на французский престол Людовика XVI было встречено всеобщей радостью. От нового короля ждали реформ, и он пошел навстречу ожиданиям. Первые же действия Людовика XVI подняли авторитет власти: он восстановил Парижский парламент и провозгласил режим строгой экономии. Через год в Северной Америке началась Война за независимость английских колоний. Людовику XVI постоянно твердили, что он обязан помочь американцам добыть свободу, и король направил к берегам Северной Америки французскую эскадру с десантом для поддержки восставших. По мнению всех, такое начало предвещало царствование, стоящее на высоте идей своего времени. (Правда, поддержка Людовиком XVI североамериканских колоний объяснялась естественным желанием нанести удар Англии, а вовсе не сочувствием к идеям Франклина, чей портрет король распорядился нарисовать на дне своего ночного горшка.) Между Людовиком XVI и его предшественником была та разница, что Людовик XV, видя зло, не хотел его искоренить, а Людовик XVI, чистосердечно желавший исправить злоупотребления, не видел и не понимал их причин. Того, что Людовик XVI сделал для свободы Североамериканских штатов, он не сумел сделать для своего народа. Окружение короля вскоре воспротивилось всяким реформам. Те же самые люди, которые побуждали Людовика XVI вступиться за угнетенных в другом полушарии, удерживали его, когда он хотел облегчить участь своих подданных. Королевская власть вновь была подменена министерским произволом. Этому способствовал характер Людовика XVI, по натуре добропорядочного буржуа, больше всего на свете любившего охоту и слесарное ремесло (день, прожитый без охоты, король считал потерянным и помечал такие дни в своем дневнике одним словом: «Ничего»). В результате, когда революционные события потребовали решительных действий, Людовик XVI не нашел в себе сил ни для сопротивления, ни для уступок: первое было не в его характере, против вторых возражали принцы и аристократы, группировавшиеся вокруг королевы Марии Антуанетты. Людовик XVI не любил подписывать тайные приказы; он изменил этому правилу лишь во время знаменитого процесса об ожерелье королевы. И все же при нем Бастилия не пустовала, ибо министры короля продолжали пользоваться этим королевским замком в своих личных целях. Правда, они уже не смели действовать с такой наглостью, как министры Людовика XV, но все же аресты и заключения без суда и за самые ничтожные проступки продолжались. Граф Шавен, бывший прежде пажом, а потом адъютантом принца Конде, поспорил с министром Морепа и был заключен им за это в Бастилию. В крепости его посетил начальник полиции Ленуар, который обещал графу свободу, в случае, если он согласится поселиться в двадцати лье от Парижа. – Как осмеливаетесь вы предлагать мне такое унижение? – сказал возмущенный Шавен. – Нет, сударь, уж если я и попал сюда по капризу господина Морепа, то, выйдя отсюда, я хочу пользоваться полной свободой и жить там, где мне вздумается. Ленуар счел себя оскорбленным таким ответом и с тех пор сделался врагом Шавена. Пока он оставался в должности начальника полиции, все хлопоты родных графа о его освобождении наталкивались на непреодолимые препятствия. Но едва Ленуар оставил полицейское управление, Шавена сразу освободили; правда, это произошло в 1787 году – через одиннадцать лет после его ареста. Правительство часто сажало в Бастилию авторов проектов, которые почему-либо были признаны опасными. Несколько примеров покажут читателю, каковы были эти неблагонамеренные прожектеры. Гаспар Губенталь несколько раз попадал в Бастилию за представленные им финансовые проекты, которые не нравились министру финансов. В 1776 году Бурдон де Планш представил правительству проект перевозки почты на дилижансах. Министр Тюрго предпочел его проекту проект Бернара. Тогда де Планш опубликовал свой проект, чтобы публика смогла оценить его достоинства. За это де Планша упрятали в Бастилию. Пелиссери, родом из Женевы, оставивший любопытные записки о своем заключении в Бастилии, специально занимался финансовыми вопросами. Он представил в Министерство финансов множество своих проектов, на которые не получил никакого ответа. За брошюру «Невыгоды займов 7 января и 9 февраля 1777 года», опубликованию которой предшествовало его очередное письмо министру на ту же тему, он был арестован. После семилетнего заключения в Бастилии ему предложили свободу с условием, что он станет правительственным шпионом. Пелиссери отвечал письмом на имя Делюскюра, майора бастильского гарнизона: «Сегодня, после семилетнего безжалостного, печального, жестокого заключения, после бесчисленных оскорблений, которым не было примера, после того как дурное содержание довело меня до тягостной болезни (более года я кашляю кровью), наградивши меня постоянным ревматизмом и цингою, через которую я едва не лишился рук и ног, – после всего этого мои преследователи хотят, чтобы я посвятил мои способности и те немногие дни, которые мне остается еще прожить, на служение им в должности, возбуждающей во мне отвращение… Все, что я могу сделать в подобной крайности, то есть желая освободиться от ужасного рабства, в котором я находился в течение семи лет, это – выйдя отсюда не обесчещенным и не заклейменным именем преступника и проведя недель шесть в Париже, чтобы полечиться от цинги, уехать на свою родину, куда, по случаю смерти моей матери, зовут меня мои семейные дела. Окончив их и продав кое-что, я, не торопясь, займусь составлением мемуаров о несчастном положении Франции, о ее военных и гражданских законах, о ее экономическом и политическом положении». Пелиссери был объявлен сумасшедшим и перевезен в Шарантон, откуда его освободили лишь после революции. Офицер Брен де ла Кондамин, служивший на Корсике и в колониях, сообщил правительству об изобретенных им бомбах, позволявших легко поджигать неприятельские суда. Спустя некоторое время, а именно 19 февраля 1779 года, его посадили в Бастилию, где изобретатель просидел три месяца без допроса. К исходу этого срока следователь признался ему, что и сам не знает причины его ареста. Тогда Кондамин решил бежать, и лишь непредвиденная случайность помешала ему привести в исполнение свое намерение: он уже вылез на крышу одной из башен и начал спускаться вниз по веревочной лестнице, как вдруг лестница оборвалась и он с шумом упал в ров; подбежавшие часовые схватили его. За этот побег он четыре года провел в каземате и получил свободу лишь в 1782 году. Ленуар вручил ему шесть тысяч ливров в виде компенсации за ущерб и приказал молчать обо всем, что с ним случилось. При Людовике XVI продолжались и аресты иностранцев. Вот что, например, сообщает Кафе, имя которого увековечено во Франции и во всем мире, о своем дяде: «Клод Луи Кафе, капитан гвардии Фридриха Великого, подружился с Вольтером. Поступив впоследствии на службу к сардинскому королю, он вынужден был однажды жаловаться министру Чиаварини на то, что его несправедливо обошли чином. На его жалобу не только не обратили внимание, но даже поставили ее ему в вину. Кафе приехал во Францию, чтобы здесь опубликовать оправдательную записку, но был арестован в Париже на основании указа французского короля, полученного графом Скарнальфи, тогдашним сардинским посланником во Франции. Кафе засадили в Бастилию, отобрав у него все бумаги». Затем узника перевезли в Миолан, государственную тюрьму герцога Савойского. «Из Бастилии в тюрьму Миолан, – продолжает племянник арестованного, – Клод Луи Кафе был отправлен в почтовой карете, в сопровождении лишь одного гвардейского капитана; но, чтобы сделать невозможным его побег, к его сапогам прикрепили свинцовые подошвы». Смерть Чиаварини, последовавшая через полгода после этих событий, возвратила Кафе его положение при сардинском дворе. По-прежнему продолжали сажать в Бастилию писателей. Линге, известный поэт, историк, журналист и писатель того времени, был по натуре человек весьма желчный. Дебютировав на литературном поприще с трагедией о смерти Сократа, он затем потерял интерес к драматургии и занялся историей. Линге издал два исторических сочинения, написанных весьма талантливо: «Век Александра» и «XVI столетие». Обе книги удостоились сочувственной рецензии д'Аламбера. Ободренный Линге стал хлопотать об академическом кресле, но получил отказ. Написав еще одно историческое сочинение – о Римской империи, – Линге охладел к истории и вступил в коллегию адвокатов. Здесь он быстро снискал известность своей находчивостью, остроумием и красноречием. Его блестящая репутация возбудила зависть в коллегах, испытавших на себе всю силу его язвительного ума; к тому же он не щадил и самих членов парламента. Карьера адвоката кончилась для него тем, что он был исключен советом адвокатов из этой корпорации; приговор Парижского парламента подтвердил решение совета. Тогда Линге основал литературный журнал, в котором обрушился с резкими нападками на Академию и парламент. По требованию Академии журнал был закрыт. Линге перебрался в Швейцарию, а затем в Англию, где стал издавать газету «Временник», имевшую огромный успех благодаря своей критической направленности и талантливому освещению вопросов, волновавших общество. Герцог де Дюра, задетый публикациями в газете, начал против Линге процесс. Реннский парламент, куда обратился герцог, решил дело в его пользу. Однако критика парламента в газете Линге и явное сочувствие издателю со стороны общественного мнения вынудили Реннский парламент пересмотреть дело и изменить свое решение. Дюра пожаловался королю. Все знатные особы, оскорбленные Линге, присоединились к герцогу и выхлопотали тайный приказ на арест издателя. 27 сентября 1780 года Линге приехал в Париж, предварительно заручившись обещанием французского правительства не трогать его. Несмотря на это обещание, он был арестован на глазах у публики и под усиленным конвоем отправлен в Бастилию. В продолжение двадцатимесячного заключения его не подвергли ни одному допросу и не объяснили причины его ареста. Потеряв всякую надежду получить свободу, Линге неожиданно был выпущен из крепости и сослан на жительство в маленький городок в сорока верстах от столицы. Оттуда Линге бежал в Англию, где в 1783 году опубликовал мемуары о своем заключении. Мемуары Линге приобрели широкую известность во Франции и усилили ненависть к Бастилии – этому символу королевского произвола. В самой Бастилии с воцарением Людовика XVI произошли некоторые изменения. Она потеряла статус государственной тюрьмы и превратилась в обычную тюрьму, с той разницей, что преступников содержали в ней в сравнительно лучших условиях. Министр Бретей разослал интендантам городов распоряжение о том, что отныне тайные приказы будут выдаваться лишь с точным указанием срока присуждаемого наказания, а также причин ареста, но это распоряжение, как мы видели, часто не исполнялось. Зато в Бастилии окончательно исчезли пытки и было запрещено сажать заключенных в карцер. 11 сентября 1775 года министр Малесерб, много способствовавший смягчению тюремных правил, писал коменданту Бастилии: «Никогда не следует отказывать заключенным в занятиях чтением и письмом. Ввиду того, что они так строго содержатся, злоупотребление, которое они могли бы сделать при этих занятиях, не внушает опасений. Не следует также отказывать тем из них, которые пожелали бы заняться какого-либо другого рода работой; при этом надо только следить, чтобы в их руки не попадали такие инструменты, которые могут послужить им для бегства. Если кто-либо из них пожелает написать своим родным и друзьям, то это надо разрешать, а письма прочитывать. Равным образом надлежит разрешать им получать ответы и доставлять им таковые при предварительном прочтении. Во всем этом полагаюсь на ваше благоразумие и человечность». Число заключенных в Бастилии было сравнительно невелико – 253 человека за 15 лет. В сентябре 1782 года в крепости сидели 10 арестантов, в апреле 1783 года – 7, в декабре 1788 года – 9; 14 июля 1789 года из темниц были освобождены 7 заключенных. Однако следует заметить, что преступления, в которых их обвиняли, не были доказаны, никого из них не допрашивали более одного раза и ни один из них не был предан суду. Условия содержания узников изменились в худшую сторону с октября 1776 года, когда комендантом Бастилии стал де Лоне (его отец был комендантом крепости во времена регентства). Он добивался этой должности всеми средствами, уверяя, что создан для нее и имеет все права на это место по своему происхождению: он родился в 1740 году в Бастилии и, по его словам, получил от отца все правила и наставления, необходимые для безупречного управления этой крепостью. Вступив в должность, де Лоне отяготил не только заключенных, но и персонал крепости самыми мелочными придирками. Его главным пороком была скупость. Чтобы вернуть сторицей те деньги, которые ему пришлось заплатить за место, он продавал все: казенные хлеб, дрова, одежду, мебель. Когда число заключенных уменьшалось, а вместе с тем падали и его доходы, он жаловался и просил прислать новых арестантов. Его ненавидели не только заключенные, но и бастильские служащие. Интересные подробности об управлении Бастилией де Лоне содержатся в письме уже знакомого нам Пелиссери к майору Делому, покровительствовавшему ему: «Вам известно, милостивый государь, что уже семь лет я заключен в Бастилии. В моем печальном жилище зимою ужасный холод, дров для топки отпускается крайне недостаточно и они очень сыры; конечно, комендант распоряжается так из одного человеколюбия, чтобы умерить жар огня и заморозить пылкие чувства заключенного, мечтающего о свободе! Летом я вдыхал воздух только через окно, просверленное в стене, толщиною в пять сажен и заделанное двойными железными решетками… Вы также знаете, что с 3 июня 1777 года до 14 января 1784 года у меня была самая дурная постель; матрас был так изорван, источен червями, наполнен сором и пылью, что я никогда не мог на нем спать, а плохой соломенный стул, из самых простейших, у которого спинка входила внутрь сиденья, заставлял невыносимо страдать плечи, поясницу и грудь. Чтобы сделать ужаснее неприятности подобного положения, зимой мне отпускали воду только вонючую и испорченную, какая бывает в реках при разлитии; ее брали, конечно, из рвов Бастилии, куда, как известно, выливаются разные нечистоты из квартир Арсенала и замка. К довершению всех жестокостей… мне давали самый отвратительный хлеб, от которого мне сильно нездоровилось; вместо положенного обеда и ужина я получал мешанину из всякой дряни, мне давали остатки кушаний от господ и слуг, часто вонючие, отвратительные, засыхающие и гниющие в кухонных шкафах…» Между тем с Пелиссери обходились не строже, чем с другими заключенными, о чем имеются свидетельства в бастильских документах и записках других узников. Одежда, выдававшаяся заключенным, была не лучше еды. Линге получил теплую одежду только в конце ноября, причем выданная ему роба была сшита так экономно, что он не смог влезть в нее; по словам Линге, она была впору новорожденному ребенку. На его жалобу де Лоне ответил в присутствии офицеров, что ему следовало раньше думать, как не попасть в Бастилию, а раз уж он попал сюда, то нужно уметь все переносить. Этот мудрый совет был приправлен отборными ругательствами. Прогулкой, как и прежде, пользовались немногие заключенные, но и им де Лоне запретил гулять в саду, так как комендант продавал оттуда фрукты. Арестантам отвели новое место для прогулок на башнях, а вскоре их перевели оттуда в небольшой тюремный двор. «Это печальное место, – пишет Линге, – походило на широкий колодезь, где зимой был невыносимый холод, потому что часто дул северный ветер; летом же жар доходил до высочайшей степени, воздух туда не попадал, и палящие лучи солнца делали этот колодезь настоящей печью». В своих мемуарах Линге обрисовал и скверное состояние врачебной помощи в Бастилии. Тюремный врач не жил в крепости, поскольку занимал одновременно должность лейб-медика в Версале, где и проводил три четверти года. В его отсутствие никто не имел права его заменить, и больные заключенные подолгу оставались без всякого ухода. Когда врачу все же случалось осмотреть больного, тюремщик приносил в камеру лекарства и оставлял их на столе; больной сам должен был принять их и подогреть, если это было необходимо. Вместо сиделки разрешалось брать солдата-инвалида, который должен был оставаться в Бастилии все время болезни заключенного, поэтому на эту должность шли немногие и лишь за большие деньги. Если больной умирал, погребальная процессия происходила ночью. Два сторожа сопровождали покойника в приходскую церковь и на кладбище и расписывались в похоронной книге. При отсутствии особых указаний от начальства умершего хоронили под чужим именем. Как было сказано, с 1783 по 1789 год Бастилия была почти пуста, и если бы туда не помещали преступников, которым было место в обыкновенных тюрьмах, то крепость стала бы совершенно необитаемой. Уже в 1784 году за неимением государственных преступников пришлось закрыть Венсенскую тюрьму, которая была как бы филиалом Бастилии. С другой стороны, содержание Бастилии обходилось казне очень дорого. Один комендант получал ежегодно 60 тысяч ливров жалованья. Если добавить к этому расход на содержание гарнизона, тюремщиков, врача, аптекаря, священников, а также деньги, выдаваемые на питание для заключенных и их одежду (только в 1784 году на это ушло 67 тысяч ливров), то сумма получается громадная. Исходя из этих соображений, министр финансов Неккер предложил упразднить Бастилию – «ради экономии». Об этом говорил не он один. В 1784 году городской архитектор Парижа Курбе представил официальный план открытия «площади Людовика XVI»… на месте крепости. Есть сведения, что и другие художники занимались составлением проектов различных сооружений и памятников на месте Бастилии. Один из этих проектов любопытен: предлагалось срыть семь башен крепости, а на их месте воздвигнуть памятник Людовику XVI; пьедесталом ему должны были служить груды цепей государственной тюрьмы, а на них должна была возвышаться фигура короля, протягивающего руку жестом освободителя по направлению к восьмой, сохраненной башне. Остается только пожалеть, что этот замысел не был осуществлен. 8 июня 1789 года, уже после созыва Генеральных штатов, в Королевскую академию архитектуры поступил схожий проект Дави де Шавинье – этот памятник Генеральные штаты хотели поставить Людовику XVI «как восстановителю народной свободы». Памятник не был установлен, но сохранились эстампы, изображавшие короля, протягивающего руку к высоким башням тюрьмы, которые разрушают рабочие. В архиве Бастилии находятся два рапорта, представленные в 1788 году Пюже, первым лицом в крепости после коменданта. Он предлагает снести государственную тюрьму, а землю продать в пользу казны. Все эти проекты вряд ли бы существовали и обсуждались, если бы не отражали настроения верховной власти. Разрушение Бастилии было предрешено, и, если бы этого не сделал народ, это сделало бы само правительство. К 14 июля 1789 года башни и бастионы Бастилии были еще целы, но ее уже как бы не существовало – она превратилась в призрак, в легенду. Калиостро и дело об ожерелье королевы Самый громкий процесс времен Людовика XVI – «дело об ожерелье королевы» – был связан с именем знаменитого «графа» Калиостро. Этот гениальный шарлатан родился в 1743 году в бедной итальянской семье, и его настоящее имя было Джузеппе Бальзамо. В молодые годы он много путешествовал, побывал в Египте, Сирии, Греции, объездил Испанию, Португалию, Англию и Францию. Эти поездки позднее дали ему повод хвалиться, что он узнал все тайны восточной и европейской мудрости. Вернувшись на родину, он стал продавать воду красоты, превращать серебро в золото, увеличивать бриллианты и указывать счастливые номера в лотереях. Но скоро он убедился, что это шарлатанство не приносит большой выгоды, а главное, не помогает войти в круг высшего общества, куда Бальзамо всеми силами стремился попасть. Поэтому в 1776 году он принял титул графа (иногда он также представлялся маркизом) Калиостро, а в следующем году вступил в масонскую ложу розенкрейцеров. Изучив систему этой ложи и начитавшись масонских сочинений, он в скором времени провозгласил себя основателем новой масонской системы – египетской. Калиостро назвался посланником пророков Илии и Еноха и даже приписал себе божественное происхождение. Приняв титул Великого Копта, он ввел в своей системе целых 90 ступеней посвящения, за прохождение которых требовал денег. Свой мистико-теософский арсенал Калиостро составил из уже в изобилии имевшихся к тому времени сочинений подобного рода, но очень умело пользовался им, так что с успехом поддерживал мнение о себе как об обладателе небывалой мудрости. Он обещал продление жизни, господство над духами, физическое и моральное возрождение; нет нужды добавлять, что он обладал и философским камнем, и волшебным зеркалом, мог перевоплощаться и жил на свете уже не одну сотню лет… На него обратили внимание иллюминаты – масонский орден, поставивший своей целью бороться с монархиями и христианской Церковью. Глава иллюминатов, Вейсгаупт, обязался оказывать Калиостро финансовую поддержку в обмен на обещание пропагандировать идеи этого тайного общества. С этого времени дела Калиостро пошли в гору. Чтобы замаскировать источник своих средств, он ежемесячно запирался в своем кабинете, давая понять, что в это время изготовляет золото. В своем новом амплуа Калиостро побывал в Голландии, Германии, России, но особенный успех он имел во Франции – на родине философов и вольнодумцев. Среди поклонников Великого Копта были герцог Люксембургский и известный натуралист Ромон. Ученики называли Калиостро «обожаемый отец» и «достойнейший учитель». Все хотели иметь его портрет на медальонах, кольцах, веерах; в знатных парижских домах стояли бюсты «божественного Калиостро». «Графа» сопровождала Лоренца Феличиани, его жена, с которой, разумеется, тоже говорили духи света и тьмы. По-княжески расточительный, появлявшийся на улицах и в общественных местах в сопровождении многих слуг, в великолепном костюме, украшенном бриллиантами и орденами, он всюду возбуждал удивление и внимание к своей особе. Даже Гёте признавал, что «Калиостро во всяком случае замечательный человек». Калиостро гениально удовлетворял потребности в демонических героях, которых так любила романтическая литература того времени. «Он был, – пишет в своих мемуарах баронесса Оберкирх, – не то чтобы красив, но я никогда не видела более выразительной физиономии. Он обладал взглядом почти сверхъестественной глубины. Выражение его глаз было то как пламя, то как лед; он привлекал к себе и отталкивал; он то внушал боязнь, то казался непреоборимо привлекательным». Однако вскоре этим триумфам пришел конец. В Париже Калиостро сблизился с придворной интриганкой графиней Ла Мот, урожденной Валуа. Девизом этой достойной дамы были следующие слова: «Есть два способа выпрашивать милостыню: сидя на паперти церкви или разъезжая в карете». Ла Мот предпочитала второй способ. По совету Калиостро она уверила кардинала де Рогана, что королева Мария Антуанетта хочет тайком купить громадное бриллиантовое ожерелье, которое ювелиры Бемер и Бессанж продают за миллион шестьсот тысяч франков, но не решается сделать это открыто из-за боязни, что «философы тотчас напечатают памфлеты о растрате государственных средств». Ла Мот убедила кардинала, который в то время был в немилости, что если он купит для королевы это ожерелье, то будет щедро вознагражден ее величеством. Роган все же предпочел услышать это обещание из уст самой королевы. Августовской ночью 1785 года в трианонском парке, на одинокой тропинке, кардинал встретился с «королевой», укрывшейся под плащом с капюшоном, которая подтвердила слова Ла Мот. Роган и не подозревал, что разговаривал не с Марией Антуанеттой, а с девицей Марией Олива, чрезвычайно похожей на королеву. Покупка состоялась в кредит, и кардинал передал ожерелье Ла Мот. Но когда ювелиры со счетом пришли во дворец, возмущению Марии Антуанетты не было предела. 15 августа Рогана, собиравшегося идти служить мессу, призвали в кабинет короля, где находились Мария Антуанетта и еще несколько человек придворных. – Что это за ожерелье, которое вы будто бы доставили королеве? – грозно спросил кардинала Людовик. Смущенный Роган попросил дать ему возможность оправдаться в письменной форме. Его отвели в соседнюю комнату и дали бумагу и перо. Когда он закончил писать, его арестовали. – Ваше величество, – воззвал кардинал, – избавьте меня от позора быть арестованным в архиерейском облачении, на глазах всего двора. – Так и должно быть, – лаконично ответил король. Вечером того же дня дом Рогана был иллюминирован, а парижане пели веселые песни о королеве, называя ее «госпожой Дефицит», так как сплетня о ее участии в этом деле не подвергалась сомнению. Однако ее невиновность доказывается хотя бы тем, что ранее король дважды изъявлял желание подарить ей это злосчастное ожерелье и каждый раз Мария Антуанетта отвергала подарок. 18 мая арестовали Ла Мот и также посадили в Бастилию. После первых допросов интриганки был арестован Калиостро, а затем и Олива. Мнимая королева в момент ареста была беременна и в крепости родила мальчика; ребенок получил фамилию своего незаконного отца Тусена де Босир, признавшего себя виновником его появления на свет. Кардиналу отвели в Бастилии комнату майора Делома, находившуюся на большом дворе, где были помещения для офицеров. Ему позволили взять с собой трех камердинеров. У дверей его комнаты постоянно находился часовой. Комендант де Лоне был то чересчур строг с арестованным, то слишком благосклонен к нему – смотря по тому, склонялся процесс к осуждению или оправданию Рогана. Из казны на содержание кардинала отпускали 150 ливров вдень. Роган и Ла Мот шантажировали судей, что в случае признания их виновности они впутают в дело королеву. Из-за боязни скандала 31 мая 1786 года кардинал Роган был оправдан судом парламента. В этот день Париж ликовал: верноподданные логично заключили, что, если кардинал невиновен, значит, осуждены королева и двор. Роган сделался знаменитостью, хотя до того, по словам Луи Блана, «не имел даже популярности своих пороков». После своего выхода из крепости он снова поссорился со двором, но так как его здоровье было подорвано десятимесячным заключением, то на этот раз его сослали в провинцию Овернь. Оливу, ввиду ее беременности, освободили из-под стражи еще раньше. Ла Мот признали виновной в обмане и махинациях и приговорили к наложению клейма рукой палача и тюремному заключению. Во время экзекуции она так извивалась в руках у стражников, что палач заклеймил не плечо, а грудь. Из Бастилии ее перевели в другую тюрьму и в ноябре без шума выпустили на свободу Что касается Калиостро, то, хотя суд и оправдал «графа», ему было предложено покинуть Францию. Он переехал в Лондон, оттуда в Швейцарию и, наконец, в Рим. Здесь он попал прямо в руки инквизиции, давно с интересом наблюдавшей за его фокусами. Его арестовали и приговорили к смерти, замененной затем на пожизненное тюремное заключение. Калиостро перевозили из темницы в темницу; в одной из них он и умер в 1795 году, после шести лет заключения. Маркиз де Сад В числе наиболее известных узников Бастилии следует назвать и Донасьена Альфонса Франсуа, маркиза де Сада. Он принадлежал к древнему роду. Один из его предков был женат на той самой Лауре де Нов, которую Петрарка впервые увидел в Страстную пятницу, 6 апреля 1327 года, в церкви Санта Кьяра в Авиньоне и чьей красоте литература обязана великолепием его сонетов. Потомок прекрасной Лауры стал родоначальником литературы совсем иного сорта. В 1754 году, четырнадцати лет, де Сад был записан в кавалерию. Он участвовал в Семилетней войне и дослужился до звания капитана. Вернувшись в Париж, он женился на дочери президента парламента Монрейля. Госпожа де Сад была красива и кротка, но привлекла внимание мужа ненадолго: уже через год маркиз едва не попал в Венсенскую тюрьму за дебош, учиненный в публичном доме, после чего уединился в своем замке Конта с актрисой, которую выдавал за свою жену. В 1767 году умер его отец, и де Сад унаследовал чин генерал-лейтенанта Бресса, Бюже и Валроме. В следующем году он уже обнаружил свои патологические наклонности, обратив на себя внимание громким скандалом, вызвавшим судебное разбирательство. То, что случилось 3 апреля 1768 года в его доме, было образчиком тех сцен, которые он впоследствии описывал в своих книгах. Через своего слугу маркиз пригласил в дом двух проституток, а сам заманил туда же случайно встреченную им женщину, некую Розу Келлер, вдову торговца паштетами. Угрожая пистолетом, он заставил ее раздеться донага, связал ей руки и избил хлыстом до крови. Придя в надлежащее настроение, он оставил ее и пошел к проституткам, с которыми и провел вечер. Под утро женщине удалось снять с себя веревки и убежать через окно. На ее крики собралась толпа и вошла в дом; маркиза и двух вакханок нашли пьяными до бесчувствия. Де Сад был арестован, но судебное расследование прекратилось после того, как маркиз уплатил своей жертве штраф в сто луидоров и тем «искупил свою вину». Этот случай не оказал существенного воздействия на дальнейшее поведение маркиза. Он вступил в связь с сестрой своей жены, оказавшейся, видимо, более родственной ему натурой, и совершил с ней долгое путешествие по Италии (подробности этой поездки можно прочитать в его романах). На обратном пути, в июне 1777 года, в Марселе, де Сад дал новый повод для вмешательства властей. На устроенной им оргии он угостил приглашенных проституток лепешками с запеченными в них шпанскими мушками[35]. Видимо, де Сад хотел всего лишь вызвать у них наркотическое опьянение, но, отведав это угощение, две девушки умерли. На этот раз парламент в Эксе вынес маркизу и его лакею, бежавшим в Женеву, заочный смертный приговор. Через шесть лет этот приговор был заменен изгнанием на три года и штрафом в 50 ливров. В это время маркиз уже был арестован, но в августе 1778 года жена де Сада помогла ему бежать из Венсена, где он временно содержался. Вскоре в Париже произошел еще более громкий скандал. Подробности его передают различным образом. Кажется, в дело снова были пущены шпанские мушки, но на этот раз жертвами оказались знатные особы, мужчины и женщины, приглашенные к маркизу на бал. Де Сад и его лакей снова бежали при первых признаках отравления; несколько дам скончались, остальные гости получили сильнейшее отравление. В тот же день – неизвестно, до или после рокового ужина, – на одной из улиц Парижа нашли женщину, у которой были вскрыты вены, а тело изрезано ланцетом. Очнувшись, она рассказала, что маркиз де Сад заманил ее к себе в дом и после кровопускания изнасиловал. Де Сада арестовали «за бесчеловечные опыты, производимые им в Провансе и других местах над живыми людьми», и вновь отправили в Венсен, откуда 29 февраля 1789 года перевезли в Бастилию. Несмотря на страшные обвинения, в Бастилии с ним обращались не так строго, как с другими заключенными. Ему позволили оклеить обоями его комнату и хорошо кормили (конечно, за такую милость он приплачивал из своего кармана, но другим заключенным не позволялось и этого); он беспрепятственно гулял на башнях крепости. В первых числах июля 1789 года, за несколько дней до взятия Бастилии, комендант де Лоне, ввиду усиливающихся беспорядков в городе, велел зарядить пушки на платформах башен и запретил де Саду прогулки. Маркиз пришел в негодование и предупредил коменданта, что если через час его не выведут гулять, то он взбунтует весь Париж. Комендант пропустил угрозу мимо ушей, и тогда де Сад исполнил свое обещание. Взяв жестяную трубу с широкой воронкой, которая послужила ему рупором, он высунул ее в окно комнаты и стал звать на помощь, ругая де Лоне и крича, что комендант хочет его убить. Его крики были услышаны в Сен-Антуанском предместье; перед крепостью собралась взволнованная толпа. Некоторые ораторы уже призывали к штурму тюрьмы, но тут маркиз замолчал, и толпа мало-помалу разошлась, толкуя, что в Бастилии мучают несчастных узников. Де Сад замолчал потому, что встревоженный комендант прибежал к нему и обещал завтра же разрешить прогулку. Однако ночью маркиза отправили в Шарантон – дом для умалишенных. Не случись этого, и он через несколько дней был бы освобожден восставшими как жертва королевского произвола (правда, 17 марта 1790 года он все-таки вышел на свободу по декрету Учредительного собрания, который освободил всех заключенных в стране, арестованных по тайным приказам). Маркиз де Сад был последний заключенный Бастилии, покинувший ее по распоряжению начальства. Взятие Бастилии В течение всего царствования Людовика XVI неурожай сменялся неурожаем, цены на хлеб постоянно росли, в некоторых областях крестьяне, чтобы не умереть с голоду, паслись вместе со скотом. «Я видел Лангедок, Прованс, Дофине, Лион, Бургонь, Шампань, – писал Д. Фонвизин в 1778 году. – Первые две провинции считаются во всем здешнем королевстве хлебороднейшими и изобильнейшими. Сравнивая наших крестьян в лучших местах с тамошними, нахожу, беспристрастно судя, состояние наших несравненно счастливейшим… В сем плодоноснейшем краю на каждой почте карета моя была всегда окружена нищими, которые весьма часто, вместо денег, именно спрашивали, нет ли с нами куска хлеба». Положение крестьян и городских низов еще более ухудшил страшный голод 1788 года, вызванный опустошительным градом 13 июля, уничтожившим на корню более половины уже поспевавшего хлеба. В одном Париже количество нищих превысило 120 тысяч, а по всей Франции их насчитывалось более миллиона (на 25 миллионов жителей). Сословная рознь достигла крайних пределов. Все видные и выгодные должности находились в руках двух привилегированных сословий: дворянства и духовенства, которые владели двумя третями французской земли и не платили почти никаких налогов. Прочие сословия роптали, особенно буржуазия, которая нашла себе сильного союзника во французской прессе. Печать, умело обходя цензурные строгости, постоянно твердила о несправедливости и вреде тогдашнего общественного устройства. Протесты писателей-просветителей сделали свое дело. «Мало-помалу народ захотел перейти от теории к практике», – пишет Тьер в своей «Истории революции». А Фонвизин тонко отметил духовно-нравственную основу французской (как и всех прочих) революции: «Редкого встречаю, в ком бы неприметна была которая-нибудь из двух крайностей: или рабство, или наглость разума». Между тем двор не хотел и слышать об уступках, смеялся над предупреждениями, которые он получал со всех сторон, не придавал никакого значения протестам и временами сам играл в самую опасную для монархического правительства игру – игру в либерализм. 5 мая 1789 года начали свою работу Генеральные штаты – всесословное представительное учреждение королевства, созванное по приказу Людовика XVI, чтобы разделить с властью ответственность за положение в стране. Но, прежде чем сословные представители собрались в Версале, в стране появилось множество книг и брошюр, авторы которых стремились разрешить волнующие общество вопросы о выборе депутатов от третьего сословия: должно ли их число равняться вместе взятому числу депутатов от дворянства и духовенства или же оно должно составить третью часть собрания. Наиболее сильное впечатление во всех слоях общества произвела известная брошюра аббата Сийеса «Что такое третье сословие?», где были следующие слова: «Что есть теперь третье сословие? Ничто. Чем оно хочет стать? Всем». Такая постановка вопроса неминуемо вела к выводу, что третье сословие представляет собой всю Францию, а дворянство и духовенство – только свои привилегии. Под напором общественного мнения правительство вынуждено было узаконить положение, что число депутатов третьего сословия должно быть равно общему числу депутатов от первых двух сословий. Этот указ, вызвавший повсюду огромный энтузиазм, увеличил популярность министра финансов Неккера, которого считали его автором. Приступили к выборам. Париж был разделен на 60 округов, каждый депутат которых получил наказы от собрания своих избирателей. Среди прочих требований все парижские округа, без исключения, заявили, что тайные приказы должны быть отменены, а Бастилия – уничтожена как крепость, угрожавшая Парижу, и как государственная тюрьма, двери которой закрыты для суда. Собрание Генеральных штатов было открыто самим Людовиком XVI в Версале, в зале Малых забав. На первом же своем заседании депутаты третьего сословия постановили, что все дела должны решаться в присутствии всех сословий, простым большинством голосов. Дворянство отказалось признать это решение, духовенство – тоже, но слабым большинством голосов. Целый месяц между сословиями шли переговоры о компромиссе, которые, однако, ни к чему не привели. Тогда депутаты третьего сословия пригласили сочувствующих им депутатов от духовенства присоединиться к ним, и, когда десять священников перешли в залу Малых забав, представители третьего сословия объявили себя Национальным собранием – единственным полномочным представителем нации. Дворянство протестовало против этого решения, но духовенство одобрило его большинством голосов. Тогда дворяне убедили короля принять меры, чтобы Национальное собрание не могло продолжать свои заседания. На другой день депутаты Национального собрания обнаружили двери зала заседаний запертыми и охраняемыми солдатами французской гвардии. Депутаты перешли в другую залу – для игры в мяч – и там произнесли клятву не расходиться до тех пор, пока не будет выработана и принята конституция. Но дворянство не желало уступать без боя. Оно добилось того, что Людовик XVI лично явился в Национальное собрание, отменил его решения и приказал каждому сословию заседать в отдельной зале. Король удалился в сопровождении дворян и нескольких епископов, большинство же священников остались с депутатами третьего сословия. – Вы слышали повеление короля, – обратился церемониймейстер к президенту Национального собрания Бальи. – Передайте королю, – раздался с места голос депутата Мирабо, – что мы собрались здесь по воле народа, и нас могут заставить уйти отсюда только силой штыков! – Сегодня мы то же, кем были вчера, – холодно добавил Сийес, – приступим же к нашим занятиям. Когда Людовику XVI сообщили о неповиновении депутатов, король смущенно пробормотал: – Ну и черт с ними, пусть остаются! Национальное собрание возобновило свою работу. В тот же вечер в Париже узнали о событиях в Версале и словах Мирабо. Громадная толпа собралась в Пале-Рояле. При криках «Да здравствует Национальное собрание!» люди, знакомые и незнакомые, обнимались и поздравляли друг друга с победой народа. Эти постоянные сношения Национального собрания с населением Парижа обеспокоили двор. Королю было представлено множество проектов, как пресечь оппозицию, но так, как все они неминуемо вели к гражданской войне, король отверг их. К сожалению, в то же время Людовик XVI, склонившись на уговоры советников, стал более холоден по отношению к Неккеру, которого двор считал виновником беспорядков. Наконец дворянство признало себя побежденным и присоединилось к Национальному собранию; правда, оно пошло на это, по словам одного депутата, из любви к королю, а не по убеждению. С этого времени собрание приступило к выработке конституции. Между тем парижанам удалось привлечь на свою сторону солдат французской гвардии. Город явно выходил из-под контроля правительства. В ответ король решил ввести в столицу войска, квартировавшие под городом. 12 июля утром в Париж прибыл полк принца Ламбеска, другие отряды расположились в Сен-Клу, на Елисейских полях и в окрестностях Версаля. Потом вдруг разнесся слух об отставке Неккера, единственного министра, державшего сторону Национального собрания. На людей, распространявших эту новость, сначала смотрели как на сумасшедших или изменников, но постепенно беспокойство охватило весь город. Толпы горожан стекались в Пале-Рояль, давно уже ставший местом публичных собраний. «Сделавшись центром распутства, азартных игр, праздности и раздачи брошюр, – пишет Тэн в «Истории происхождения Франции», – Пале-Рояль привлекает к себе все беспринципное население большого города, которое, не имея ни своего дела, ни домашнего очага, живет только ради удовлетворения любопытства или ради удовольствия всех этих завсегдатаев кофеен и игорных домов, разных авантюристов и забулдыг, затерявшихся или сверхштатных детищ литературы, искусства и адвокатуры, разных стряпчих, студентов, праздношатающихся, заезжих иностранцев и обывателей меблированных комнат». Здесь ораторы, известные и неизвестные, сменяли друг друга, не чувствуя никакой ответственности за свои провокационные речи. Камил Демулен, например, дразнил воображение слушателей такими картинами: «Раз животное попало в западню, его следует убить… Никогда еще такая богатая добыча не давалась победителям. Сорок тысяч дворцов, отелей, замков, две пятых имущества всей Франции будут наградой за храбрость. Те, кто считает себя завоевателями, будут покорены в свою очередь. Нация будет очищена». Тэн справедливо замечает, что это уже почти сформулированная программа террора. Лица, вызвавшие недовольство этой возбужденной толпы, рисковали жизнью. Камил Демулен с удовлетворением рассказывал своим читателям о том, как «схватили полицейского шпиона, выкупали его в бассейне, затравили, как зверя на охоте, замучили под палочными ударами, вырвали глаз и в заключение, несмотря на мольбы о пощаде, снова бросили в бассейн. Пытка продолжалась с двенадцати до пяти с половиной часов, причем палачей было по крайней мере десять тысяч…» Этих-то людей 12 июля Камил Демулен призвал к оружию. Ответом ему был яростный рев обезумевшей толпы, требовавшей смерти «тиранам» и «изменникам». Демулен предложил надеть кокарды, чтобы отличать своих от чужих. «У меня были слезы на глазах, – писал он в своей газете «Старый Кордельер», – и я говорил с таким волнением, которое не в силах теперь выразить. Я продолжал: «Какой цвет вы изберете?» Кто-то закричал: «Выбирайте!» – «Хотите зеленый, цвет надежды, или голубой, принятый в Цинциннати, – цвет свободной Америки и демократии?» Со всех сторон закричали: «Зеленый – цвет надежды!» Тогда я сказал: «Друзья, сигнал подан. Смотрите: шпионы и пособники полиции смотрят мне прямо в глаза. Но пусть не рассчитывают они, – живой я не попаду к ним в руки» Потом, вынув из кармана два пистолета, я продолжал: «Я бы желал, чтобы мне подражали все добрые граждане!» Я сошел со своей импровизированной кафедры, и меня просто задушили в объятиях; одни меня прижимали к сердцу, другие рыдали на моей груди. Один гражданин из Тулузы, опасаясь за мою жизнь, не хотел оставлять меня одного ни на минуту. Между тем мне принесли зеленую ленту и я первый надел ее на мою шляпу и роздал такие же ленты всем, кто стоял близко от меня. Но скоро лент недостало. «Тогда возьмем листья, – сказал я, – и украсим ими наши шляпы». Оборвав все каштаны возле Пале-Рояля, толпа последовала за Камилом Демуленом в Комеди Франсез. Там Демулен довел публику до такого возбуждения, что она потребовала закрытия театра в знак траура. Оттуда он повел толпу по бульварам, неся в руках накрытые черным крепом бюсты Неккера и герцога Орлеанского – «принца Равенство», которому, по слухам, грозила ссылка. Его спутники заставляли всех встречных снимать шляпы. На улице Сен-Мартен Демулен встретил отряд французской гвардии и убедил солдат следовать за ним. Толпа, увеличиваясь все более и более, дошла до Вандомской площади, но здесь путь ей преградил отряд немецкого полка. Офицер, возглавлявший отряд, предложил толпе разойтись. Его слова были встречены свистом, и произошла стычка, в которой погибло несколько человек и был разбит бюст Неккера; в конце концов, с помощью гвардейцев, немцев прогнали. Ближе к ночи с колоколен всех церквей и с каланчи ратуши раздался набат, на улицах забили в барабаны – это комитеты избирательных округов призывали жителей вооружаться. В ратуше единогласно было решено принять новую национальную кокарду: голубую с красным, так как эти цвета входили в поле герба города Парижа. 13 июля город очутился во власти вооруженных шаек. Очевидец вспоминал, что в ночь на 14 июля «целое полчище оборванцев, вооруженных ружьями, вилами и кольями, заставляли открывать им двери домов, давать им пить, есть, деньги и оружие». Все городские заставы были захвачены ими и сожжены. Среди бела дня пьяные «твари выдергивали серьги из ушей гражданок и снимали с них башмаки», нагло потешаясь над своими жертвами. Одна банда этих негодяев ворвалась в Лазаристский миссионерский дом, все круша на своем пути, и разграбила винный погреб. После их ухода в приюте осталось тридцать трупов, среди которых была беременная женщина. «В течение этих двух суток, – пишет Бальи, – Париж чуть не весь был разграблен; он спасен от разбойников только благодаря национальной гвардии». Днем 14 июля разбойничьи шайки удалось обезоружить, нескольких бандитов повесили. Только с этого момента восстание приняло чисто политический характер. Еще в ночь на 14 июля по всему городу распространился слух о том, что 15-го королевские войска атакуют Париж. Городской комитет, составленный, из представителей округов, принял решение предупредить нападение, овладев Бастилией. Комендант крепости де Лоне уже несколько дней тщательно готовился к обороне. Он велел втащить на башни фуры с булыжником и приготовить ломы для разрушения печных труб, обломки которых должны были раздавить нападавших. В стенах делались новые амбразуры и бойницы, у ворот и на башнях расставлялись пушки. 14 июля гарнизон Бастилии, состоявший из 32 швейцарцев Салис-Самадского полка и 82 инвалидов, располагал 15 пушками, установленными на башнях, 3 орудиями, поставленными на внутреннем дворе, напротив ворот, 400 мушкетами, 14 ящиками пушечных ядер, 3 тысячами патронов; однако в крепости почти не было провианта и воды. Пространство перед первым подъемным мостом занимали казармы и множество лавок. Чтобы не подпустить нападавших к крепости, следовало бы снести все эти постройки, но де Лоне не сделал этого, так как получал значительный доход от сдачи лавок внаем. Комендант допустил еще одну ошибку, не наведя пушку на Арсенал, рядом с которым стоял принадлежавший ему домик. Утром 14 июля в Бастилию прибыла депутация из ратуши, пытавшаяся предотвратить штурм крепости. «Уберите ваши пушки, дайте слово, что не прибегнете ни к каким враждебным действиям, – потребовали парламентеры, – а мы со своей стороны ручаемся, что удержим народ от нападения на крепость». Бастилия еще не была окружена народом вплотную, поэтому де Лоне принял гостей весьма любезно. Он пригласил их разделить с ним завтрак, согласился отодвинуть пушки от амбразур и взял клятву с солдат гарнизона, что они не станут стрелять в народ, если не последует штурма. По замечанию Тэна, с вооруженной толпой, собравшейся перед Бастилией, обращались «как с детьми, которым стараются сделать как можно меньше вреда». При выходе из крепости парламентеры столкнулась с Тюрьо, депутатом одного из округов, присланным городским комитетом с требованием впустить в Бастилию отряд народной милиции. Де Лоне отказался пойти на это, но позволил Тюрьо подняться на стены и башни крепости, чтобы тот смог лично убедиться в том, что пушки отодвинуты от амбразур. Между тем толпа перед Бастилией требовала немедленной сдачи крепости. Когда вышедший из ворот Тюрьо объявил о результатах переговоров, раздались негодующие крики: «Нас изменнически предали!» Тюрьо схватили и, держа над его головой топор, повели в ратушу. В это время первые смельчаки побежали к внешнему подъемному мосту, увлекая за собой остальных. Осада Бастилии началась. Двое молодых людей, Даван и Дассен, спустились по крыше парфюмерной лавки на крепостную стену, примыкавшую к гауптвахте, и спрыгнули во внешний (комендантский) двор Бастилии; Обер Бонмер и Луи Турне, бывшие солдаты, последовали за ними. Вчетвером они перерубили топорами цепи подъемного моста, который рухнул вниз с такой силой, что подпрыгнул от земли чуть не на два метра; при этом один из горожан, толпившихся у ворот, был раздавлен, другой покалечен. Народ с криками торжества ринулся через комендантский двор ко второму подъемному мосту, уже непосредственно ведущему в крепость, но здесь их встретил мушкетный залп. Толпа в замешательстве рассыпалась по двору, усыпав землю телами убитых и раненых: большинство штурмующих не знали, каким образом были открыты первые ворота, и решили, что это сделал сам комендант, чтобы завлечь их в ловушку. Между тем де Лоне, несмотря на постоянный обстрел крепости, до сих пор удерживал солдат от ответного огня. Раненых на носилках понесли в город как доказательство «измены» коменданта Бастилии. Среди них был умирающий гвардеец, чей вид заставил его товарищей по оружию двинуться на помощь осаждавшим. Около двух тысяч гвардейцев провозгласили своим командиром Гюллена, директора королевской прачечной, и гренадера Лазара Гоша[36] Когда солдаты входили на комендантский двор, густой дым заволакивал крепость – это горели казармы и лавки; перед вторым подъемным мостом штурмующие подожгли несколько телег с сеном, которые, однако, лишь мешали навести на ворота пушки. Гарнизон, в свою очередь, через бойницы у ворот наудачу осыпал осаждавших картечью из двух небольших орудий. Эли, бывший офицер полка королевы, и купец Реоль смело бросились вперед, чтобы оттащить от ворот телеги; двое горожан, последовавших за ними, упали, сраженные картечью. Как только Эли и Реоль расчистили место перед воротами, подъемный мост стали обстреливать из пушек – таким образом надеялись перебить удерживающие его цепи. Одновременно по крепости велась ружейная стрельба со всех окрестных крыш, правда, не причинявшая гарнизону ни малейшего вреда. Ответный орудийный огонь из крепости только увеличивал ярость толпы, беспрестанно вопившей: «Хотим взять Бастилию!» В это время к Бастилии прибыла вторая делегация из ратуши во главе с аббатом Фуше (который позже изречет знаменитую глупость: «Это аристократы распяли Христа»). Парламентеры делали знаки, чтобы гарнизон прекратил огонь, но солдаты ничего не видели из своих бойниц, окутанных дымом. Депутаты уже хотели уйти ни с чем, как вдруг вдали показалась третья делегация – с барабанщиком и белым флагом. Под барабанный бой парламентеры подошли к стенам и закричали, размахивая знаменем: – Мы пришли для переговоров, прекратите огонь! Инвалиды на башнях, в знак мира, сняли высокие шапки и опустили ружья. Делегация двинулась к воротам, как вдруг раздался залп – это стреляли швейцарцы, расположившиеся на внутреннем дворе и не знавшие о прибытии парламентеров. Осаждавшие пришли в исступление: они проклинали и де Лоне, и ратушу; барабанщика едва не убили. Все повторяли сказанную кем-то фразу: – Наши трупы наполнят рвы. К воротам крепости приволокли девушку, обнаруженную в казармах; как уверяли поймавшие ее, это была дочь коменданта. Девушка говорила, что она дочь командира инвалидов Мансиньи, как это и было на самом деле, но ей не верили. Толпа окружила ее, крича: «Надо сжечь ее живьем, если комендант не сдаст крепость!» Мансиньи, с высоты башни увидев свою дочь, лежавшую без чувств на земле, бросился ей на помощь и был убит двумя выстрелами. Девушку действительно стали обкладывать соломой, чтобы сжечь, но Обер Бонмер вырвал ее из рук озверевшей толпы и отнес в безопасное место, после чего вернулся под стены Бастилии[37]. Шел шестой час с начала штурма крепости, надежды на его успешное окончание постепенно таяли. У восставших не было ни единого руководства, ни военного опыта (гвардейцы ограничивались огневой поддержкой, не участвуя непосредственно в штурме). За это время гарнизон потерял, за исключением Мансиньи, только одного защитника – инвалида, убитого ядром; потери же осаждавших составили 83 убитых и 88 раненых. В ход пошли самые несуразные проекты, с помощью которых хотели заставить гарнизон сложить оружие. Качали насосом воду, в надежде залить пороховые ящики, расставленные на башнях возле орудий, но струя едва достигала середины башен; какой-то пивовар предлагал сжечь «эту каменную глыбу», поливая ее лавандовым и гвоздичным маслом, смешанным с порохом; один молодой плотник, питавший страсть к истории и археологии, носился с чертежом римской катапульты. Бастилия, безусловно, устояла бы, не будь в числе ее защитников инвалидов, с большой неохотой стрелявших в соотечественников. «Бастилия была взята не приступом, – свидетельствует один из участников штурма, – она сдалась еще до атаки, заручившись обещанием, что никому не будет сделано никакого зла. У гарнизона, обладавшего всеми средствами защиты, просто не хватало мужества стрелять по живым телам; с другой стороны, он был сильно напуган видом этой огромной толпы. Осаждающих было всего восемьсот-девятьсот человек; это были разные рабочие и лавочники из ближайших мест, портные, каретники, суровщики, виноторговцы, смешавшиеся с национальной гвардией; но площадь Бастилии и все прилегающие улицы были переполнены любопытными, которые сбежались смотреть на зрелище». Среди этих последних выделялись нарядные женщины, с веселыми, оживленными лицами, «оставившие свои экипажи на некотором расстоянии». Гарнизону же с высоты стен казалось, что на них идет весь миллионный Париж. Инвалиды с самого начала штурма выражали недовольство комендантом: у них в городе остались жены и дети, и они волновались за их судьбу. «Нужно сдаться», – твердили они, уже не сдерживаемые привычкой к дисциплине. Одни швейцарцы выражали готовность сопротивляться до конца. Мрачный де Лоне метался по двору, как тигр в клетке, изредка останавливаясь, чтобы по реву толпы определить положение дел. Единственный достойный выход он видел в смерти. Выхватив из рук канонира факел, он с остекленевшим взглядом направился к пороховому погребу… Запасов пороха, хранившихся в крепости, хватило бы, чтобы разрушить до основания не только саму Бастилию, но все Сен-Антуанское предместье; наверное, в эту минуту де Лоне чувствовал себя Самсоном, погребающим вместе с собой филистимлян под обломками храма. Два офицера, угадавших намерение коменданта, в ужасе преградили ему путь. Один из них приставил штык к его груди, а другой отобрал факел. Комендант, видя, что никто не желает умереть смертью солдата, окончательно потерял голову и дошел до того, что начал умолять инвалидов дать ему бочонок пороха, чтобы он мог взорвать хотя бы самого себя. – Надо сдаться, – отвечали ему. Де Лоне отправился в залу Совета и сел писать документ о сдаче крепости. В эту минуту к нему вошел командир швейцарцев Луи де Флю с сообщением, что пушка осаждавших серьезно угрожает подъемному мосту; он просил разрешить ему сделать вылазку, чтобы очистить комендантский двор. Де Лоне вместо ответа протянул ему лист бумаги, на котором было написано: «У нас 20 тысяч фунтов пороха; мы взорвем на воздух гарнизон и весь квартал, если вы не примете капитуляции». Де Флю начал горячо возражать, уверяя, что нет никаких причин сдаваться, но де Лоне был непреклонен. Храброму командиру швейцарцев оставалось только подчиниться. Де Флю направился к подъемному мосту и бросил свернутую в трубку записку коменданта в одну из бойниц. Увидев это, инвалиды закричали осаждавшим: – Не убивайте нас, мы согласны сдаться! Чтобы достать записку, от которой осаждавших отделял широкий ров, через него перекинули доску. Некто Мальяр подобрал записку и передал ее Эли, возглавлявшему штурм ворот. Эли прочитал ее вслух и, прикрепив на конец шпаги, замахал ею, делая знак прекратить стрельбу; но его мало кто видел. Гвардейцы, окружавшие его, крикнули инвалидам: – Честное слово солдат, мы не сделаем вам ничего худого. Опустите мост! Спустя некоторое время подъемный мост опустился. Эли, Гюллен и другие руководители штурма вошли в крепость. Между тем остальные, не зная о капитуляции крепости, продолжали стрельбу. Один из офицеров гвардии, Гумбер, взобрался на вал, чтобы подать народу знак о сдаче Бастилии, но его мундир ввел в заблуждение толпу и он был убит несколькими выстрелами. Тогда гренадер Арне сорвал с головы шляпу, нацепил ее на ружье и замахал ею. Не прекращая стрелять, народ повалил к воротам. Было четыре часа сорок минут. Бастилия пала. Гарнизон Бастилии выстроился шпалерами во дворе: инвалиды направо от входа, швейцарцы – налево; оружие те и другие сложили вдоль стен. Инвалиды живо выражали свою радость, размахивая киверами и аплодируя победившему народу, но вид их мундиров вызвал в толпе ярость. Зато швейцарцев, вывернувших наизнанку свои мундиры, победители сначала приняли за узников и в порыве умиления обнимались с ними, называли братьями… Только одного из них погубил собственный страх – того, кто наводил пушки, стоявшие у ворот. Этот солдат сумел выбраться из крепости и уже перешел мост, как вдруг кто-то обратил внимание на его мундир и закопченное порохом лицо; в следующее мгновение удар сабли раскроил ему череп, и он упал на землю, смешав свою кровь с кровью убитых им людей. Эли и другие гвардейцы, вступив в крепость, старались держать слово и оградить гарнизон от расправы, но хлынувшая в ворота толпа крушила все на своем пути, «каждый стрелял, не обращая внимание, куда и в кого попадали заряды», – вспоминает очевидец. Больше всех досталось бедным инвалидам, которых чуть не растерзали на месте. На Бекара (одного из двух офицеров, не давших де Лоне взорвать Бастилию) кто-то указал как на тюремщика: ему отрубили кисть руки, тело прокололи насквозь двумя ударами шпаги и таскали по двору, глумясь. Правду о нем узнали только вечером, и тогда его отрубленную руку-ту самую руку, которая спасла всех, – с триумфом понесли по городу. Де Лоне, одетый в светло-серый фрак, с обнаженной головой, опершись рукой о палку с золотым набалдашником, внутри которой был скрыт кинжал, молча ждал своей участи. Купец Шолла узнал его и хотел арестовать. Де Лоне попытался заколоться, но подбежавшие гвардейцы удержали его руку и вывели из крепости. Тем временем поиски коменданта продолжались. Введенные в заблуждение формой и орденами, одни схватили секунд-майора де Мире, другие лейтенанта Карона, третьи майора Делома, четвертые лейтенанта Пирсона (поручику Пюже удалось, вывернув наизнанку мундир, выбраться из крепости и затеряться в толпе). Мире, служивший прежде в гвардии, крикнул своим бывшим однополчанам: «Товарищи, ко мне! Неужели вы дадите так позорно погибнуть честному человеку?» Гвардейцы вырвали его из рук толпы и, окружив, повели в город. Остальных офицеров тоже удалось спасти от немедленной расправы. На внутреннем дворе царил невероятный беспорядок. Раздавались возгласы: «Где жертвы? Теперь они свободны!» Толпа рассеялась по крепости. «Они набросились, как вороны на свежую добычу, – пишет депутат Дюссо, – обшарили все подвалы, побывали во всех переходах. По темным лестницам взбираются они на платформы и радуются, что им нечего больше бояться того, что их прежде так страшило. Они угрожают самим пушкам; расшатывают и скатывают вниз огромные камни, и шум, производимый их падением, отзывается в сердце каждого француза. Золото, серебро и документы были разграблены. Были вытащены на свет разные страшные орудия, пугавшие своей странной и ужасной формой; цепи, слишком часто запятнанные засохшей кровью, тяжелые кандалы, из которых многие были потерты ежедневным употреблением и вызывали взрывы негодования при мысли о множестве тех несчастных, для которых они были обычным мучением». Снаружи по крепости в это время все еще велась стрельба, и на одной из башен выстрелом снизу был убит десятилетний мальчик, принимавший участие в штурме. Со всех сторон звали тюремщиков отпирать двери, но те или попрятались, или смешались с народом. Поминутно раздавались громкие крики с требованием ключей, но ключи большей частью были уже в городе: каждая найденная связка с триумфом проносилась народом по улицам и вручалась президентам округов. Одному из них, Бриссо де Варвилю, некогда сидевшему в Бастилии, досталась связка, в которой он узнал ключ от собственной камеры. Не найдя ключей, стали выламывать двери; при свете факелов осматривали помещение и шли дальше. Камеры крепости пустовали. Наконец в одной из них на крики толпы и удары ломов и топоров ответил слабый возглас. Уступив напору, дверь разлетелась вдребезги, и перед толпой предстал белый как лунь старик, с блуждающим взором и безумной улыбкой на губах. При виде людей, которых он принял за пришедших за ним палачей, узник встал в оборонительную позицию. Его окружили, стали расспрашивать; в ответ он бормотал что-то про Людовика XV и маркизу Помпадур. Ему сказали, что эти люди давно умерли, а Бастилия в руках народа. Старик без всякого волнения выслушал эти слова и, ничего не отвечая, безучастно сел на кровать. Думая, что он растерялся от неожиданной радости, толпа подхватила его на руки и с торжеством понесла на двор. Этого старика звали Тавернье. Причины его заключения остались невыясненными; кажется, он был замешан в деле Дамьена, который в 1757 году нанес Людовику XV рану ножом, когда король садился в карету. Тавернье провел десять лет на островах Святой Маргариты и тридцать лет в Бастилии, где сошел с ума. Он был первым узником, освобожденным в этот день. Казалось, Тавернье прожил так долго лишь для того, чтобы народ мог увидеть пример произвола и жестокости, превосходящий всякое воображение. Толпа, несшая Тавернье, встретилась на выходе с двумя узниками, найденными в другой башне и также вынесенными оттуда на руках. Это были граф де Вит и граф де Солаж. Их сторож Гюйон, страшась народного гнева, сам открыл двери их тюрьмы и просил защиты у графа Солажа. Гюйон единственный из всех тюремщиков сохранил свои ключи. Де Вит был такой же древний старик, как и Тавернье. Он провел двадцать лет в Венсенском замке и десять лет в Бастилии за то, что сообщил некоторые биографические сведения о графине Дюбарри писателю Лакосту де Мезьеру для его скандального сочинения об этой любовнице Людовика XV. Теперь он с сильным иностранным акцентом бессвязно бормотал бессмысленные слова. Долгое заключение лишило его рассудка, и он, как и Тавернье, кончил свою жизнь в доме для умалишенных. Граф Солаж обнимал своих освободителей, благодарил их, восторгался победой народа и громко рассказывал о своих страданиях. Он был заключен в Венсенский замок в 1782 году по просьбе отца, недовольного его поведением. Переведенный затем в Бастилию, Солаж семь лет провел в одиночестве – к нему не приходили ни следователи, ни родные, и он не получил ни одного ответа на свои письма к отцу, полные раскаяния. Несмотря на это, первым, кого граф захотел увидеть после освобождения, был его отец. Но кто-то из толпы, знавший семью Солажей, сообщил графу, что его отец уже два года, как умер. Солаж залился слезами. Свобода не принесла ему особой радости – он умер в страшной нищете. Кроме этих людей, были освобождены еще четверо заключенных – Бешад, Ларош, Лакореж и Пюжад. Все они были посажены в Бастилию в 1787 году по обвинению в подделке двух векселей, принятых банкирами Туртоном, Равелем и Галле де Сантером. Мошенники, арестованные одни в Париже, другие в Амстердаме, почему-то не были преданы обычному суду, а без всякого следствия подверглись заключению в Бастилии. Более того, их главарь, Анри Ла Барт, также посаженный с ними в Бастилию, был уже давно выпущен на свободу, а их продолжали держать в крепости. После освобождения узников банкиры начали против них процесс, но суд оправдал их. Ко всем заключенным народ проявил уважение и сочувствие. В это время Эли, Гюллен и гвардейцы вели коменданта, бастильских офицеров, инвалидов и швейцарцев в ратушу. При виде пленников, говорит Тэн, жажда убийства охватила даже тех, кто вначале не хотел крови. «У кого не было при себе оружия, – вспоминал де Флю, – тот бросал в меня каменья; женщины скрежетали зубами и грозили мне кулаками. Позади меня уже были убиты двое из моих солдат… Наконец, под общей угрозой быть повешенными, я добрался до городской ратуши… тогда ко мне поднесли насаженную на копье человеческую голову, советуя полюбоваться ею, так как это голова де Лоне». Мемуары Линге создали последнему коменданту Бастилии дурную славу. Пока де Лоне вели к ратуше, толпа вокруг него кричала: «Надо ему перерезать горло! Повесить его! Привязать к хвосту лошади!» Все хотели, чтобы он испытал те же страдания, что и его несчастные узники; на него плевали, вырывали у него клочья волос, угрожающе подносили к лицу пики… Наконец у Гревской площади толпа набросилась на него. Несколько гвардейцев мужественно пытались защитить пленника. Поскольку коменданта узнавали по тому, что он шел с обнаженной головой, Гюллен в великодушном порыве надел на него шляпу; в следующий миг он был сбит с ног и лишился чувств… Когда он пришел в себя, де Лоне рядом не было. Аббат Лефевр, очевидец расправы над комендантом, свидетельствовал, что де Лоне «защищался, как лев». Желая избавиться от мук, он пнул одного из нападавших в пах и крикнул: – Пусть меня убьют! Эти его слова прозвучали как последний приказ. Его сразу подняли на штыки и поволокли труп к канаве, вопя: «Это чудовище предало нас! Нация требует его головы!» Человеку, получившему пинок, было предоставлено право самому отсечь коменданту голову. Этот безработный повар, рассказывает Тэн, «пришедший в Бастилию просто, чтобы поглазеть на происходящее… рассудил, что если, по общему мнению, дело это такое «патриотическое», то за отсечение головы чудовищу его еще могут наградить медалью», и без лишних слов принялся за дело. Взяв протянутую ему саблю, он несколько раз ударил по шее трупа; затем вытащил из кармана нож с черной рукояткой и «в качестве повара, умеющего расправляться с мясом», быстро закончил операцию и насадил голову коменданта на пику. При виде головы де Лоне толпу охватило веселье. Ужасную пику носили по всему городу; перед статуей Генриха IV ее трижды наклонили: «Кланяйся своему господину!» Расправа была учинена почти над всеми офицерами гарнизона. Лейтенант Персон был убит еще по дороге в ратушу; секунд-майор Мире, дойдя до дома, отослал сопровождавших его гвардейцев и стал открывать дверь – в этот момент появившиеся из-за угла вооруженные горожане опознали его и убили; лейтенант Карон был ранен, но его удалось вырвать из рук озверевшей толпы. Майора Делома пытался защитить бывший узник Бастилии де Пеллепор, который стал уверять народ, что майор был истинным отцом для заключенных. – Остановитесь, это мой благодетель! – призывал он. Видя, что слова мало помогают, Пеллепор выхватил шпагу и грудью заслонил майора. – Благородный молодой человек, что вы делаете? – сказал Делом. – Вы погубите себя, а меня не спасете. Ревущая толпа набросилась на них обоих. Пеллепор получил удар топором по шее, однако его оттащили и спасли; что касается Делома, то минуту спустя его голова оказалась на пике; позже ее выставили на всеобщее обозрение рядом с головой де Лоне. Трупы всех убитых офицеров отнесли в морг, кроме тела де Лоне, которое не было найдено. Только полгода спустя какой-то солдат принес семье коменданта его часы и некоторые другие драгоценные вещи; но он категорически отказался объяснить, каким образом они попали к нему. Инвалидов привели в ратушу. Их энтузиазм исчез, и они стояли бледные, молчаливые, ожидая самого худшего… Вдруг в голову Эли пришла спасительная мысль; он обратился к ним: – Присягните на верность нации! Инвалиды, все как один, подняли руки и принесли гражданскую присягу. Толпа расчувствовалась и бросилась обнимать их со слезами радости. Швейцарцев отвели в Пале-Рояль, где они также нашли защитников. Их выдали не то за узников, не то за солдат, отказавшихся стрелять в народ. Тотчас начался сбор пожертвований в их пользу, и парижане обступили их, выражая сочувствие. На следующий день в городе начались массовые избиения «аристократов». Франция вступала в эпоху, о которой позже один депутат Конвента выразился так: «Престол Божий – и тот пошатнулся бы, если бы наши декреты дошли до него». В Версале узнали о взятии Бастилии только в полночь (король в этот день отметил в дневнике: «Ничего»). Как известно, лишь один придворный, герцог де Лианкур, понял смысл случившегося. – Но ведь это бунт! – удивленно воскликнул Людовик XVI, услышав новость. – Нет, Ваше Величество, это не бунт, это революция, – поправил его Лианкур. А когда королю доложили о смерти де Лоне, он равнодушно отозвался: «Ну что ж! Он вполне заслужил свою участь!» Вскоре Людовик XVI не погнушался надеть трехцветную кокарду, увидев которую Мария Антуанетта брезгливо поморщилась: «Я не думала, что выхожу замуж за мещанина». Так отреагировал двор на событие, возвещавшее будущую гибель монархии. Зато в обоих полушариях взятие Бастилии произвело огромное впечатление. Всюду, особенно в Европе, люди поздравляли друг друга с падением знаменитой государственной тюрьмы и с торжеством свободы. В Петербурге героями дня стали братья Голицыны, участвовавшие в штурме Бастилии с фузеями в руках. Генерал Лафайет послал своему американскому другу, Вашингтону, ключи от ворот Бастилии – они до сих хранятся в загородном доме президента США. Из Сан-Доминго, Англии, Испании, Германии слали пожертвования в пользу семейств погибших при штурме. Кембриджский университет учредил премию за лучшую поэму на взятие Бастилии. Архитектор Палуа, один из участников штурма, из камней крепости изготовил копии Бастилии и разослал их в научные учреждения многих европейских стран. Камни из стен Бастилии шли нарасхват: оправленные в золото, они появились в ушах и на пальцах европейских дам. В день взятия Бастилии, 14 июля, по предложению Дантона, городской комитет создал комиссию по разрушению крепости. Работы возглавил Палуа. Кроме того, четверым комиссарам поручили разобрать тюремный архив. Осмотр Бастилии привел ко многим открытиям. На стенах камер были найдены имена заключенных, не значившиеся в тюремном журнале (отчасти это могло объясняться тем, что множество документов сгорело и было растащено). В двух казематах обнаружили человеческие скелеты в цепях; почему их не предали земле, осталось тайной. Архивные документы еще раз подтвердили, по каким ничтожным поводам людей обрекали на долгие годы заточения. Так, одну женщину держали в Бастилии за то, что она имела «злой характер»; напротив многих имен значилось просто: «Заключен по подозрению». Когда стены Бастилии были снесены более чем наполовину, на ее руинах устроили народные гуляния и вывесили табличку: «Здесь танцуют». Окончательно крепость разрушили 21 мая 1791 года. Камни ее стен и башен были проданы с аукциона за 943 769 франков. Разрушение Бастилии не означало того, что новая власть больше не нуждалась в тюрьмах. Напротив, очень скоро наступили времена, когда о Бастилии, как, пожалуй, и обо всем старом режиме, многие французы стали вспоминать с ностальгией. Революционный произвол и насилие оставили далеко позади себя злоупотребления королевской власти, а каждый город обзавелся собственной якобинской бастилией, которые, в отличие от Бастилии королевской, никогда не пустовали. Взятие и разрушение Бастилии во времена Людовика XVI было очевидной военной и политической бессмыслицей, необходимой только некоторым демагогам для того, чтобы столкнуть лбами народ и королевскую власть. Две другие тюрьмы – Бисетр и Шарантон, где в ужаснейших условиях томились сотни заключенных, никто и пальцем не тронул. Эти, так сказать, «народные» тюрьмы не вызывали у народа такой ненависти, как Бастилия, – как-никак тюрьма для аристократов. Логика революционного мышления во все времена отличается каким-то загадочным, необъяснимым своеобразием… И все же не стоит забывать, чем долгие века была Бастилия для тысяч ее узников. Французский историк Мишле некогда взывал к своим соотечественникам: «Вы, которые проливаете реки слез над ужасами революции, пролейте хотя бы слезинку над ужасами, ее породившими». Мне остается лишь обратиться к читателю с запоздалой просьбой считать эти слова эпиграфом ко всей книге. Примечания 1 Прево города Парижа (prevot de Paris) отправлял правосудие, командовал войсками, собирал подати и был главой всех отраслей управления. Суд прево был одним из древнейших и высших во Франции. – Здесь и далее примеч. авт. 2 Тюрьма, карцер (фр.) 3 Феодальная группировка, возглавляемая графом Арманьяком. 4 С 1303 года резиденцией пап был г. Авиньон во Франции. 5 Сожительство с еврейкой считалось в средневековой Франции преступлением, за которое полагалась смертная казнь. 6 Коннетаблем первоначально назывался начальник кавалерии, а с 1191 года – Главнокомандующий войсками во время отсутствия короля. Звание коннетабля уничтожено в 1627 году. 7 Читатель, знакомый с творчеством Э. По, уже догадался, что эта история легла в основу сюжета «Лягушонка». 8 Oubliette (фр.) – подземная тюрьма, от слова oublier – забывать, предавать забвению. 9 Франциск I вел длительные войны в Италии против императора Священной Римской империи Карла V и стремился заручиться поддержкой итальянских князей. 10 Женева была центром кальвинизма. 11 Монтгомери-старший едва не убил Франциска I, в шутку бросив ему в голову горящее полено. 12 Пер. ГА. Калашниковой. 13 Монтгомери, спасаясь от мести Екатерины Медичи, бежал в Англию, где перешел в протестантство. В годы гугенотских войн он стал одним из вождей протестантов и был обезглавлен по королевскому приказу в 1574 г. 14 Колиньи Гаспар де Шатийон (1519—1572) – адмирал Франции. С 1569 года глава гугенотов. 15 Д' Обинье Теодор Агриппа (1552—1630) – гугенотский поэт и историк, соратник Генриха Наваррского. 16 Balafre – отмеченный шрамом (фр.), прозвище герцога Генриха де Гиза. 17 Титул брата короля 18 Приверженцы Католической Лиги. 19 Ближайший помощник Ришелье, отец Жозеф, принадлежал к ордену капуцинов, члены которого носили власяницы серого цвета, – отсюда его прозвище «серый кардинал». 20 Командорами назывались лица, получившие бенефиции Мальтийского ордена, которые назывались командориями (учреждены в 1260 году) 21 Шале арестовали двумя месяцами позднее, по обвинению в участии в новом заговоре – на этот раз против короля. Он был казнен в Нанте в 1626 году. 22 Интендантами называли управляющих провинциями. Они назначались королем и имели самые широкие полномочия, в частности в делах правосудия и фиска. 23 Мари де Отфор, впоследствии герцогиня де Шомбер (1616—1691), фрейлина Марии Медичи с 12 лет; была замешана во множестве интриг. 24 Конде Луи де Бурбон, герцог Энгиенский (1621—1686), выдающийся французский полководец. 25 Янсенисты – последователи епископа Ипрского Корнелия Янсена (ум. в 1638 г.). Учение Янсена о внутреннем, личном христианстве, направленное против главенства внешних обрядов в религиозной жизни, распространилось в основном среди образованных слоев французского общества. Сами янсенисты именовали себя «учениками святого Августина», чтобы подчеркнуть, что они остаются верными чадами Католической Церкви и избирают «средний путь» между кальвинизмом и пелагианством. При Людовике XIV янсенисты подверглись гонениям. 26 Указ Генриха IV, даровавший гугенотам свободу вероисповедания во Франции. Отменен Людовиком XIV в 1685 году, в результате чего около 500 тысяч гугенотов эмигрировали из Франции в Англию, Голландию, Швецию и другие протестантские страны. 27 Генеральный прокурор Парижского парламента имел весьма широкие функции и полномочия. В частности, в его обязанности входило курировать королевский домен, охранять права малолетних и галликанской Церкви. С XVI века эта должность покупалась и продавалась. В 1790 году должность генерального прокурора была уничтожена, но ее вновь восстановили в эпоху Первой империи. 28 «Двойные решетки с большими гвоздями, тройные двери с крепкими засовами, вы кажетесь адом одним преступникам; но для невинных людей вы только дерево, камень и железо». 29 Так назывались бесчинства, творимые драгунами в протестантских деревнях и городах и сопоставимые с действиями опричников при Иване Грозном. 30 До нас дошел эпизод с попыткой подкупить одного из тюремщиков – Блэнвиньера. «Вот, сударь, кольцо, которое я вам дарю и которое прошу принять», – сказал ему Маттеоли. Видимо, это был алмаз, подаренный ему Людовиком XIV. Во втором случае он написал несколько слов на подкладке карманов своего камзола, который должны были почистить – эта затея также не удалась. Подлинность обеих историй засвидетельствована в тюремных отчетах. 31 От фр. consteller – усыпать, усеивать драгоценностями. 32 Лекуврер Адриана – известная актриса того времени и любовница Вольтера. 33 Под командованием Дюмурье французские революционные войска в 1792 году одержали знаменитые победы при Вальми и Жемапе, спасшие республику от иностранной интервенции. В 1793 году Дюмурье возглавил военный заговор против Конвента, после провала которого бежал в Австрию. 34 Фридрих II Великий, прусский король и выдающийся полководец. 35 Жучки семейства нарывников, которые в высушенном виде применялись для изготовления нарывного пластыря. 36 Гюллен впоследствии стал генерал-лейтенантом, участником двадцати самых знаменитых сражений времен революции и Первой империи; Гош прославился в годы республики как непобедимый революционный генерал, усмиритель контрреволюции в Вандее и Бретани и защитник Франции от интервентов. 37 После падения Бастилии за свой великодушный поступок Обер Бонмер был награжден почетной саблей, которую он получил из рук Лафайета, и гражданской короной, возложенной ему на голову самой спасенной девушкой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
|||||||