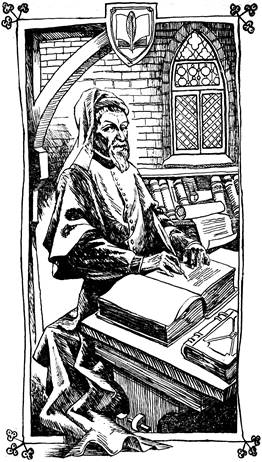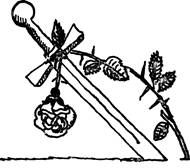Когда Апрель обильными дождями
Разрыхлил землю, взрытую ростками,
И, мартовскую жажду утоля,
От корня до зеленого стебля
Набухли жилки той весенней силой,
Что в каждой роще почки распустила,
А солнце юное в своем пути
Весь Овна знак успело обойти,
И, ни на миг в ночи не засыпая,
Без умолку звенели птичьи стаи,
Так сердце им встревожил зов весны, -
Тогда со всех концов родной страны
Паломников бессчетных вереницы
Мощам заморским снова поклониться
Стремились истово; но многих влек
Фома Бекет,
святой, что им помог
В беде иль исцелил недуг старинный,
Сам смерть приняв, как мученик безвинный.
Случилось мне в ту пору завернуть
В харчевню «Табард»
, в Соуерке, свой путь
Свершая в Кентербери по обету;
Здесь ненароком повстречал я эту
Компанию. Их двадцать девять было.
Цель общая в пути соединила
Их дружбою; они – пример всем нам -
Шли поклониться праведным мощам.
Конюшен, комнат в «Табарде» немало,
И никогда в нем тесно не бывало.
Едва обильный ужин отошел,
Как я уже со многими нашел
Знакомых общих или подружился
И путь их разделить уговорился.
И вот, покуда скромный мой рассказ
Еще не утомил ушей и глаз,
Мне кажется, что было бы уместно
Вам рассказать все то, что мне известно
О спутниках моих: каков их вид,
И звание, и чем кто знаменит
Иль почему в забвенье пребывает;
Мой перечень пусть Рыцарь открывает.
Тот рыцарь был достойный человек.
С тех пор как в первый он ушел набег,
Не посрамил он рыцарского рода;
Любил он честь, учтивость и свободу;
Усердный был и ревностный вассал.
И редко кто в стольких краях бывал.
Крещеные и даже басурмане
Признали доблести его во брани.
Он с королем Александрию брал,
На орденских пирах он восседал
Вверху стола, был гостем в замках прусских,
Ходил он на Литву, ходил на русских,
А мало кто – тому свидетель бог -
Из рыцарей тем похвалиться мог.
Им в Андалузии взят Алжезир
И от неверных огражден Алжир.
Был под Лайасом он и Саталией
И помогал сражаться с Бельмарией.
Не раз терпел невзгоды он и горе
При трудных высадках в Великом море,
Он был в пятнадцати больших боях;
В сердца язычников вселяя страх,
Он в Тремиссене трижды выходил
С неверным биться, – трижды победил.
Он помогал сирийским христианам
Давать отпор насильникам-османам,
И заслужил повсюду почесть он.
Хотя был знатен, все ж он был умен,
А в обхожденье мягок, как девица;
И во всю жизнь (тут есть чему дивиться)
Он бранью уст своих не осквернял -
Как истый рыцарь, скромность соблюдал.
А что сказать мне об его наряде?
Был конь хорош, но сам он не параден;
Потерт кольчугой был его камзол,
Пробит, залатан, в пятнах весь подол.
Он, возвратясь из дальнего похода,
Тотчас к мощам пошел со всем народом.
С собой повсюду сына брал отец.
Сквайр
был веселый, влюбчивый юнец
Лет двадцати, кудрявый и румяный.
Хоть молод был, он видел смерть и раны:
Высок и строен, ловок, крепок, смел,
Он уж не раз ходил в чужой предел;
Во Фландрии, Артуа и Пикардии
Он, несмотря на годы молодые,
Оруженосцем был и там сражался,
Чем милостей любимой добивался.
Стараньями искусных дамских рук
Наряд его расшит был, словно луг,
И весь искрился дивными цветами,
Эмблемами, заморскими зверями.
Весь день играл на флейте он и пел,
Изрядно песни складывать умел,
Умел читать он, рисовать, писать,
На копьях биться, ловко танцевать.
Он ярок, свеж был, как листок весенний.
Был в талию камзол, и по колени
Висели рукава.
Скакал он смело
И гарцевал, красуясь, то и дело.
Всю ночь, томясь, он не смыкал очей
И меньше спал, чем в мае соловей.
Он был приятным, вежливым соседом:
Отцу жаркое резал за обедом.
Не взял с собою рыцарь лишних слуг,
Как и в походах, ехал он сам-друг.
С ним Йомен был
, – в кафтане с капюшоном;
За кушаком, как и наряд, зеленым
Торчала связка длинных, острых стрел,
Чьи перья йомен сохранять умел -
И слушалась стрела проворных рук.
С ним был его большой могучий лук,
Отполированный, как будто новый.
Был йомен кряжистый, бритоголовый,
Студеным ветром, солнцем опален,
Лесной охоты ведал он закон.
Наручень пышный стягивал запястье,
А на дорогу из военной снасти
Был меч и щит и на боку кинжал;
На шее еле серебром мерцал,
Зеленой перевязью скрыт от взора,
Истертый лик святого Христофора.
Висел на перевязи турий рог -
Был лесником, должно быть, тот стрелок.
Была меж ними также Аббатиса -
Страж знатных послушниц и директриса.
Смягчала хлад монашеского чина
Улыбкой робкою мать Эглантина.
В ее устах страшнейшая хула
Звучала так: «Клянусь святым Элуа».
И, вслушиваясь в разговор соседний,
Все напевала в нос она обедню;
И по-французски говорила плавно,
Как учат в Стратфорде, а не забавным
Парижским торопливым говорком.
Она держалась чинно за столом:
Не поперхнется крепкою наливкой,
Чуть окуная пальчики в подливку,
Не оботрет их о рукав иль ворот.
Ни пятнышка вокруг ее прибора.
Она так часто обтирала губки,
Что жира не было следов на кубке.
С достоинством черед свой выжидала,
Без жадности кусочек выбирала.
Сидеть с ней рядом было всем приятно -
Так вежлива была и так опрятна.
Усвоив нрав придворных и манеры,
Она и в этом не теряла меры
И возбуждать стремилась уваженье,
Оказывая грешным снисхожденье.
Была так жалостлива, сердобольна,
Боялась даже мышке сделать больно
И за лесных зверей молила небо.
Кормила мясом, молоком и хлебом
Своих любимых маленьких собачек.
И все нет-нет – игуменья заплачет:
Тот песик околел, того прибили -
Не все собак игуменьи любили.
Искусно сплоенное покрывало
Высокий, чистый лоб ей облегало.
Точеный нос, приветливые губки
И в рамке алой крохотные зубки,
Глаза прозрачны, серы, как стекло, -
Все взор в ней радовало и влекло.
Был ладно скроен плащ ее короткий,
А на руке коралловые четки
Расцвечивал зеленый малахит.
На фермуаре золотой был щит
С короной над большою буквой «А»,
С девизом: «Amor vincit omnia».
Была черница с нею для услуги
И трое Капелланов; на досуге
Они вели с Монахом важным спор.
Монах был монастырский ревизор.
Наездник страстный, он любил охоту
И богомолье – только не работу.
И хоть таких монахов и корят,
Но превосходный был бы он аббат:
Его конюшню вся округа знала,
Его уздечка пряжками бренчала,
Как колокольчики часовни той,
Доход с которой тратил он, как свой.
Он не дал бы и ломаной полушки
За жизнь без дам, без псарни, без пирушки.
Веселый нравом, он терпеть не мог
Монашеский томительный острог,
Устав Маврикия и Бенедикта
И всякие прескрипты и эдикты.
А в самом деле, ведь монах-то прав,
И устарел суровый сей устав:
Охоту запрещает он к чему-то
И поучает нас не в меру круто:
Монах без кельи – рыба без воды.
А я большой не вижу в том беды.
В конце концов монах – не рак-отшельник,
Что на спине несет свою молельню.
Он устрицы не даст за весь тот вздор,
Который проповедует приор.
Зачем корпеть средь книг иль в огороде,
Зачем тощать наперекор природе?
Труды, посты, лишения, молитвы -
На что они, коль есть любовь и битвы?
Пусть Августин печется о спасенье,
А братии оставит прегрешенья.
Был наш монах лихой боец, охотник.
Держал борзых на псарне он две сотни:
Без травли псовой нету в жизни смысла.
Он лебедя любил с подливкой кислой.
Был лучшей белкой плащ его подбит.
Богато вышит и отлично сшит.
Застежку он, как подобает франтам,
Украсил золотым «любовным бантом».
Зеркальным шаром лоснилась тонзура,
Свисали щеки, и его фигура
Вся оплыла; проворные глаза
Запухли, и текла из них слеза.
Вокруг его раскормленного тела
Испарина, что облако, висела.
Ему завидовал и сам аббат -
Так представителен был наш прелат.
И сам лицом упитанный, румяный,
И сапожки из лучшего сафьяна,
И конь гнедой, артачливый на вид.
С ним рядом ехал прыткий Кармелит.
Брат сборщик был он
– важная особа.
Такою лестью вкрадчивою кто бы
Из братьи столько в кружку мог добыть?
Он многим девушкам успел пробить
В замужество путь, приданым одаря;
Крепчайшим был столпом монастыря.
Дружил с франклинами
он по округе,
Втирался то в нахлебники, то в други
Ко многим из градских почтенных жен;
Был правом отпущенья наделен
Не меньшим, говорил он, чем священник -
Ведь папой скреплено то отпущенье.
С приятностью монах исповедал,
Охотно прегрешенья отпускал.
Епитимья его была легка,
Коль не скупилась грешника рука.
Ведь щедрые на церковь приношенья -
Знак, что замолены все прегрешенья,
И, покаянные дары приняв,
Поклялся б он, что грешник чист и прав.
«Иные, мол, не выдавят слезы
И не заставят каяться язык,
Хотя бы сердцем тайно изнывали
И прегрешений скверну сознавали.
Так, чтоб избегнуть плача и поста,
Давай щедрее – и душа чиста».
Он в капюшоне для своих подружек
Хранил булавок пачки, ниток, кружев.
Был влюбчив, говорлив и беззаботен.
Умел он петь и побренчать на роте.
Никто не пел тех песен веселей.
Был телом пухл он, лилии белей.
А впрочем, был силач, драчун изрядный,
Любил пиров церемониал парадный.
Трактирщиков веселых и служанок
И разбитных, дебелых содержанок.
Возиться с разной вшивой беднотою?
Того они ни капельки не стоят:
Заботы много, а доходов мало,
И норову монаха не пристало
Водиться с нищими и бедняками,
А не с торговцами да с богачами.
Коль человек мог быть ему полезен,
Он был услужлив, ласков и любезен,
На откуп отпущения он брал,
К стадам своим других не подпускал.
Хоть за патент платил в казну немало,
Но сборами расходы покрывал он.
Так сладко пел он «In principio»
Вдове разутой, что рука ее
Последнюю полушку отдавала,
Хотя б она с семьею голодала.
Он, как щенок, вокруг нее резвился:
Такой, да своего бы не добился!
В судах любви охотно он судил,
И приговоры брат сей выносил
Так, словно был он некий кардинал.
Он рясою своею щеголял -
Не вытертой монашеской ряднины,
А лучшего сукна, и пелерина
Вокруг тверда, как колокол, торчала.
Чуть шепелявил он, чтобы звучала
Речь английская слаще для ушей.
Он пел под арфу, словно соловей,
Прищурившись умильно, и лучи
Из глаз его искрились, что в ночи
Морозной звезды. Звался он Губертом.
Купец с ним ехал, подбоченясь фертом,
Напялив много пестрого добра.
Носил он шапку фландрского бобра
И сапоги с наборным ремешком
Да бороду. Он толковал о том,
Как получать, как сберегать доходы.
Он требовал, чтоб охранялись воды
В пути из Миддлбурга в Оруэлл.
Он курс экю высчитывать умел
И знатно на размене наживался
И богател, а то и разорялся,
Но ото всех долги свои скрывал.
Охотно деньги в рост купец давал,
Но так искусно вел свои расчеты,
Что пользовался ото всех почетом.
Не знаю, право, как его зовут.
Прервав над логикой усердный труд,
Студент оксфордский с нами рядом плелся.
Едва ль беднее нищий бы нашелся:
Не конь под ним, а щипаная галка,
И самого студента было жалко -
Такой он был обтрепанный, убогий,
Худой, измученный плохой дорогой.
Он ни прихода не сумел добыть,
Ни службы канцелярской. Выносить
Нужду и голод приучился стойко.
Полено клал он в изголовье койки.
Ему милее двадцать книг иметь,
Чем платье дорогое, лютню, снедь.
Он негу презирал сокровищ тленных,
Но Аристотель – кладезь мыслей ценных -
Не мог прибавить денег ни гроша,
И клерк их клянчил, грешная душа,
У всех друзей и тратил на ученье
И ревностно молился о спасенье
Тех, щедрости которых был обязан.
К науке он был горячо привязан.
Но философия не помогала
И золота ни унца не давала.
Он слова лишнего не говорил
И слог высокий мудрости любил -
Короткий, быстрый, искренний, правдивый;
Он сыт был жатвой с этой тучной нивы.
И, бедняком предпочитая жить,
Хотел учиться и других учить.
Был с ними важный, чопорный Юрист.
Он, как искусный, тонкий казуист,
На паперти
был очень уважаем
И часто на объезды назначаем.
Имел патент он на свои права.
И ширилась о нем в судах молва.
Наследство от казны он ограждал,
В руках семьи именье сохранял.
Клиенты с «мантией» к нему стекались;
Его богатства быстро умножались.
Не видел свет стяжателя такого,
И все ж о нем не слышали дурного.
Ведь сколько б взяток ни дал виноватый -
Он оправдать умел любую плату.
Работник ревностный, пред светом целым,
Не столько был им, сколько слыть умел им.
Он знал законы со времен Вильяма
И обходил – уловкой или прямо -
Любой из них, но были неоспорны
Его решенья. Он носил узорный
Камзол домашний с шитым пояском.
Пожалуй, хватит говорить о нем.
С ним разговаривал, шутя, Франклин.
Не знал он отроду, что значит сплин.
Не мог бы он на жизнь коситься хмуро -
Был в том достойным сыном Эпикура,
Сказавшего, что счастлив только тот,
Кто, наслаждаясь, весело живет.
Белее маргаритки борода
Была холеная. И не вода -
Вино с утра седины обмывало,
Когда на завтрак в чашу хлеб макал он.
Франклин хозяином был хлебосольным,
Святым Юльяном
слыл он сердобольным:
Всегда его столы для всех накрыты,
А повара и вина знамениты.
Жара ль стоит, иль намело сугробы -
Он стол держал для всех погод особый.
Был у него в пруду садок отличный
И много каплунов и кур на птичне.
И горе повару, коль соус пресен,
И мажордому, если стол чуть тесен.
На сессиях
франклин держался лордом,
В парламенте отстаивал он гордо
Свои права, обиды не спускал,
Не раз в палате графство представлял.
Он выделялся дорогим нарядом:
На белом поясе висели рядом
Богатый нож и шитый кошелек,
А в нем заморский шелковый платок.
Он был шериф
и пени собирал,
Ну, словом, образцовый был вассал.
Красильщик, Плотник, Шапочник и Ткач,
Обойщик с ними – не пускались вскачь,
Но с важностью, с сознанием богатства,
В одежде пышной цехового братства
Могучего, молясь все время богу,
Особняком держались всю дорогу.
Сукно добротное, ножи в оправе -
Не медной, а серебряной. Кто равен
Богатством, мудростью таким мужам
Совета и почтенным старшинам,
Привыкнувшим к труду, довольству, холе?
Они не тщетно заседать в Гилдхолле
Надеялись – порукой был доход.
Заслуги, честность, возраст и почет.
И жены помогали в том мужьям,
Чтоб только величали их «мадам»,
Давали б в церкви место повидней
И разрешали б шлейф носить длинней.
Они с собою Повара везли,
Чтоб он цыплят варил им, беф-буйи,
И запекал им в соусе румяном
С корицей пудинги иль с майораном.
Умел варить, тушить он, жарить, печь;
Умел огонь как следует разжечь;
Похлебку он на славу заправлял;
Эль лондонский
тотчас же узнавал.
Но в нем болезнь лихая угнездилась -
Большая язва на ноге гноилась.
Жаль, вкусные изготовлял он яства.
Был Шкипер там из западного графства.
На кляче тощей, как умел, верхом
Он восседал; и до колен на нем
Висел, запачканный дорожной глиной,
Кафтан просторный грубой парусины;
Он на шнурке под мышкою кинжал
На всякий случай при себе держал.
Был он поистине прекрасный малый
И грузов ценных захватил немало.
Лишь попадись ему купец в пути,
Так из Бордо
вина не довезти.
Он с совестью своею был сговорчив
И, праведника из себя не корча,
Всех пленников, едва кончался бой,
Вмиг по доске спроваживал домой.
Уже весной он был покрыт загаром.
Он брался торговать любым товаром
И, в ремесле своем большой мастак,
Знал все течения, любой маяк
Мог различить, и отмель, и утес.
Еще ни разу с курса не отнес
Отлив его; он твердо в гавань правил
И лоцию сам для себя составил.
Корабль он вел без карт и без промера
От Готланда до мыса Финистера,
Все камни знал Бретонских берегов,
Все входы бухт испанских и портов;
Немало бурь в пути его встречало
И выцветшую бороду трепало;
От Гулля и до самой Картахены
Все знали капитана «Маделены».
Был с нами также Доктор медицины.
С ним в ремесле врачебном ни единый
Врач лондонский соперничать не мог;
К тому ж он был искусный астролог;
Он, лишь когда звезда была в зените,
Лечил больного; и, связав все нити
Его судеб, что гороскоп дает,
Болезней он предсказывал исход, -
Выздоровления иль смерти сроки.
Прекрасно знал болезней он истоки:
Горяч иль холоден, мокр или сух
Больного нрав,
а значит, и недуг.
Как только он болезнь определял,
Он тотчас же лекарство назначал,
А друг аптекарь эту рецептуру
Вмиг обращал в пилюли и микстуру.
Они давно тем делом занимались
И с помощью взаимной наживались.
Ученостью и знаньем был богат он.
Он Эскулапа знал и Гиппократа,
Диоскорида, Цельса, Гильбертина,
Знал Руфа, Аверройса, Константина,
Дамаскина, Гали и Галиена.
Знал Авиценну, также Гатисдена.
Был осмотрителен, во всем умерен,
Раз навсегда своей диете верен:
Питательный, но легкий рацион.
В писании не очень был силен.
Носил малиновый и синий цвет,
И шелковый был плащ на нем надет.
А впрочем, тратился он неохотно,
Со дней чумы
сберег мешочек плотный;
И золото – медикамент целебный
-
Хранил, должно быть, как припас лечебный.
А с ним болтала Батская ткачиха,
На иноходце восседая лихо;
Но и развязностью не скрыть греха -
Она была порядочно глуха.
В тканье была большая мастерица -
Ткачихам гентским в пору подивиться.
Благотворить ей нравилось, но в храм
Пред ней протиснись кто-нибудь из дам,
Вмиг забывала, в яростной гордыне,
О благодушии и благостыне.
Платков на голову могла навесить,
К обедне снаряжаясь, сразу десять,
И все из шелка иль из полотна;
Чулки носила красные она
И башмачки из мягкого сафьяна.
Лицом бойка, пригожа и румяна,
Жена завидная она была
И пятерых мужей пережила,
Гурьбы дружков девичьих не считая
(Вокруг нее их увивалась стая).
В Булонь и в Бари, в Кельн, в Сантьяго, в Рим
И трижды в град святой – Иерусалим -
Ходила на поклон святым мощам,
Чтобы утешиться от горя там.
Она носила чистую косынку;
Большая шляпа, формой что корзинка,
Была парадна, как и весь наряд.
Дорожный плащ обтягивал ей зад.
На башмачках она носила шпоры,
Любила шутки, смех и разговоры
И знала все приманки и коварства
И от любви надежные лекарства.
Священник ехал с нами приходской,
Он добр был, беден, изнурен нуждой.
Его богатство – мысли и дела,
Направленные против лжи и зла.
Он человек был умный и ученый,
Борьбой житейской, знаньем закаленный.
Он прихожан Евангелью учил
И праведной, простою жизнью жил.
Был добродушен, кроток и прилежен
И чистою душою безмятежен.
Он нехотя проклятью предавал
Того, кто десятину забывал
Внести на храм и на дела прихода.
Зато он сам из скудного дохода
Готов был неимущих наделять,
Хотя б пришлось при этом голодать.
Воздержан в пище был, неприхотлив,
В несчастье тверд и долготерпелив.
Пусть буря, град, любая непогода
Свирепствует, он в дальний край прихода
Пешком на ферму бедную идет,
Когда больной иль страждущий зовет.
Примером пастве жизнь его была:
В ней перед проповедью шли дела.
Ведь если золота коснулась ржа,
Как тут железо чистым удержать?
К чему вещать слова евангелиста,
Коль пастырь вшив, а овцы стада чисты?
Он не держал прихода на оброке,
Не мог овец, коснеющих в пороке,
Попу-стяжателю на откуп сдать,
А самому в храм лондонский сбежать:
Там панихиды петь, служить молебны,
Приход добыть себе гильдейский, хлебный.
Он оставался с паствою своей,
Чтоб не ворвался волк в овчарню к ней.
Был пастырь добрый, а не поп наемный;
Благочестивый, ласковый и скромный,
Он грешных прихожан не презирал
И наставленье им преподавал
Не жесткое, надменное, пустое,
А кроткое, понятное, простое.
Благим примером направлял их в небо
И не давал им камня вместо хлеба.
Но коль лукавил грешник закоснелый,
Он обличал его в глаза и смело
Епитимью на лордов налагал.
Я лучшего священника не знал.
Не ждал он почестей с наградой купно
И совестью не хвастал неподкупной;
Он слову божью и святым делам
Учил, но прежде следовал им сам.
С ним ехал Пахарь – был ему он брат.
Терпеньем, трудолюбием богат,
За век свой вывез в поле он навоза
Телег немало; зноя иль мороза
Он не боялся, скромен был и тих
И заповедей слушался святых,
Будь от того хоть прибыль, хоть убыток,
Был рад соседа накормить досыта,
Вдовице брался землю запахать:
Он ближнему старался помогать.
И десятину нес трудом иль платой,
Хотя имел достаток небогатый.
Его штаны кругом в заплатах были.
На заморенной ехал он кобыле.
И Мельник ехал с ними – ражий малый,
Костистый, узловатый и бывалый.
В кулачных схватках всех он побеждал
И приз всегда – барана – получал.
Был крепок он и коренаст, плечом
Мог ставню высадить, вломиться в дом.
Лишь подзадорь – и, разъярясь, как зверь,
Сшибить он с петель мог любую дверь.
Лопатой борода его росла
И рыжая, что лисий мех, была.
А на носу, из самой середины,
На бородавке вырос пук щетины
Такого цвета, как в ушах свиньи;
Чернели ноздри, будто полыньи;
Дыханьем грудь натужно раздувалась,
И пасть, как устье печки, разевалась.
Он бабник, балагур был и вояка,
Кощун, охальник, яростный гуляка.
Он слыл отчаянным лгуном и вором:
В мешок муки умел подсыпать сора
И за помол тройную плату взять.
Но мельник честный – где его сыскать?
Взял в путь он меч и щит для обороны;
В плаще был белом с синим капюшоном.
Он на волынке громко заиграл,
Когда поутру город покидал.
Был рядом с ним, удачливый во всем,
Судейского подворья Эконом.
На всех базарах был он знаменит:
Наличными берет он иль в кредит -
Всегда так ловко бирки он сочтет,
Что сливки снимет и свое возьмет.
Не знак ли это благости господней,
Что сей невежда богу был угодней
Ученых тех, которых опекал
И за чей счет карман свой набивал?
В его подворье тридцать клерков жили,
И хоть меж них законоведы были,
И даже было среди них с десяток
Голов, достойных ограждать достаток
Знатнейшего во всей стране вельможи,
Который без долгов свой век бы прожил
Под их опекой вкрадчивой, бесшумной
(Будь только он не вовсе полоумный), -
Мог эконом любого околпачить,
Хоть научились люд они дурачить.
Тщедушный ехал рядом Мажордом.
Он щеки брил, а волосы кругом
Лежали скобкою, был лоб подстрижен,
Как у священника, лишь чуть пониже.
Он желт, и сух, и сморщен был, как мощи,
А ноги длинные, что палки, тощи.
Так овцам счет умел вести он, акрам
И так подчистить свой амбар иль закром,
Что сборщики все оставались с носом.
Он мог решать сложнейшие вопросы:
Какой погоды ждать? И в дождь иль в зной
С земли возможен урожай какой?
Хозяйский скот, коровни и овчарни,
Конюшни, птичник, огород, свинарни
У мажордома под началом были.
Вилланов
сотни у него служили.
Он никогда не попадал впросак.
Пастух ли, староста, слуга ль, батрак -
Всех видел он насквозь, любые плутни
Мог разгадать, лентяи все и трутни
Его страшились пуще злой чумы:
За недоимки не избыть тюрьмы,
В уплату ж все имущество возьмет,
В своем отчете дыры тем заткнет.
Он сад развел и двор обнес свой тыном,
В усадьбе пышной жил он господином.
Милорда своего он был богаче.
Да и могло ли быть оно иначе?
Умел украсть, умел и поживиться,
К хозяину умильно подольститься,
И лорда деньги лорду он ссужал.
За что подарки тут же получал.
А впрочем, ревностный он был работник
И в молодости преизрядный плотник.
Коня он взял за стать и резвый ход,
Конь серый в яблоках, а кличка: «Скотт».
Жил в Норфолке почтенный мажордом,
Под Болдсуэллом, коль слышали о нем.
Хоть ржав был меч, но, как пристало тану,
Его носил он; синюю сутану,
Как рясу, подобрал, в седле согнулся
И до конца в хвосте у нас тянулся.
Церковного суда был Пристав с нами.
Как старый Вакх, обилен телесами,
Он угреват был, глазки – словно щелки.
И валик жиру на багровой холке.
Распутен и драчлив, как воробей,
Пугал он красной рожею детей.
И весь в парше был, весь был шелудивый;
А с бороды его, с косматой гривы
Ни ртуть, ни щелок, ни бура, ни сера
Не выжгли бы налета грязи серой,
Не скрыли бы чесночную отрыжку
И не свели бы из-под носа шишку.
Чеснок и лук он заливал вином
И пьяным басом грохотал, как гром.
Напившись, он ревел в своей гордыне,
Что изъясняется-де по-латыни.
А фраз латинских разве три иль две
В его тупой застряли голове
Из формул тех, что много лет подряд
В суде при нем твердили и твердят
(Так имя Вальтер повторяет бойко
Хозяином обученная сойка).
А вот спроси его и, кроме дури,
Одно услышишь: «Questio quid juris?»
Прожженный был игрок он и гуляка,
Лихой добытчик, дерзкий забияка.
За кварту эля он бы разрешил
Блудить пройдохе, хоть бы тот грешил
Напропалую, с простака ж он шкуру
Сдирал, чтоб рот не разевал тот сдуру.
Найдя себе приятеля по нраву,
Его учил церковному он праву:
Как отлучением пренебрегать,
Коль в кошельке не думаешь скрывать
Свои деньжонки. «Каждому понятно.
Что рай никто не обретет бесплатно.
И ты себя напрасно, друг, не мучь.
Скрыт от викариева
рая ключ
В твоей мошне». Он в этом ошибался:
Насколько б человек ни заблуждался,
Но хоть кого на верный путь направит
Викарьев посох иль «Significavit».
Знал молодежь во всем он диоцезе
И грешникам бывал не раз полезен:
Им в затруднениях давал совет.
Был на челе его венок надет
Огромный, – словно с вывески пивной.
В руках не щит был – каравай ржаной.
С ним Продавец был индульгенций папских,
Он приставу давно был предан рабски.
Чтобы его получше принимали,
Он взял патент от братства Ронсеваля.
Теперь, с товаром воротясь из Рима,
Он, нежной страстью к приставу томимый,
Все распевал: «Как сладко нам вдвоем!» -
Своим козлиным, жидким тенорком,
И друг его могучим вторил басом,
Мог голос зычный спорить с трубным гласом.
Льняных волос безжизненные пряди
Ложились плоско на плечи, а сзади
Косичками казались, капюшон
Из щегольства давно припрятал он
И ехал то совсем простоволосый,
То шапкой плешь прикрыв, развеяв косы
По новой моде – встречным напоказ.
В тулью был вшит Нерукотворный Спас.
Он индульгенций короб, с пылу с жару,
Из Рима вез по шиллингу за пару.
Глаза его, как заячьи, блестели.
Растительности не было на теле,
А щеки гладкие желты, как мыло.
Казалось, мерин он или кобыла,
И хоть как будто хвастать тут и нечем -
Об этом сам он блеял по-овечьи.
Но что касается святого дела -
Соперников не знал, скажу я смело.
Такой искусник был, такой был хват!
В своем мешке хранил чудесный плат
Пречистой девы и клочок холстины
От савана преславныя кончины.
Еще был крест в цветных камнях-стекляшках,
Была в мешке и поросячья ляжка,
С их помощью, обманщик и нахал,
В три дня он денег больше собирал,
Чем пастырь деревенский за полгода
Мог наскрести с голодного прихода;
И, если должное ему воздать, -
Умел с амвона петь он, поучать.
Умел и речь держать пред бедным людом,
Когда по церкви с кружкой шел иль с блюдом.
Он знал, что проповедью, поученьем
Народ склонить нетрудно к приношеньям.
И на амвоне, не жалея сил,
Он во всю мочь акафист голосил.
Теперь, когда я рассказал вам кратко,
Не соблюдая должного порядка,
Про их наряд, и званье, и причину
Того, что мы смешались не по чину,
Расположась просторно и привольно
В таверне, возле старой колокольни, -
Пора сказать, как время провели
Мы в этот вечер, как мы в путь пошли
И чем досуг в дороге заполняли.
Чтоб в озорстве меня не упрекали,
Вас попрошу я не винить меня
За то, что в точности припомню я
Все речи вольные и прибаутки.
Я это делаю не ради шутки:
Ведь знаю я, что, взявшись рассказать
Чужой рассказ, не надо выпускать
Ни слова из того, что ты запомнил,
Будь те слова пространны иль нескромны,
Иначе все неправдой извратишь,
Быль в небылицу тотчас обратишь,
И брату не давай при том пощады:
Рассказывай о всех поступках кряду.
Спаситель путь указывал нам верный:
Он прямо обличал, и нет в том скверны.
Кто сомневается, пускай прочтет,
Как говорил Платон на этот счет:
Велел он слову действиям быть братом.
Коль не сумел в сем сборище богатом,
Где знать и чернь, и господа и слуги,
Всем должное воздать я по заслуге, -
Что ж, видно, было это не под силу, Ума, уменья, значит, не хватило.
Трактирщик наш, приветливо их встретив,
За ужин усадил и, чтоб согреть их,
Сготовил снедь и доброе вино
На стол поставил, и текло оно
Весь вечер за веселым разговором,
Шутливой песней, дружелюбным спором.
Хозяин наш
– осанкой молодецкой
С ним не сравнялся б виндзорский дворецкий -
Был статен, вежлив и во всяком деле
Сноровист, весел и речист. Блестели
Его глаза и речь была смела.
И только что мы все из-за стола
Успели встать и заплатить за ужин,
Как он сказал, смеясь, что хоть не нужен
Наш тост ответный, но он даст совет,
Который помогал от многих бед,
Первей всего от скуки: «Вас всегда,
Друзья почтенные и господа, -
Так молвил он, – я видеть рад сердечно:
Такой веселой и такой беспечной
Беседы я давно уж не слыхал,
И целый год мой дом не принимал
Таких веселых и простых гостей,
У радости я не хочу в хвосте
Плестись и ваши милости делить -
Я мысль одну хочу вам подарить.
Идете в Кентербери вы к мощам,
И благость божия воздастся вам.
Но вижу, что – на отдыхе ль, в дороге ль -
Не будете вы чопорны и строги:
Свой дух рассказом будете бодрить,
Кому веселость может повредить?
Коль с рожей постной едет путник бедный,
Вот это плохо, это даже вредно.
Но вы, друзья, послушавши меня,
По вечерам, слезаючи с коня,
Свежи и веселы и не усталы
Пребудете, – тоски как не бывало.
Так соглашайтесь! Если ж не удастся
Мой замысел, пусть гром с небес раздастся
И прах отца из гроба пусть встает,
Меня ж земля пусть тотчас же пожрет».
Недолго мы и в этот раз чинились,
И выслушать его все согласились.
«Друзья, – сказал он, – мой совет примите,
Меня ж не очень рьяно вы хулите,
Хоть он, быть может, незамысловат,
Я думаю, что каждый был бы рад
В пути соседей сказкой позабавить,
Иль вспомнить быль, иль доблести прославить.
Пусть два рассказа каждый подберет,
А два других вдобавок припасет,
Чтоб рассказать их нам в пути обратном.
Кто лучше всех полезное с приятным
Соединит – того мы угостим,
Когда, воздав хвалу мощам святым,
Ко мне воротимся. На общий счет
Устроим пир мы. Я же в свой черед
Свою веселость с вашей разделить
Готов охотно, чтобы рассудить,
Кому из вас награда подобает.
Не надо платы мне. Кто ж не признает
Решенья моего, расходы тот
Поездки всей пусть на себя берет.
Коль подчиниться моему приказу
Согласны вы, так говорите сразу,
И к утру я в дорогу соберусь».
Мы рады были всей затеи груз
Ему доверить, принесли присягу,
Что без него не сделаем ни шагу.
Его же обязали быть судьей
И предоставить дом просторный свой,
Чтоб победителя в нем угостить,
А плату самому определить.
Без возражений это порешив,
Опять мы выпили и, отложив
На утро сборы, улеглися спать.
А поутру, чуть стало рассветать,
Хозяин встал, и, поддавая пару,
Нас кукареканьем он сбил в отару.
Гурьбой, верхом, с волынкой вместо флага,
Мы поплелись чуть побыстрей, чем шагом.
Но вот хозяин придержал коня.
«Друзья, – вскричал, – послушайте меня:
Когда согласна утреня с вечерней,
Тому из вас, кто слово держит верно,
Пора начать и нам служить примером,
А увильнет – тогда приму я меры.
И пусть не пить мне эля и вина,
Коль не заплатит он за все сполна!
Потянем жребий, на кого падет
Рассказывать, тот первый пусть начнет.
Почтенный рыцарь, тянете вы первый;
Мать аббатиса, бросьте четок перлы;
Вам, господин студент, пора забыть
Застенчивость и перестать зубрить.
Сюда, ко мне, пусть каждый тянет жребий».
И, видно, было суждено на небе
Иль тут судьею нашим решено,
Но только все мы дружно, заодно
Судьбы разумной встретили решенье,
Чтоб рыцарь выдумку иль приключенье
По жребью первым тут же рассказал.
Когда тот жребий рыцарь увидал,
Решению судьбы он покорился
И рассказать нам повесть согласился:
«Коль рок велит мне, – он сказал, – начать,
То помоги мне, пресвятая мать.
Не будем прерывать, друзья, дорогу.
Держитесь ближе, я же понемногу
Рассказывать вам буду той порой».
Мы тронулись, и вот рассказ он свой
Неторопливо начал и смиренно,
С веселостью и важностью почтенной.
Тут конец пролога в книге и начало первого рассказа, а именно рассказа Рыцаря
Предания давно минувших дней
Нам говорят, что некогда Тезей
Афинами единовластно правил,
Что он себя победами прославил,
Которым равных не было дотоле,
И подчинил своей могучей воле
Немало крупных и богатых стран.
Он покорил и славный женский стан,
Что Скифией когда-то назывался,
С отважной королевой обвенчался,
Прекрасной Ипполитой, и с сестрой
Эмилией повез ее домой.
Под музыку и радостные клики
В Афины герцог двинулся великий;
Делило с ним победы торжество
Все воинство блестящее его.
Когда б я мог без счета тратить время,
Я б рассказал с подробностями всеми,
Как амазонок победил Тезей
Коварством и отвагою своей,
Как разыгралось главное сраженье,
Приведшее наездниц к пораженью,
Как осажден был Ипполитин град
Афинским храбрым воинством и взят,
Как свадьбу их отпраздновали в храме,
Украшенном огнями и цветами.
Но это все оставлю в стороне:
Идти за плугом долго нужно мне,
А он волами тощими влечется;
Вам рассказать мне много остается,
Я не хотел бы помешать другим
Успеть с рассказом выступить своим.
Посмотрим, ужин ждет кого из нас!
Итак, продолжу прерванный рассказ.
Когда мной упомянутый герой
Стоял почти под городской стеной
В слепящем блеске торжества и славы,
Он увидал, что перед ним заставой
Вдруг вырос ряд одетых в траур дам,
Склонивших головы к его стопам.
Все, на коленях стоя, к паре пара,
Рыдали так отчаянно и яро,
Что можно утверждать: никто на свете
Не слышал воплей горестней, чем эти.
Рыдая и судьбу свою кляня,
Они схватили под уздцы коня.
«Что означает в праздничный сей миг, -
Спросил Тезей, – ваш исступленный крик?
Ужель из зависти внести отраву
В мою победную хотите славу?
Иль кто-нибудь нанес обиду вам?
Скажите мне, и я ему воздам.
Зачем вы в платье черное одеты?»
Тут старшая в толпе несчастной этой,
Издав предсмертному подобный стон,
Которым каждый был бы поражен,
Сказала: «Господин, себе по праву
Победой ты стяжал и честь и славу,
И нам нельзя завидовать тебе;
Но нашей горестной внемли мольбе
И смилуйся над жалкой долей нашей,
Хоть капля сострадания из чаши
Твоих щедрот на нас пусть упадет,
Ведь каждая из нас ведет свой род
От княжеской иль королевской крови, -
Меж тем в пыли влачим мы век свой вдовий,
Коварный рок, увы, неумолим:
Всех давит злобным колесом своим.
О господин, мы ждем тебя с войсками
Уж целую неделю в этом храме
Богини милосердья. Помоги нам,
Яви себя всесильным властелином.
Я, что сдержать рыданий не умею,
Была женой владыки Капанея,
Который в Фивах пал в проклятый час.
Проклятие да ляжет и на нас,
Рыдающих теперь перед тобою.
Мужей лишились мы во время боя,
Когда был город Фивы осажден.
Теперь же – горе нам! – старик Креон,
Что ныне царствует в пределах Фив,
Исполнен гнева и несправедлив,
Тиранства ради и из жажды зла,
Чтоб обесчестить мертвые тела
Фиванцев, павших в лютой битве той,
Велел сложить из трупов холм большой,
И ни за что не допускает он,
Чтобы сожжен был кто иль погребен:
Всех псам обрек он мерзостным приказом».
И с этими словами дамы разом
Все пали ниц, издав плачевный стон:
«О, пожалей нас, безутешных жен,
Чтоб горесть наша в грудь твою вошла».
Тут знатный герцог вмиг сошел с седла,
Скорбя об их несчастье и позоре.
Он думал, сердце надорвется с горя,
Узнав о том, что довелось снести
Недавно жившим в славе и в чести.
Фиванок он в объятья заключил,
Стал тихо утешать по мере сил
И в том им дал торжественное слово,
Что всей своею мощью так сурово
Мучителю Креону отомстит,
Что в Греции народ заговорит
О том, как поступил Тезей с Креоном,
Достойным казни по любым законам.
И в тот же час, не мешкая ничуть,
Он, распустив свой стяг, помчался в путь -
К твердыне Фивам во главе дружины.
Не въехал он и не вошел в Афины,
Не отдыхал и половины дня,
Всю ночь в походе не слезал с коня,
Царицу ж Ипполиту той порой
С красой Эмилией, ее сестрой,
Послал в Афины жить в чести и в холе,
А сам на бранное помчался поле.
С копьем и со щитом, багряно ал,
Бог Марс на белом знамени сиял,
По складкам стяга всюду блеск свой сея,
А рядом трепетал флажок Тезея,
Весь златом тканный: там набит, глядите,
Тот Минотавр, что им сражен на Крите.
Так ехал герцог, славный сын побед,
А с ним и рыцарства блестящий цвет,
Пока у Фив не стал он на лугу,
Где дать решил сражение врагу.
Но сокращу я повести объем.
Креона он, что в Фивах был царем,
В бою открытом поразил геройски,
Посеял страх и бегство в фивском войске
И приступом их град завоевал,
Разбивши стены крепкие и вал.
Несчастным вдовам возвратил он прах
Супругов их, поверженных в боях,
Чтоб, по обряду древних, трупы сжечь.
Но чересчур бы затянулась речь
Про скорбный плач, про вопли без числа,
Про горе дам, покуда жгли тела,
Про почести, что в милости своей
Сей победитель доблестный, Тезей,
При расставанье оказал тем вдовам…
Прослыть я не желаю многословом.
Победоносный вождь Тезей, сразив
В бою Креона, стал владыкой Фив.
Проночевал он ночь в открытом поле,
И край перед его смирился волей.
Чтоб обобрать тела убитых всех,
Чтоб с них совлечь одежду и доспех,
Трудились тати рьяно и исправно
На утро той победы достославной
И вот нашли средь груды бездыханной
Покрытых не одной кровавой раной
Двух рыцарей младых, лежавших рядом,
В доспехах сходных, с дорогим окладом,
Из коих звали одного Арситой,
Другой же Паламон был знаменитый.
Смерть овладела ими не вполне,
И тотчас в них герольды по броне
Признали августейших двух господ,
Ведущих от владыки Фив свой род -
Двух сыновей от царственных сестер.
К Тезею братьев отнесли в шатер,
Отрывши из-под кучи мертвых тел.
А он тотчас отправить их велел
В Афины век в неволе коротать
(За них он отказался выкуп взять).
Великий вождь, отдав приказ такой,
Со всею ратью поспешил домой,
Чело победным лавром увенчав,
И там со славой и среди забав
До смерти жил. (Что говорить нам доле?)
Но в тесной башне в страхе и неволе
Томился Паламон с Арситой-братом…
Не откупить их ни сребром, ни златом…
Так день за днем идет и год за годом,
Когда однажды в мае пред восходом
Эмилия, чей образ был милее,
Чем на стебле зеленом цвет лилеи,
Свежей, чем мая ранние цветы
(Ланиты с розами сравнил бы ты:
Не знаю я, которые алей),
Покорствуя привычке юных дней,
Оделась, встав до света на востоке:
Не по душе ведь маю лежебоки.
Все нежные сердца тревожит май,
От сна их будит и кричит: «Вставай
И верно мне служи, расставшись с ленью».
Эмилия, исполненная рвенья
Приветить май, на луч рассвета глядя,
Предстала свежей в утреннем наряде.
Златые кудри, в косу сплетены,
На добрый ярд свисали вдоль спины.
Она по саду, чуть взошло светило,
Меж распускавшихся дерев бродила.
Срывая цвет, то розовый, то белый,
Для головы венок плела умело
И пела, словно ангел неземной.
Большая башня с толстою стеной,
Главнейшая темница в той твердыне
(Где рыцари в плену томились ныне,
О коих был и дале будет сказ),
Над садом этим высилась как раз,
Где весело Эмилия бродила.
Над морем воссияло дня светило,
И бедный узник Паламон тогда же,
Как ежедневно, с разрешенья стражи,
Шагал по верхней горнице темницы,
Преславный город видя сквозь бойницы
И садик, где под зеленью ветвей
Во всей красе и свежести своей
Эмилия гуляла по дорожкам.
Так грустный Паламон перед окошком
Своей тюрьмы шагает взад-вперед
И сам с собой печально речь ведет.
«Зачем рожден я?» – молвит в скорби жгучей.
И вышло так, – судьба ли то иль случай? -
Что сквозь литые прутья на окне,
Подобные бревну по толщине,
Он вдруг узрел Эмилию в саду.
«Ах!» – крикнул он, качнувшись на ходу,
Как бы стрелой жестокою пробитый.
Проснувшийся от возгласа Арсита
Спросил его: «Что у тебя болит?
Твой лик смертельной бледностью облит!
Как? Плачешь ты? Кто оскорбил тебя?
Сноси в смиренье, господа любя,
Плененья гнет мучительный: ведь он
Самой Фортуной, видно, нам сужден;
Сатурна ли враждебным положеньем
Иль прочих звезд злосчастнейшим стеченьем
Ниспослан он, – таков, как ни борись,
Был вид небес, когда мы родились.
Итак, терпи: вот краткий мой совет».
Тут Паламон промолвил так в ответ:
«Мой милый брат, оставь такое мненье,
Тебе его внушило заблужденье.
Нет, не тюрьма исторгла этот стон:
Я сквозь глаза был в сердце поражен
До глубины, и в этом – смерть моя.
Да, прелесть дамы, что, как вижу я,
По саду там гуляет взад-вперед, -
Причина слез моих и всех невзгод.
Богиня ль то иль смертная жена?
Самой Венерой мнится мне она».
И, в увлечении не зная меры,
Он, ниц упав, воскликнул: «О Венера,
Коль ты явилась в вертограде том
Передо мной, презренным существом,
То помоги нам выйти из тюрьмы.
Но если повеленьем рока мы
До смерти здесь обречены невзгодам,
То смилуйся хотя б над нашим родом,
Низверженным по прихоти злодея».
Меж тем Арсита, обозрев аллеи,
Где дама та бродила взад-вперед,
Ее красою дивной в свой черед
Не менее был ранен и пленен,
А может быть, сильней, чем Паламон,
И, жалостно вздохнув, он говорит:
«Увы, я дивной прелестью убит
Красавицы, гуляющей по саду!
И если я не вымолю отраду
Лик созерцать ее хотя порою,
Ждет смерть меня – я от тебя не скрою».
Когда услышал эти речи брат,
Он молвил, злобный обративши взгляд:
«Ты говоришь, должно быть, для забавы?»
А тот в ответ: «Мне не до шуток, право:
Свидетель бог, тебе я не солгал».
Тут Паламон, нахмурив бровь, сказал:
«Не много чести обретешь ты в том,
Что станешь предо мною подлецом.
Я брат тебе по крови и обету.
Мы крепкой клятвой подтвердили это, -
Мы поклялись, что коль нас не замучат
И смерть сама навек нас не разлучит,
В делах любви не будешь мне врагом,
Мой милый брат, как и ни в чем другом,
Меня во всем поддержишь ты, любя,
Как и во всем я поддержу тебя.
Так ты клялся, и так клялся я тоже.
От клятвы отрекаться нам негоже.
Ты, спора нет, советник мой и друг,
Но, как изменник, возмечтал ты вдруг
О той, кому служу я, полюбив,
И буду так служить, покуда жив.
Нет, злой Арсита, не бывать тому!
Я первый полюбил и своему
Наперснику и брату по обету
От всей души доверил тайну эту.
И ты, что клятвой рыцарскою связан,
По мере сил мне помогать обязан.
Иль ты – изменник, в том сомненья нет».
На то Арсита гордый дал ответ:
«О нет, изменник здесь не я, а ты;
Ты изменил, скажу без клеветы.
К ней par amour
я первый воспылал.
А ты где был? Ведь ты тогда не знал,
Назвать ее женой или богиней!
Ведь у тебя – почтенье пред святыней,
А здесь – любовь к живому существу.
И сей любви в свидетели зову
Я кровного и названого брата.
Пусть первый ты, – ужели это свято?
Ты знаешь, древний вопрошал мудрец:
«Кто даст закон для любящих сердец?»
Любовь сама – закон; она сильней,
Клянусь, чем все права земных людей.
Любое право и любой указ
Перед любовью ведь ничто для нас.
Помимо воли человек влюблен;
Под страхом смерти все же служит он
Вдове ль, девице ль, мужней ли жене…
Но нет надежды ни тебе, ни мне
При жизни милость дамы обрести.
Ты знаешь сам: сидим мы взаперти;
Обречены мы жить в темнице сей
Без выкупа до окончанья дней.
Так спорили два пса за кость большую,
Дрались весь день, а вышло все впустую:
Явился коршун вдруг, у драчунов
Под носом кость стащил и был таков.
В палатах царских правило такое:
Всяк за себя, других оставь в покое!
Люби, коль хочешь. Я люблю ее
И буду впредь ей верен. Вот и все,
Мы здесь в тюрьме должны страдать жестоко.
Так пусть же каждый ждет веленья рока!»
В сердцах и долго спорили друзья.
Но повесть мне затягивать нельзя.
Вернемся к сути. Приключилось раз
(Путем кратчайшим поведу рассказ),
Что знатный герцог, славный Перитой
(Который был Тезею друг большой
С младенчества и в детские года)
В Афины прибыл, чтобы, как всегда,
С приятелем покоротать досуг, -
Милее всех ему был этот друг;
А тот его любил с таким же жаром,
И даже (если верить книгам старым),
Когда один изведал смертный хлад,
Другой его искать спустился в ад.
Рассказывать о том охоты нет.
Тот Перитой с Арситой много лет
Был связан в Фивах дружбою святой.
И, по мольбам и просьбам Перитоя,
Тезей Арсите разрешил свободна
Вон из тюрьмы уйти куда угодно,
Без выкупа, с условием одним,
Рассказ о коем следует за сим.
Тезей с Арситой ясно меж собой
Установили уговор такой,
Что если бы Арситу кто застиг
В Тезеевой земле хотя б на миг,
Иль днем, иль ночью, иль в любую пору,
То пойманный герой, по уговору,
Главы своей лишится под мечом,
И нет ему спасенья нипочем.
Вот он простился и спешит домой…
Эй, берегись, ответишь головой!
Какую же Арсита терпит муку!
Он в сердце чует хладной смерти руку.
Он плачет, стонет, жалостно рыдает,
С собой покончить втайне помышляет.
«Зачем, – он думает, – родился я?
Теперь еще тесней тюрьма моя.
Я из нее вовеки не уйду:
Я не в чистилище – уже в аду.
Узнал меня на горе Перитой:
Мне у Тезея в башне запертой
Остаться бы в оковах, на запоре!
Там в радости текла бы жизнь, не в горе.
Лишь видом той, которой я служу
(Хоть милости вовек не заслужу),
Уже вполне я был бы услажден».
«Мой милый брат, – он молвит, – Паламон!
Победа – ах! – осталась за тобой!
В тюрьме сидишь ты, взысканный судьбой…
В тюрьме? О нет! Верней сказать – в раю.
Судьба на счастье мечет зернь твою.
Ее ты видишь, я же так далек;
А раз ты с ней и так изменчив рок
(Ведь рыцарь ты, отважен и удал),
То, может быть, и то, чего ты ждал,
Тебе пошлет судьба когда-нибудь.
А я изгнанник, и к блаженству путь
Мне без надежд отрезан навсегда.
Земля, огонь, и воздух, и вода,
И существа, что сделаны из них,
Не утолят ужасных мук моих.
Погибну я, истерзанный тоской.
Прощайте, жизнь, и радость, и покой!
Увы, напрасно от людей так много
Поклепов слышим на судьбу и бога,
Что жалуют нас лучшими благами,
Чем можем мы порой придумать сами.
Иной богатство вымолит, – оно ж
Недуг накличет иль убийцы нож.
А тот покинул, помолясь, тюрьму,
Но челядью убит в своем дому.
Нас караулят беды что ни шаг.
Не знаем мы, каких мы просим благ.
Мы все – как тот, кто опьянен вином.
Пьянчуга знает – есть, мол, где-то дом,
Не знает только, как пройти домой,
И склизок путь под пьяною ногой.
Вот так же мы блуждаем в сей юдоли:
Мы жадно ищем путь к счастливой доле,
Но без конца плутаем, как на грех,
Все таковы, и сам я хуже всех.
Не я ли мнил и тешился мечтой,
Что, чуть я выйду из темницы той,
И ждут меня веселье и услады.
А ныне лучшей я лишен отрады.
Эмилия! Нельзя мне видеть вас!
Спасенья нет, настал мой смертный час».
Тем временем несчастный Паламон,
Узнав, что он с Арситой разлучен,
Так возрыдал, что стены бастиона
Тряслись от причитания и стона
И кандалы, что на ногах он нес,
Намокли от соленых горьких слез.
Он восклицал: «Арсита, брат, о горе!
Ты плод сорвешь, бог видит, в нашем споре!
Свободно ты по Фивам ходишь ныне
И мало тужишь о моей кручине.
С твоим умом и мужеством, я мню,
Собрать ты можешь войско и родню
И край весь этот разорить войной.
По договору ль, хитростью ль иной,
Ты женишься на той прекрасной даме,
По коей здесь я изойду слезами,
Ведь если все возможности учесть, -
С тех пор как ты свободу смог обресть,
Ты – государь, соперник слишком сильный,
А я погибну в клетке сей могильной,
Вопя и воя до скончанья дней
От всех тягот и мук тюрьмы моей.
К тому ж любви терзанье роковое
Скорбь и кручину умножает вдвое».
Тут дико ревность разгорелась в нем,
Проникла в сердце, грудь сожгла огнем.
И стал похож наш узник безотрадный
На букс засохший иль на пепел хладный.
Он говорил: «Богиня, злой кумир,
Что вечным словом сковываешь мир
И на плите из твердого алмаза
Навек законы пишешь и указы,
Мы все, твоей подвластные короне, -
Толпа овец, толкущихся в загоне.
Ведь человека бьют, как скот рогатый,
Сажают в тюрьмы, башни, казематы;
Он терпит боль, несчастье и тревогу,
И часто незаслуженно, ей-богу.
Скажите, где же мудрость провиденья,
Когда невинность терпит зря мученья?
Ведь человек страдает тем сильней,
Что должен по религии своей
Во имя бога страсти побороть,
А скот творит, чего желает плоть.
Подохнет скот – и нет ему забот,
А человека наказанье ждет,
Хоть он и в жизни зло и скорбь терпел.
Поистине, таков его удел.
Пусть богослов на это даст ответ,
Одно я знаю: полон муки свет.
Увы, я вижу, вор и подлый змей,
Изведший многих праведных людей,
Свободно ходит и живет прекрасно,
А я – в узилище томясь всечасно,
Гоним Юноной бешеной, ревнивой,
Почти что обескровившею Фивы
(Хоть крепки были стены и брустверы),
Терплю к тому еще и от Венеры,
Боясь Арситы и к нему ревнуя».
Но тут о Паламоне речь прерву я,
Его в тюрьме оставлю и в плену
И об Арсите вновь рассказ начну.
Проходит лето, удлинились ночи,
Страдают вдвое горше и жесточе
И узник и влюбленный, и, ей-ей,
Не знаю я, чей жребий тяжелей.
Сказать короче: бедный Паламон
Пожизненно в темницу заключен,
Чтоб в ней томиться до скончанья дней;
Арсита ж изгнан из державы сей,
И никогда под страхом смерти впредь
Возлюбленной ему не лицезреть.
Кому ж теперь – влюбленные, решите! -
Тяжеле? Паламону иль Арсите?
Ведь этот даму видит день за днем,
Но сам он скрыт в узилище своем,
А тот повсюду ходит без труда,
Но дамы не увидит никогда.
Судите сами: вам оно видней,
Я ж возвращаюсь к повести своей.
Арсита в Фивах жил и сокрушался,
Твердил: «Увы!» – и часто чувств лишался:
Он с дамою своей навек в разлуке.
Я вкратце вам скажу об этой муке,
Что не был и не будет так убит
Тоской никто – с тех пор как свет стоит.
Еда, питье и сон на ум нейдут,
И стал он тощ и высох, словно прут.
Глаза ввалились, смотрит мертвецом,
Как хладный пепел, бледен, желт лицом.
Он, как отшельник, вечно одинок,
Всю ночь рыдает, сетуя на рок,
А чуть услышит песнь иль струнный звон,
Безудержно и долго плачет он.
Так пал в нем дух и вместе естество
Так изменилось, что узнать его
По голосу и речи невозможно,
А вид изобличает непреложно
Не тот недуг, что бог Эрот дарит,
А манию, которую родит
Сок черной желчи в чаше головной,
Седалище фантазии шальной.
Ну, словом, повернулось все вверх дном
В Арсите, воздыхателе больном, -
Обличье, обхождение и стать…
Что мне о том весь день повествовать?
Претерпевал бедняжка год-другой
Всю эту муку, скорбь и непокой,
Как сказано, в стенах родимых Фив.
Вот раз лежал он, крепко опочив;
Меркурий, бог крылатый, над постелью
Явился вдруг, зовя его к веселью.
Волшебный жезл в руке его подъят,
А из-под шляпы волосы блестят.
Так он одет (Арсита видит сон),
Как в час, когда был Аргус усыплен.
И молвил бог: «Направь стопы в Афины:
Там ждет тебя конец твоей кручины».
При сих словах Арсита встал от сна.
«Поистине, сколь мука ни сильна, -
Он молвил, – я тотчас помчусь в Афины,
Меня не сдержит страх лихой кончины.
Увижу ту, кому, любя, служу.
И голову к ее ногам сложу».
Сказавши так, он в руки взял зерцало
И видит, что с лица вся краска спала,
Что стал его неузнаваем лик.
Тут помысел в уме его возник,
Что если так сменилось естество
От злой болезни, мучившей его,
То он, назвав себя простолюдином,
Ходить неузнан мог бы по Афинам
И дамой тешить день за днем свой взор.
Не медля, он переменил убор
И, нарядившись скромным бедняком,
С одним лишь сквайром, что уж был знаком
С его делами всеми без изъятья,
Одетым, как и он, в простое платье,
Вошел в Афины по прямой дороге
И, появившись в герцогском чертоге,
Там предложил услуги у ворот
По части всяческих ручных работ.
Чтоб повесть вам моя не докучала,
Скажу тотчас: попал он под начало
К дворецкому Эмилии самой.
Хитро пред тем узнал он стороной
О каждом, кто служил любимой даме,
К тому ж он был могуч и юн годами,
Был костью крепок, преисполнен сил.
Дрова рубил он, воду приносил,
Все делал, словом, что ни повелят.
Так прослужил он года два подряд
И вот пажом приставлен был к палатам
Эмилии, назвавшись Филостратом.
Никто из всех людей такого чина
Так не был чтим, и даже вполовину.
Так был учтив Арситы разговор,
Что весть о нем весь облетела двор:
Все говорили, что по благостыне
Тезей его повысить должен в чине
И на такой его поставить путь,
Где доблестями может он блеснуть.
Так слава Филострата процвела,
Хваля и речь его, и все дела,
Что милостью его взыскал Тезей
И сделал сквайром в горнице своей,
Дав золота, чтоб жил он, процветая,
К тому ж вассалы из родного края
Из года в год несли ему добро.
Но тратил он так скромно и хитро,
Что не дивил людей его доход.
Так прожил он в Афинах третий год
Во дни войны, в годины мира тоже,
Тезею ж был он всех других дороже.
Его оставлю я в такой чести,
Чтоб речь о Паламоне повести.
В ужасной, мрачной башне заключен,
Семь долгих лет страдает Паламон,
Надежд лишенный, от любви больной.
Кто злой кручиной отягчен двойной?
То – Паламон: боль от любовных дум
Ему едва не помутила ум;
К тому ж он узник, под ярмом невзгод
Стенящий век, а не один лишь год.
О, кто бы спеть в стихах английских мог
Про муки те? Не я, свидетель бог!
Итак, рассказ я быстро поведу…
Раз, в третье мая на седьмом году
(Как говорят нам книги старых дней,
Что этот сказ передают полней)
Так учинил благоприятный рок
(Что суждено, свершится в должный срок),
Что Паламон, среди полночной тьмы,
Друзьями вызволенный из тюрьмы,
Из города бежал что было сил;
Тюремщика же так он напоил,
В вино, помимо пряностей, вложив
Снотворных трав и опия из Фив,
Что до утра, не чуя ничего,
Тот крепко спал, как ни трясли его.
Бежал он, под собой не слыша ног.
Ночь коротка, и день уж недалек,
И надобно прибежище найти.
Вот в рощицу, в сторонке от пути,
Вступает робким шагом Паламон.
Сказать вам вкратце, собирался он
Весь день скрываться в роще как-нибудь,
А ночью снова продолжать свой путь
До града Фив и там просить свой род
Против Тезея двинуться в поход.
Он был намерен честно пасть в бою
Иль в жены взять Эмилию свою.
Вот – мысль его, ее легко понять…
Но я к Арсите возвращусь опять…
Не знал Арсита, как близка забота,
Пока к Фортуне не попал в тенета.
Вот жаворонок, шустрый вестник дня,
Зарю встречает, трелями звеня.
И так прекрасно всходит бог на небо,
Что весь восток ликует, видя Феба,
И сушит пламенем красы своей
Серебряные капли меж ветвей.
Как я сказал, тем временем Арсита,
Что первым сквайром был придворной свиты,
Проснулся; светлый день его влечет;
Он хочет маю оказать почет.
И, вспомнив о своей любимой даме,
На скакуна вскочил он, что, как пламя,
Был резв, и поскакал по мураве
Прочь от двора на милю или две.
К дубраве той, о коей шел рассказ,
Случайно он направился как раз,
Чтоб, если ива, жимолость там есть,
Из них гирлянду в честь любимой сплесть.
Он встретил солнце песнею живой:
«О светлый май с цветами и листвой!
Привет тебе, прекрасный, свежий май!
Мне свежих листьев для гирлянды дай!»
С веселою душой с коня он слез
И быстрым шагом углубился в лес.
Бродя по чаще, он пришел на тропку,
Где бедный Паламон скрывался робко
От глаз людских, таясь в густых кустах:
Силен был в нем безвинной смерти страх.
Он про Арситу знать всего не мог,
А знал бы, не поверил – видит бог.
Но поговорку старую послушай:
У поля есть глаза, у леса – уши.
Порой себя полезно поберечь:
Немало может быть нежданных встреч.
Что друг его оттуда недалек
И слышит все, Арсите невдомек:
Тихонько тот сидит в кустах ракиты.
Когда довольно погулял Арсита
И спел рондель
на превеселый лад,
Он вдруг замолк, мечтаньями объят.
Чудно порой ведет себя любовник:
То на деревья лезет, то в терновник,
То вверх, то вниз, как на колодце ведра,
Как пятница – то сильный дождь, то вёдро
Поистине, изменчива без меры,
Сердца людей всегда мутит Венера:
Как пятница, любимый день ее,
Меняет вмиг обличив свое.
Да, у нее семь пятниц на неделе.
Едва Арситы песни отзвенели,
Он наземь сел, издав протяжный стон.
«Зачем, – сказал он, – я на свет рожден?
Доколь от всех жестокостей Юноны
У града Фив не будет обороны?
Увы! Уже повержен, посрамлен
Ваш царский род, о Кадм и Амфион!
Да, Кадм! Увы, он первый строить стал
Фиванский град, воздвиг вкруг града вал
И первый принял царскую корону.
Я – внук его, наследник по закону.
Природный отпрыск племени царей, -
Кто я теперь? Невольник у дверей
Смертельного жестокого врага.
Как бедный сквайр, служу я, как слуга.
Мне горшее велит Юнона злая:
Свое прозванье всюду я скрываю.
Арситой был я в оны времена, -
Теперь я – Филострат: мне грош цена.
Увы, Юнона! Лютый Марс, увы!
Все наше семя истребили вы.
Остались я и Паламон-бедняжка.
Его Тезей в тюрьме терзает тяжко.
А чтоб меня кончине неминучей
Предать, любовь стрелой пронзила жгучей
Мне сердце. Ах, навылет ранен я.
Меня подстерегает смерть моя.
Увы, сражен я вашими глазами,
Эмилия! И смерть моя – вы сами.
Все, все, что прежде душу занимало,
Поистине, я не ценю нимало,
Лишь только б мог я быть угоден вам».
Без чувств упав, лежал он долго там.
Придя ж в себя, шагов услышал звук:
То Паламон, почувствовавший вдруг,
Как меч холодный в грудь его проник,
Дрожа от гнева, бросил свой тайник;
Едва он брата речь уразумел,
Как, обезумев, бледный словно мел,
Он поднялся из-за густых ветвей:
«Арсита подлый! Подлый лиходей!
Ты пойман. Даму любишь ты мою,
Из-за которой муку я терплю.
Ты кровь моя, ты названый мой брат, -
Уже корил тебя я в том стократ, -
Оплел ты ложью герцога Тезея,
Чужое имя принял, не краснея,
Иль сам умру я, иль тебя убью.
Тебе ль любить Эмилию мою?
Один люблю я, и никто другой.
Я – Паламон, смертельный ворог твой.
Хоть чудом я избавился от пут
И хоть со мною нет оружья тут,
Я не боюсь тебя! Погибнешь ты
Иль бросишь об Эмилии мечты.
Так выбирай. Ты не уйдешь, злодей».
Арсита в грозной ярости своей,
Его узнав и слыша эту речь,
Свиреп, как лев, из ножен вынул меч.
«Клянусь, – он молвил, – господом всевластным!
Не будь ты одержим безумьем страстным
И будь ты тут с оружием своим,
Из рощи ты бы не ушел живым,
А здесь погиб бы от руки моей.
Я отрекаюсь ото всех цепей,
Которыми сковали наш союз.
О нет, глупец, любовь не знает уз!
Ее люблю тебе наперекор,
Но так как ты ведь рыцарь, а не вор
И даму порешил добыть в бою,
То завтра же – я слово в том даю -
Тайком от всех я буду в этом месте,
Как рыцарской моей пристойно чести.
И лучшую тебе доставлю сбрую,
А для себя похуже отберу я.
Тебе дам на ночь пищу и питье
И для ночлега принесу белье,
И если даму ты добудешь с бою
И буду я в лесу убит тобою,
Она – твоя, коль нет других препон».
«Согласен я», – ответил Паламон.
И разошлись, друг другу давши слово
Сойтись в дубраве той же завтра снова.
О Купидон, чьи беспощадны стрелы!
О царство, где не признают раздела!
Недаром говорят: в любви и власти
Никто охотно не уступит части,
Познал Арсита это с Паламоном.
Арсита мчится в город быстрым гоном.
А поутру, в передрассветный час,
Две ратных сбруи тайно он припас,
Достаточных, чтобы в честном бою
На поле распрю разрешить свою.
Он, на коне скача тайком от всех,
Перед собой везет двойной доспех,
И скоро он на месте сговоренном.
Сошлись в лесу Арсита с Паламоном.
Вся краска вмиг сошла у них с лица,
Как у того фракийского ловца,
Что у теснины сторожит с копьем
И встречи ждет с медведем или львом;
Он слышит, как сквозь чащу зверь спешит,
Ломает сучья и листву крушит,
И думает: «Вот страшный супостат,
Один из нас уж не уйдет назад:
В теснине здесь в него всажу я дрот,
А промахнусь, так он меня убьет».
Так оба побледнели от испуга,
Когда в лесу увидели друг друга.
Не молвя «добрый день» иль «будь здоров»,
Тотчас же безо всяких дальних слов
Один другого одевает в латы,
Услужливо, как бы родного брата.
Они друг друга копьями ретиво
Спешат разить, и длится бой на диво.
Сказал бы ты, что юный Паламон
В бою, как лев, свиреп и разъярен.
Арсита ж, словно тигр, жесток и лют;
Как кабаны, они друг друга бьют,
Покрывшись белой пеною от злобы.
Уже в крови по щиколотку оба.
Но я в бою оставлю их сейчас
И о Тезее поведу рассказ.
Судьбина – управитель неизменный,
Что волю провиденья во вселенной
Творит, как нам заране бог присудит,
И хоть весь свет клянись, что так не будет, -
Нет, нет и нет, – судьбина так сильна,
Что в некий день нам вдруг пошлет она
То, что затем в сто лет не повторится.
По правде, всем, к чему наш дух стремится, -
К любви иль мести, к миру иль войне, -
Всем этим Око правит в вышине.
Пример тому Тезей могучий даст нам:
К охоте он влеком желаньем страстным;
Так лаком в мае матерой олень,
Что вождь, с зарей вставая каждый день,
Уж вмиг одет и выехать готов
С ловцами, рогом и со сворой псов.
Так сладостен звериный лов ему;
Вся страсть и радость в том, чтоб самому
Оленя сбить ударом мощной длани;
Как к Марсу, он привержен и к Диане.
Был ясный день, как я вам говорил,
И вот Тезей, веселый, полный сил,
С Эмилией, с прекрасной Ипполитой,
В зеленое одетой, и со свитой
На лов звериный выехал с утра.
Он к роще, недалекой от двора,
Где был олень, как молвили Тезею,
Дорогой ближней мчит со свитой всею
И на поляну едет напрямик,
Где тот олень искать приют привык;
Там – чрез ручей и дальше до леска…
Желает герцог поскакать слегка
Со сЕорою, что под его началом,
Но, поравнявшись с тем лесочком малым,
Взглянул он против солнышка – и вот
Арситу с Паламоном застает.
Как два быка, ярятся в рукопашной
Противники, мечи сверкают страшно.
И мнится: бой их так свиреп и яр,
Что свалит дуб слабейший их удар.
Но кто они – Тезею невдомек.
Коня пришпорив, он в один скачок
Пред разъяренною возник четой
И, вынув меч свой, грозно крикнул: «Стой!
Под страхом смерти прекратить сейчас!
Клянусь я Марсом: если кто из вас
Ударит вновь – лишится головы.
Теперь скажите, кто такие вы.
Что бьетесь здесь, по дерзости своей,
Без маршалов, герольдов и судей,
Как будто выйдя на турнир придворный?»
И Паламон ответствовал покорно:
«О государь, скажу без долгих слов:
Лишиться оба мы должны голов.
Мы здесь два пленника, два бедняка,
Которым жизнь несносна и тяжка.
Как от сеньора и судьи, не надо
Нам от тебя приюта и пощады:
Сперва меня из милости убей,
Но и его потом не пожалей.
Хоть от тебя его прозванье скрыто,
Но он – твой злейший ворог, он – Арсита,
Под страхом смерти изгнанный тобой.
Погибели он заслужил лихой.
Он к воротам твоим пришел когда-то
И ложно принял имя Филострата;
Немало лет обманывал он вас
И главным щитоносцем стал сейчас.
Знай, что в Эмилью тайно он влюблен.
Но так как близок мой предсмертный стон,
Тебе во всем покаюсь откровенно.
Я – Паламон, пожизненный твой пленный,
Расстался самовольно я с темницей.
Я – твой смертельный враг и к светлолицей
Эмилии давно питаю страсть.
У ног ее готов я мертвым пасть.
Суда и смерти жду я без боязни,
Но ты его подвергни той же казни:
Мы оба стоим смерти, спора нет».
Достойный герцог тотчас дал ответ,
Сказавши так: «Задача тут проста.
Признаньем вашим ваши же уста
Вас осудили. Это памятуя,
От строгой пытки вас освобожу я.
Но Марсом вам клянусь, что ждет вас плаха».
От состраданья нежного и страха
Рыдает королева Ипполита,
И плачут с ней Эмилия и свита.
Казалось, им безмерно тяжело,
Что без вины постигло это зло
Двух юношей владетельного рода,
И лишь любовь – причина их невзгоды.
Заметив раны, что зияли дико,
Вскричали все от мала до велика:
«О, ради дам не будь неумолим», -
И на колени пали перед ним,
Готовые припасть к его стопам.
Но наконец Тезей смягчился сам
(В высоких душах жалость – частый гость),
Хотя сперва в нем бушевала злость,
Но после обозрел он в миг единый
Проступки их, а также их причину,
Хоть гнев его обоих осудил,
Но разум вмиг обоих их простил.
Он знал, что всякий человек не прочь
По мере сил себе в любви помочь,
А также жаждет выйти из неволи.
К тому ж Тезей не мог смотреть без боли
На дам, рыдавших в горе безысходном.
Приняв решенье в сердце благородном,
Он так подумал: «Стыд тому владыке,
Что жалости не знает к горемыке
И одинаково, как грозный лев,
Рычит на тех, что плачут, оробев,
И на упорного душой злодея,
Который зло свершает, не краснея.
Да, неразумен всякий властелин,
Который мерит на один аршин
Гордыню и смирение людей».
Когда от гнева отошел Тезей,
Взглянул на все он светлым оком снова
И громко молвил всем такое слово:
«О бог любви! о benedicite!
Какую власть несешь в деснице ты!
Препоны нет, что б ты сломать не мог,
Поистине ты – чудотворный бог!
Ведь можешь ты по прихоти своей
Как хочешь изменять сердца людей.
Вот Паламон с Арситой перед нами,
Что, распростясь с тюремными стенами,
Могли бы в Фивах жить средь всяких благ
И знали, что я им смертельный враг
И что убить их я имею власть,
И все же поневоле эта страсть
Сюда на смерть их привела обоих.
Не дивное ль безумье увлекло их,
Которым лишь влюбленный заражен?
Взгляните же на них со всех сторон:
Прелестный вид, не правда ль? Все – в крови
Так им воздал сеньор их, бог любви.
Вот им достойная за службу плата,
А оба мнят, что разумом богаты,
Служа любви все жарче и бойчей.
Смешней всего, что та, для чьих очей
И начато все это шутовство,
Ничуть не благодарна за него
И ведает о распре их не боле,
Чем та кукушка или заяц в поле.
Но в жизни всё мы испытать хотим,
Не в юности, так в старости дурим.
Я признаюсь, что много лет назад
Служить любви и сам бывал я рад.
И знаю я, как зло любовь нас ранит
И как жестоко род людской тиранит.
И, бывши сам не раз в тенетах тех,
Я вам обоим отпускаю грех
Из-за горячих слез как королевы,
Так и Эмилии, прекрасной девы.
А вы теперь же поклянитесь мне
Впредь не чинить вреда моей стране.
Не нападать ни ночью и ни днем,
Но быть друзьями мне всегда во всем,
Я ж вам прощаю все бесповоротно».
Тут братья поклялись ему охотно,
Прося прощенья и вассальных прав.
И молвил он, прощенье даровав:
«Ваш род высок и велика казна,
Вам полюбись царица иль княжна,
Достойны оба вы такого брака,
Когда настанет время. И, однако
(Я говорю вам о своей сестре,
Подавшей повод к ревности и пре),
Вы знаете, что, спорьте хоть до гроба,
Венчаться с ней не могут сразу оба,
А лишь один, и, прав он иль не прав,
Другой уйдет, не солоно хлебав.
Двоих мужей возьмет она едва ли,
Как вы б ни злились и ни ревновали.
И вот я вам даю такой урок,
Чтоб всяк из вас узнал в кратчайший срок,
Что рок судил. Услышьте ж уговор,
Которым я хочу решить ваш спор.
Конечную вам объявляю волю,
Чтоб возражений мне не слышать боле
(Угодно ль это вам иль неугодно).
Отсель пойдете оба вы свободно,
Без утесненья, выкупа иль дани.
А через год (не позже и не ране)
Возьмите по сто рыцарей оружных
Во всех доспехах, для турнира нужных,
Чтоб этот спор навек покончить боем.
А я ручаюсь честью вам обоим
И в том даю вам рыцарское слово,
Что, коль осилит здесь один другого, -
Сказать иначе, если ты иль он
С дружиною возьмет врага в полон,
Убьет его иль сгонит за межу, -
Эмилией его я награжу,
Раз он так щедро одарен судьбою.
Ристалище же здесь я вам устрою.
Как верно то, что бог мне судия,
Так вам судьей бесстрастным буду я.
И спор тогда лишь будет завершен,
Коль кто падет иль будет взят в полон.
Скажите «да», коль этот мой приказ
Вам по сердцу. Теперь довольно с вас:
На том конец, и ваш вопрос решен».
Кто просветлел тут ликом? Паламон.
А кто от счастья подскочил? Арсита.
Все лица были радостью залиты
За двух соперников, когда Тезей
Их осчастливил милостью своей.
Все, без различья звания и пола,
В признательности сердца пали долу,
Фиванцы ж много раз и особливо.
И вот с надеждою в душе счастливой
Они, простясь, отправились назад
В свой крепкостенный и старинный град.
Меня, пожалуй, люди упрекнут,
Коль щедрости Тезеевой я тут
Не помяну. Он тщился всей душой
По-царски пышным сделать этот бой,
И не было подобного турнира,
Могу сказать, от сотворенья мира.
Округой в милю там была стена -
Из камня вся и рвом обнесена.
Амфитеатр из многих ступеней
Был вышиною в шестьдесят пядей.
Кто на одной ступени восседал,
Уже другому видеть не мешал.
Врата из мрамора вели к востоку,
Такие ж – к западу, с другого боку.
И не найти нигде, скажу по чести,
Сокровищ столько на столь малом месте.
Обрыскан был весь край и вдоль и вширь;
Кто геометром был, кто знал цифирь,
Кто был создателем картин иль статуй -
Им всем Тезей давал и стол и плату,.
Стремясь арену выстроить, как надо.
Чтоб совершались жертвы и обряды,
Велел он на вратах восточных в честь
Венеры, божества любви, возвесть
Молельню и алтарь, а богу битвы
На западе для жертв и для молитвы
Другой алтарь украсил он богато,
Потребовавший целой груды злата;
А с севера на башенке настенной
Из глыбы алебастра белопенной
С пурпуровым кораллом пополам
Диане чистой драгоценный храм
Возвел Тезей, как лишь царю под стать.
Но я забыл еще вам описать
Красу резьбы, и фресок, и скульптур,
Обличье и значенье тех фигур,
Что дивно украшали каждый храм.
В Венериной божнице по стенам
Ты увидал бы жалостные лики:
Разбитый Сон, и хладный Вздох, и Крики,
Святые слезы, скорбный вопль Тоски
И огненных Желаний языки,
Что слуг любви до смерти опаляют,
И Клятвы те, что их союз скрепляют.
Тут Мощь и Прелесть, Лесть и Хвастовство,
И Хлопотливость тут и Мотовство,
Безудержная Роскошь и Богатство,
Надежда, Страсть, Предерзость и Приятство,
И Ревность в гелиантовом венке,
С кукушкою, сидящей на руке,
Пиры и Песни, Пляски и Наряды,
Улыбки, Похоть – словом, все услады
Любви, которых не исчислить мне,
Написаны все кряду на стене;
Их больше, чем сумею передать я:
Весь Киферон
, пожалуй, без изъятья
(Где водружен Венерин главный трон)
В картинах на стене изображен
И сад ее во всем своем веселье.
Не позабыты тут: вратарь-Безделье,
Нарцисс, красавец тех былых времен,
Безумствующий в страсти Соломон,
Все подвиги Геракла самого,
Медеи и Цирцеи волшебство,
Свирепый Турн,
столь храбрый в ратном поле
Богатый Крез, томящийся в неволе, -
Все учит нас, что ум и горы блага,
Краса и хитрость, сила и отвага
Не могут разделить с Венерой трон.
Венера правит миром без препон.
Весь этот люд в ее сетях увяз.
«Увы, увы!» – твердят они не раз.
Два-три примера вдосталь говорят,
Но я б набрал и тысячу подряд.
Там статуя Венеры, вся сверкая,
В обширном море плавала нагая;
Ее до чресел море облегло
Волной зеленой, ясной, как стекло.
В ее деснице – лютня золотая,
Над головой голубок реет стая,
А на кудрях, являя вид приятный,
Лежит из роз веночек ароматный.
Пред ней стоит малютка Купидон,
Два крылышка на спинке носит он,
К тому ж он слеп (как всякий часто зрел),
В руке же лук для светлых острых стрел.
А почему мне не поведать вам
О живописи, украшавшей храм,
Что герцог Марсу ярому обрек?
Расписан был он вдоль и поперек.
Подобно недрам страшного чертога,
Большой божницы яростного бога
В краю фракийском, хладном, ледяном,
Где, как известно, Марсов главный дом.
Там на одной стене была дубрава,
Где все деревья стары и корявы,
Где остры пни, ужасные на вид,
Откуда зверь и человек бежит.
Шел по лесу немолчный гул и стук,
Как будто буря ломит каждый сук.
А под холмом, прижат к стене откосной,
Был храм, где чтился Марс Оруженосный,
Из вороненой стали весь отлит;
А длинный вход являл ужасный вид.
Там слышен был столь дикий вой и рев,
Что ворота дрожали до основ.
Лишь с севера сквозь дверь струился свет:
Отсутствовал окошка всякий след,
Откуда б свет мог доходить до глаза,
А дверь была из вечного алмаза,
Обита крепко вдоль, и вширь, и вкось
Железом; и чтоб зданье не тряслось,
Столп каждый изумительных палат,
Сверкавший сталью, с бочку был в обхват.
Там мне предстал Измены лик ужасный,
Все Происки и Гнев багряно-красный,
Как угли раскаленные в кострах,
Карманная Татьба и бледный Страх,
С ножом под епанчою Льстец проворный,
И хлев горящий, весь от дыма черный,
И подлое убийство на постели,
Открытый бой, раненья, кровь на теле,
Раздор с угрозой и с кровавой сталью…
Весь храм был полон воплем и печалью.
Самоубийцу я увидел там:
Живая кровь течет по волосам
И гвоздь высоко меж волос торчит;
Там настежь хладной Смерти зев раскрыт;
Средь храма там стоит Недоли трон,
Чей лик унылой скорбью омрачен;
Там слышал я Безумья хохот дикий,
Лихую Ругань, Жалобы и Крики;
Там искаженный труп лежит в кустах;
Там тьма поверженных кинжалом в прах;
Добычу там тиран подъял на щит;
Там град, который до основы срыт;
Там флот сожженный пляшет средь зыбей;
Хрипит охотник в лапах медведей;
Младенца в зыбке пожирает хряк;
Ошпарен повар, в чьих руках черпак.
Марс не забыл во злобе ни о ком:
Раздавлен возчик собственным возком,
Под колесом лежит он на земле.
Клевреты Марса там – в большом числе:
Там оружейник, лучник и коваль,
Что в кузне для мечей готовит сталь.
А выше всех – Победа в бастионе
Сидит с великой почестью на троне;
Преострый меч у ней над головой
Висит на тонкой ниточке одной.
Как пал Антоний, как Нерон великий,
Как Юлий пал, изображали лики.
Их не было еще в те времена,
Но их судьба там наперед видна,
Как Марсова угроза. Те фигуры
Все отражали точно, как с натуры.
Ведь в вышних сферах Судьбы начертали,
Кто от любви умрет, а кто от стали.
Довольно сих примеров. Много есть
Их в старых книгах, всех не перечесть.
На колеснице – Марсов грозный лик;
Он весь в оружье, взор безумен, дик.
И две звезды над ним горят, сверкая,
Одна – Пуэлла, Рубеус – другая:
Им в книгах эти имена даны.
Так был написан грозный бог войны:
Кровавоглазый волк у ног лежал
И человечье мясо пожирал.
Все тонкой кистью выведено строго
С почтеньем к славе ратоборца-бога.
Теперь Дианы-девственницы храм
Как можно кратче опишу я вам.
Как по стенам от пола до вершины
Написаны различные картины
Лесной охоты девственницы чистой.
Я видел там, как бедная Калисто
Под тяжестью Дианиного гнева
Медведицею сделалась из девы,
А вслед за тем – Полярною звездой
(Так понято все это было мной),
А сын ее был превращен в светило.
Там Дану страсть во древо обратила
(Здесь мыслится не божество Диана,
А дочь Пенея, по прозванью Дана
).
Вот Актеон, в оленя превращенный
За то, что зрел Диану обнаженной.
Там псы его (так видел я воочью),
Не опознавши, растерзали в клочья.
А поодаль картина там видна,
Где Аталанта гонит кабана,
И Мелеагр, и множество других,
За что Диана поразила их.
И не одно еще я видел чудо,
О коем вам рассказывать не буду.
Богиня, на олене восседая,
У ног своих щенят держала стаю,
А под ногами – полная луна
Взошла и скоро побледнеть должна.
Хоть весел плащ зеленый на Диане,
И лук в руке, и туча стрел в колчане,
Но взор богини долу обращен,
Где в мрачном царстве властвует Плутон.
Пред ней лежала женщина, стеная:
Ее терзала схватка родовая,
И так взывала бедная к Люцине:
«О помоги! Ты всех сильней, богиня!»
Был мастером создатель сих картин,
Извел на краски не один флорин.
Построили арену, и Тезей,
С большим расходом для казны своей
Воздвигший и ристалище и храм,
Доволен делом был по всем статьям.
Но про Тезея слушать подождите:
Вернусь я к Паламону и Арсите.
Уже подходит близко день возврата,
Чтоб, с сотнями явившись, оба брата,
Как я сказал, свой разрешили спор.
И вот к Афинам, помня уговор,
Противники ведут по сто бойцов:
В оружье – все, и каждый в бой готов.
Поклясться мог бы всякий человек.
Что с той поры, как создан мир, вовек
(Поскольку дело доблести касалось)
На море иль на суше не сбиралось
Героев столько на столь малом месте:
Всяк, кто привержен был к военной чести
И кто себя хотел прославить в мире,
Просился быть участником в турнире.
И рад был тот, кто избран был в тот час:
Случись хоть завтра это все у нас,
То ль в Англии, то ли в стране иной, -
Как вам известно, паладин любой,
Что любит par amour и полон сил,
С охотою бы в этот бой вступил.
За даму биться каждый рыцарь рад:
Такой турнир – отрада из отрад.
Не менее удачлив Паламон:
Бойцы к нему идут со всех сторон.
Один приехал на лихом коне,
В кафтане боевом или в броне;
Другой в двойной кирасе в бой спешит,
Держа иль круглый, или прусский щит;
Гордится третий поножей красою;
Секирою иль палицей стальною:
Все то, что ново, старина знавала.
Так всякий был, как я сказал сначала,
По вкусу своему вооружен.
Смотрите: вот с Ликургом Паламон.
Ликург, кого фракийский чтит народ, -
Воинственен лицом, чернобород,
Горят во лбу очей его орбиты,
Багряно-желтым пламенем залиты.
Глядит он, грифа грозного страшней.
Из-под густых расчесанных бровей.
Он крупен телом, крепок и высок,
Отменно длиннорук, в плечах широк.
Он, по обычаю своей земли,
Стоял на колеснице, что везли
Волы четверкой, все белее мела.
Взамен камзола сверх брони висела
Медвежья шкура, угольев черней,
Горя, как златом, желтизной когтей.
Его власы спадают вдоль спины;
Как ворона крыло, они черны.
Венец тяжелый, в руку толщиной,
На волосах горит, весь золотой,
Алмазами, рубинами блистая,
Вкруг колесницы – белых гончих стая,
Бычков по росту, двадцать штук – не мене,
Чтоб натравить на льва их иль оленя.
На псах, что все в наморднике тугом,
Златой ошейник с кольцами кругом.
Вассалов сотню царь ведет с собой
Свирепых, ярых, снаряженных в бой.
С Арситой ехал (книги говорят)
Индийский царь Эметрий в стольный град.
Гнедой скакун, весь в стали вороненой,
Покрыт расшитой золотом попоной.
Сам царь подобен богу воинств Марсу.
Камзол с гербом – чистейший шелк из Тарса,
На нем же – жемчуг белый, крупный, скатный.
Седло обито золотом презнатно.
А с плеч его свисает епанча,
Горя в рубинах, алых, как свеча,
И волосы, все в кольца завитые,
Блестят на солнце, словно золотые;
Глаза – лимонно-желты, нос – высок,
Округлы губы, свеж румянец щек.
Слегка веснушки лик его пестрят,
Как исчерна-шафранных пятен ряд.
Взор, как у льва свирепого, горит;
Лет двадцать пять царю ты дашь на вид.
Уж в бороде его густеет волос,
Как трубный грохот, громыхает голос,
Венок лавровый вкруг его главы
Пленяет свежей зеленью листвы.
А на деснице держит он для лова
Орла лилейно-белого ручного.
Сто рыцарей владыке служат свитой;
Все – в латах, но с главою непокрытой.
Все пышностью похвастаться могли:
Ведь графы, герцоги и короли
Сошлись, чтоб защищать любовь и честь
И рыцарство на высоту вознесть.
Ручные львы и барсы там и тут
Во множестве вслед за царем бегут.
Так весь синклит владетельных господ
В воскресный день сошелся у ворот
И на заре вступает в город сей.
Достойный герцог и герой Тезей,
Введя их всех в свой стольный град Афины
И посадивши каждого по чину,
Всех угощал и не жалел хлопот,
Чтоб всем достойный оказать почет.
И было мненье общее гостей,
Что мир не знал хозяина щедрей.
О музыке, об услуженье в залах,
О всех подарках для больших и малых,
О пышности Тезеевых хором,
О том, как разместились за столом,
Какая дама всех красой затмила
Иль пеньем, пляской, или говорила
Про жар любви чувствительнее всех,
И сколько было соколиных вех,
И сколько псов лежало под столом, -
Ни слова вам я не скажу о том.
Я к самой сути перейти спешу
И вашего внимания прошу.
Под воскресенье ночью Паламон
Услышал ранний жаворонка звон;
Хоть до зари еще был час-другой,
Но жаворонок пел, и наш герой
С благоговеньем в сердце, духом бодр,
Для богомолия покинув одр,
Пошел к богине, что царит в Кифере,
Сказать иначе, к благостной Венере.
В час, посвященный ей, герой пошел
К арене, где стоял ее престол,
И, в скорби сердца ставши на колени,
Излил поток смиреннейших молений:
«Краса красот, владычица всех стран,
Юпитерова дщерь, чей муж – Вулкан!
Ты радуешь вершины Киферона!
О, ради давней нежности к Адону,
На горький плач мой с жалостью взгляни,
К смиренной просьбе слух свой преклони.
Увы! я слов достойных не найду,
Чтоб описать тебе свою беду.
Ах, сердце мук моих не выдает,
Я так смятен, что слов недостает.
Пресветлая, меня ты пожалей!
Ты знаешь злую скорбь души моей.
Все мудро взвесь и помоги, богиня!
Тебе клянусь, что я готов отныне
Всей силою служить одной тебе
И с девственностью в вечной жить борьбе,
Я в том клянусь, но помоги сперва.
Я взял оружье не для хвастовства
И не прошу на завтра ни победы,
Ни почестей, ни славы-непоседы,
Что вверх и вниз колеблется волной, -
Владеть хочу Эмилией одной,
До самой смерти только ей служа.
К ней путь мне укажи, о госпожа!
Мне все равно, как мы закончим прю:
Они меня иль я их поборю,
Лишь деву мне бы сжать в тисках объятий!
Ведь сколь ни властен Марс, водитель ратей,
Но в небе ты владеешь большей силой:
Коль ты захочешь – завладею милой,
Век буду чтить я храм твой за победу;
Куда я ни пойду и ни поеду,
Тебя не поминать я не смогу.
Но если ты благоволишь к врагу,
Молю, чтоб завтра погрузил копье
Арсита в сердце бедное мое.
Мне все равно, пусть я паду убитый,
Раз под венец она пойдет с Арситой.
Не отвергай моленья моего,
Дай мне Эмилию, о божество!»
Свою молитву кончил Паламон,
И вслед за тем богине жертву он
Принес, прежалостно верша обряды,
О коих мне повествовать не надо.
И вдруг… качнулась статуя богини
И знак дала, что в силу благостыни
Услышан голос был его в сей раз.
Хоть знак отсрочивал блаженства час,
Но знал он: вняло божество мольбе,
И радостный вернулся он к себе.
Неравных три часа минуло там
С тех пор, как он пошел в Венерин храм.
Тут встало солнце, и Эмилья встала
И дев своих с собою в путь собрала.
Во храм Дианы шествуют девицы,
Неся огонь зажженный для божницы
И разные куренья и покров
Для принесенья жертвенных даров,
И мед в рогах – и все, что только надо
По правилам старинного обряда.
Дымится убранный роскошно храм…
Благочестивая Эмилья там
В воде проточной тело искупала…
Не смея выдать тайну ритуала,
О нем лишь краткий сделаю отчет,
Хотя подробностей тут каждый ждет;
В них нет для благомыслящих вреда,
Но сдержанным быть лучше иногда.
Волос блестящих расчесав поток,
Дубовый зеленеющий венок
На них она надела, а потом
Два пламени зажгла над алтарем
И все обряды в том свершила виде,
Как описал их Стаций
в «Фиваиде».
Смиренья бесконечного полна,
Диане так промолвила она:
«О ты, богиня зелени лесной,
Ты видишь море, твердь и круг земной,
С Плутоном правишь в мрачной глубине.
Все мысли, все желания во мне
Ты знаешь уж давно, богиня дев!
Не дай познать мне месть твою и гнев,
Которыми, богиня, Актеона
Ты покарала зло во время оно.
Хочу я девой круг свершить земной,
Не быть ничьей любезной иль женой:
В твоей я свите (знаешь хорошо ты)
Люблю свершать веселую охоту;
Меня влечет бродить в лесной чащобе,
А не детей вынашивать в утробе,
И не ищу я близости к мужчине.
Ведь ты сильна, так помоги ж мне ныне
Во имя сущности твоей трехликой!
Вот Паламон, что полн любви великой,
И вот Арсита, что зачах любя.
По милости им дай, молю тебя,
Покой и дружбу снова обрести,
Сердца их от меня ты отврати.
Неугомонность мук и пыл страстей,
Желанье их и жар, как дым, рассей
Иль обрати их на другой предмет.
Но коль в тебе благоволенья нет
И неугодный рок меня принудит
Взять одного из них, пусть это будет
Тот, кто меня желает горячей.
Взгляни, богиня чистоты: ручей
Горючих слез бежит с моих ланит!
Ты – чистая, ты – страж, что нас хранит!
Ты честь мою спаси и сохрани!
Служа тебе, да кончу девой дни».
Сияли два огня на алтаре,
Пока молилась дева на заре,
И вдруг узрел ее смущенный глаз
Чудесный знак: один огонь погас
И ожил вновь; затем другой из двух
Затрепетал и вдруг совсем потух.
Но, угасая, прошипел сперва,
Как в очаге намокшие дрова,
А из концов поленьев вновь и вновь,
За каплей капля, засочилась кровь.
Эмилию объял столь грозный страх,
Что, чуть не помешавшись, вся в слезах
Она глядела на чудесный знак
И от испуга растерялась так,
Что страшным воплем огласила храм.
И вдруг Диана появилась там:
Охотницей она предстала с луком
И молвила: «Не предавайся мукам!
Среди богов небесных решено,
Записано и клятвой скреплено:
Ты одному из тех дана в удел,
Кто зло и муку за тебя терпел.
Которому из двух, я не скажу.
Теперь прощай. Отселе ухожу.
Огни, что мне ты засветила в храме,
Перед твоим уходом скажут сами.
Что уготовлено тебе отныне».
При сих словах в колчане у богини
Издали стрелы громкий звон и стук…
И вот она из глаз исчезла вдруг.
Эмилия, в смятении лихом,
Воскликнула: «Увы, что пользы в том?
Вверяю я себя твоей охране;
Во всем теперь подвластна я Диане».
Затем она пошла к себе домой,
А я рассказ сейчас продолжу мой.
В ближайший час, что Марсу посвящен,
Пришел Арсита к богу на поклон,
К свирепому, чтоб принести, как надо,
Ему дары по отчему обряду,
И с тяжким сердцем к Марсу, богу битвы.
Благочестивые восслал молитвы:
«О мощный бог, что средь студеных стран
Фракийских и возвышен и венчан,
В любом краю, в любой земной державе
Ты ведаешь войной, ведущей к славе,
По прихоти даря успех в бою!
Прими ты жертву скромную мою.
И если я, хотя и юный воин,
Величью твоему служить достоин
И числиться подвижником твоим,
Не будь к моей тоске неумолим.
О, вспомни муки, вспомни те огни,
Что жгли тебя желаньем в оны дни,
Когда Венерой услаждался ты,
Во цвете свежей, светлой красоты
Твоим объятьям отданной в неволю.
Ведь сам тогда познал ты злую долю,
Когда, застав с женой своей, Вулкан
Тебя поймал в тенета, как в капкан.
Во имя этих мук души твоей
Меня в страданьях тяжких пожалей.
Ты ведаешь: я юн и несмышлен
И, мню, сильней любовью уязвлен,
Чем все живые существа на свете.
Той, для кого терплю я муки эти,
И горя нет, тону я иль плыву.
Я знаю: тщетно к ней я воззову,
Покуда силой не добуду в поле.
Я знаю: от твоей зависит воли,
Добуду ль я любимую мою.
Так помоги же завтра мне в бою,
Огонь, тебя сжигавший, памятуя
И тот огонь, в котором здесь горю я.
О, дай мне завтра над врагом управу.
Мой будет труд, твоя да будет слава.
Твой главный храм сильнее чтить я буду,
Чем храмы все; тебе в угоду всюду,
Всегда блистая в мастерстве твоем, -
Повешу у тебя пред алтарем
Свой стяг и все оружие дружины,
И никогда до дня моей кончины
Перед тобою не угаснет свет.
А на себя я наложу обет:
И бороду и кудри, что доселе
Еще вовек обиды не терпели
От бритв и ножниц, я тебе отдам,
Твоим слугой до гроба буду сам.
Услышь молитву твоего раба,
В твоих руках теперь моя судьба».
Умолкла речь могучего Арситы.
Тут кольца те, что в двери были вбиты,
И сами двери загремели вдруг.
На миг Арситу обуял испуг.
Огни, что он на алтаре возжег,
Сияньем озаряли весь чертог,
И сладкий аромат струился там.
Арсита поднял длань и, фимиам
В огонь подбросив, всех обрядов круг
До самого конца свершил. И вдруг
Кольчугой идол загремел, и глухо
Сквозь гул, как шепот, донеслось до слуха;
«Победа», – и Арсита воздал честь
Владыке сеч за радостную весть.
Надежды полон, с радостной душой
Арсита полетел на свой постой,
Как птах, что свету солнечному рад.
Но в небесах пошел такой разлад,
Так за своих боролись подопечных
Венера, божество страстей сердечных,
И грозный Марс, оруженосный бог,
Что сам Юпитер их унять не мог.
Но вот Сатурн, холодный, бледный царь,
Что много знал случившегося встарь,
Сноровкою и опытом силен,
Нашел исход для спорящих сторон.
Недаром старость, говорят, сильней,
Чем юность, зрелой мудростью своей:
Юнца всегда перемудрит старик.
Сатурн, чтобы утишить шум и крик
(Хоть мир противен был его натуре),
Нашел благое средство против бури.
«О дочь моя, – промолвил он Венере, -
Мой бег, вращаясь по обширной сфере,
Мощней, чем мыслит слабый ум людской:
Я корабли топлю в волне морской,
Я в темной келье узника сушу,
Я вешаю за шею и душу.
Мне служат распря, грубая расправа,
Крамола, ропот, тайная отрава;
Я мщу, казню, нещадно кровь лия,
Когда в созвездье Льва вступаю я.
Я – разрушитель царственных палат;
Мигну, и трупы плотников лежат
Под башней иль стеною сокрушенной.
Я схоронил Самсона под колонной.
Я – повелитель недугов холодных,
Предательств темных, козней подколодных,
Я насылаю взором злым чуму.
Итак, не плачь! Все меры я приму,
И будет твой ревнитель Паламон,
Как ты сказала, девой награжден.
Хоть Марсом защищен второй боец,
Но все же мир наступит наконец,
Хоть столь у вас двоих различен норов,
Что не проходит дня без свар и споров,
Но я, твой дед, готов тебе помочь,
Твое желанье я исполню, дочь».
Теперь оставлю я богов верховных,
И Марса, и богиню мук любовных,
И изложу – сколь можно, без прикрас -
Конец того, о чем я начал сказ.
Великий праздник зашумел по граду,
К тому же месяц май дарил отраду
Сердцам людей, и вот за часом час
Шли в понедельник игрища и пляс,
И там Венере все служили рьяно.
Но так как все же надлежало рано
Заутра встать, чтоб видеть грозный бой,
Все к ночи удалились на покой.
А поутру, едва лишь день блеснул,
От скакунов и сбруи громкий гул
Загромыхал по всем дворам подряд,
К дворцу помчалось много кавалькад
Из знатных лиц на скакунах проворных.
Там много сбруй сверкало – светлых, черных,
Сработанных роскошно и богато,
Стальных, расшитых, кованных из злата.
Сверкают щит, кольчуга, пышный стяг,
С златой насечкой шлем, камзол, чепрак.
На скакунах – нарядные вельможи.
Здесь ратный муж (с ним щитоносец тоже)
Вбивает гвоздь в копье иль чистит щит,
Подвязывает шлем, копье крепит,
У всех работа, все про лень забыли:
Грызет узду златую конь, весь в мыле;
Проворный мастер оружейных дел
С напилком, с молотком везде поспел;
Все граждане и йомены пешком
Валят толпой, и каждый с посошком.
Гудки, литавры, трубы и рожки,
Чей клич кровавый так бодрит полки.
Дворец набит народом до отказа;
Здесь трое, десять там, гадают сразу.
Кто выйдет победителем из боя.
Один твердит одно, другой – другое
Одним чернобородый витязь мил,
Других кудрявый юноша пленил:
Он, молвят, лют и сильный даст отпор:
Ведь в двадцать фунтов у него топор.
Толпа шумела громко и гадала,
А между тем давно уж солнце встало,
И пробудился сам Тезей великий
Под этот говор, музыку и клики.
Но не расстался он с дворцом богатым,
Пока соперников к его палатам
Не проводили с почестью большой.
Вот у окна сидит Тезей-герой,
Как бог на троне, пышно разодет;
Внизу ж – народ, собравшийся чуть свет
Владыке своему воздать почет
И выслушать, что им он изречет.
Герольд с помоста возгласил: «Молчанье!»
И все утихли сразу в ожиданье.
Когда в толпе угомонились крики,
Он огласил желание владыки:
«Наш государь по мудрости державной
Решил, что было б тратой крови славной
Рубиться тут с повадкою такой,
С какой бойцы вступают в смертный бей.
И вот, чтоб им не дать погибнуть в поле,
Он прежнюю свою меняет волю.
Под страхом смертной казни па турнир
Да не возьмет никто пращей, секир,
Ни самострела, лука иль ножа;
Пусть колющего малого меча
Никто из них не носит на боку;
Противникам лишь раз на всем скаку
С копьем наточенным сойтись обоим
И, защищаясь, биться пешим боем.
Пусть побежденный будет взят в полон,
Но не убит, а к вехам отведен
И по взаимному пусть уговору
Он там стоит до окончанья спора.
Но если вождь ваш (этот или тот)
Сам будет взят иль ворога сшибет,
Немедленно закрыто будет поле.
Бог в помощь вам! Вперед! Сражайтесь вволю.
Оружье – длинный меч и с ним дубина.
Начните ж бой по воле властелина».
Тут глас народа до небес достиг,
Все радостно вскричали в тот же миг:
«Благословен наш добрый воевода:
Он не желает истребленья рода».
Всем возвещает струн и труб игра,
Что поспешить к ристалищу пора.
Широких улиц проезжают ряд;
Роскошною парчой увешан град.
Величественно едет герцог сам,
А два фиванца рядом по бокам;
Вослед за ним с сестрою Ипполита,
А позади – вся остальная свита:
Все по двое по должности и чину.
И так они спешат через Афины
И на арену прибывают к сроку:
Светило не ушло еще с востока.
Высоко, пышно восседал Тезей,
Супруга же его с сестрой своей
И с дамами уселись все по сходам.
А скамьи все кишмя кишат народом.
С закатных врат под Марсовой защитой
Въезжает сотня, что пришла с Арситой.
Под алым стягом выступает он.
И в тот же миг с востока Паламон
Вступает в круг с лицом и видом смелым -
Венерин паладин под стягом белым.
Хоть обыщи весь мир и вдоль и вкось,
Тебе бы отыскать не удалось
Других дружин, столь сходных меж собой
Признал бы, думаю, знаток любой,
Что были в них все качества равны:
И доблести, и возраст, и чины -
Подобраны все были так, как надо.
Их всех построили тотчас в два ряда
И имена прочли, чтоб знать по чести
И без обмана, что их ровно двести.
Закрыли круг, и клич пошел вдоль строя:
«Свой долг свершите, юные герои!»
Герольды уж не ездят взад-вперед,
Гремит труба, и в бой рожок зовет.
Вот в западной дружине и в восточной
Втыкаются древки в упоры прочно,
Вонзился шип преострый в конский бок,
Тут видно, кто боец и кто ездок.
О толстый щит ломается копье.
Боец под грудью чует острие.
На двадцать футов бьют обломки ввысь…
Вот, серебра светлей, мечи взвились,
Шишак в куски раздроблен и расшит,
Потоком красным грозно кровь бежит.
Здесь кость разбита тяжкой булавою,
А там ворвался витязь в гущу боя.
Споткнулся дюжий конь, что несся вскачь.
Тот под ноги другим летит, как мяч,
А этот на врага идет с древком.
Вот рухнул конь на землю с седоком.
Один пронзен насквозь и взят в полон
И, горемыка, к вехам отведен,
Чтоб ждать конца, как правила гласят;
Другой противной стороною взят.
Бой прерывал владыка не однажды
Для отдыха и утоленья жажды.
Фиванцы оба в этот день нередко
Встречались там, разя друг друга метко;
С коней друг друга сбросили на поле.
Такой тигрицы нет в Галадском доле
(Хоть у нее тигренка отнимите),
Что лютостью равнялась бы Арсите,
Чье сердце распалил ревнивый гнев.
Найдется вряд ли в Бельмарии лев,
Что, голодом иль псами разъярен,
Так крови жаждал бы, как Паламон
Убить врага Арситу жаждал яро.
На шлемы злые рушились удары,
Струею алой кровь текла с бойцов.
Но есть всему предел в конце концов.
Еще не село солнце на покой,
Как царь Эметрий налетел стрелой
На Паламона, что с Арситой бился, -
И в тело глубоко клинок вонзился.
Вмиг двадцатью был схвачен Паламон
И силою за вехи отведен.
На выручку ему Ликург спешит,
Могучий царь, но тут же наземь сбит.
Эметрий сам, хоть слыл за силача,
С коня слетает на длину меча:
То сшиб его до плена Паламон.
Но все напрасно: взят герой в полон.
Ему отвага тут не пособила;
Он должен плен снести: ведь держит сила,
А также уговор первоначальный…
Страдает тяжко Паламон печальный!
Уже не в силах он продолжить спор…
Едва Тезей на поле бросил взор,
Дружинам, что сражались меж собой,
Он крикнул: «Эй! Довольно! Кончен бой!
Я – беспристрастен, суд мой – справедлив.
Эмилию Арсита, князь из Фив,
Получит; честно выиграл он бой».
Тут поднялся в толпе восторг такой,
Так загудел широкий круг арены,
Что вот, казалось, сокрушатся стены.
А что владычица любви Венера
На это скажет? В горести без меры,
Она теперь рыдает так со зла,
Что даже цирк слезами залила.
«Посрамлена я, в том сомненья нет!»
«Дочь, успокойся, – ей Сатурн в ответ. -
Марс победил, и рад его боец,
Но ты, клянусь, осилишь под конец».
Тут подняли герольды кверху трубы
И музыкой, торжественной сугубо,
Хвалу воздали славному Арсите…
Но будьте-ка потише и внемлите:
Вот что внезапно там стряслось затем.
Арсита лютый отвязал свой шлем
И на коне, чтоб всем явить свой лик,
Чрез всю арену скачет напрямик,
Подняв глаза к Эмилииной ложе.
Та нежным взором отвечает тоже
(Ведь вообще благоволенье дам
Всегда идет за счастьем по пятам),
Уж льнет она к нему душой и взглядом…
Вдруг фурия, извергнутая адом,
Из-под земли явилась от Плутона
По проискам Сатурна. Конь с разгона
Шарахнулся и рухнул на песок.
Арсита и одуматься не мог,
Как вдруг был оземь сброшен головой,
Вот на песке лежит он чуть живой:
Лукой седельной грудь его разбита.
Кровь бросилась в лицо, и стал Арсита
Вороньих перьев, угольев черней.
С арены с плачем горестным скорей
Несут его в Тезеевы палаты.
Чтоб с тела снять, пришлось разрезать латы;
Уложен он на мягкую постель -
Он жив еще и в памяти досель.
Свою Эмилию зовет все время.
Тезей со свитой и гостями всеми
Немедленно отправился назад
С великой пышностью в свой стольный град.
Хотя беда случилась, как на грех,
Но не желал он опечалить всех;
К тому ж все полагали, что жених
Излечится от страшных ран своих.
Еще и то им сердце веселит,
Что не был там никто из них убит.
Все ранены; один лишь тяжело,
Сквозь кость грудную острие прошло.
От прочих ран, поломов рук и ног
Кому бальзам, кому колдун помог.
Пьют зелия, настойки и шалфей.
Ведь жизнью кто не дорожит своей,
А знатный герцог всем им воздает
По мере сил и помощь и почет.
Всю эту ночь пропировал Тезей
В кругу приехавших к нему князей,
И, кроме игр военных и турнира,
Меж них ничто не нарушало мира,
Ничто обиды не рождало жгучей:
Упасть с коня – ведь это только случай,
И случай – к вехам удалиться с поля,
Когда хватают двадцать или боле
Вас одного, и нет у вас подмоги,
И держат вас за руки и за ноги,
И палкой лупят вашего коня,
С арены прочь его в обоз гоня;
Для рыцаря нет посрамленья в том;
Никто его не назовет трусом.
Итак, Тезей велел кричать по граду,
Чтоб все забыли зависть и досаду,
Что отличились обе стороны
И, словно сестры, в доблести равны.
Когда он роздал по чинам дары,
Три полных дня шли игры и пиры.
Царей сопроводил он за ворота
На день пути для вящего почета.
И все вернулись по прямым дорогам,
Звучало только: «Добрый путь» и «С богом».
Теперь от боя мне вы разрешите
Вернуться к Паламону и Арсите.
Все больше пухнет у Арситы грудь,
И язва к сердцу пролагает путь,
Свернулась кровь, всем лекарям назло,
И отравленье в глубину пошло.
Не помогают банки и ланцет,
И от целебных зелий пользы нет.
Животной силы, названной природной
За свойство вытеснять весь груз негодный,
Не стало в нем, чтоб вон извергнуть гной.
Раздулись бронхи, на груди больной
Уже не может мышечная сеть
Гниения и яда одолеть.
Слабительных и рвотных средств уж нет,
Чтоб уничтожить гноя страшный вред;
Раздроблены все раненые части.
Природа тут своей лишилась власти.
А раз природа потеряла силу -
Прощай, наука! Надо рыть могилу.
Итак, Арсита должен ждать конца.
И шлет он за Эмилией гонца,
А также и за братом дорогим.
Послушайте, что он промолвил им:
«Не в силах жалкий дух в груди моей
Пересказать и доли всех скорбей
Вам, госпоже над всеми дорогой;
Но дух свой завещаю вам одной,
Рассказ рыцаря
Из всех людей владейте им одна,
Раз жизнь моя закончиться должна.
Увы,
оскорбь! Увы, о мука злая!
Я из-за вас давно терплю, страдая.
Увы, о смерть! Эмилия, увы!
Со мной навеки расстаетесь вы!
Рок не судил нам общего удела,
Царица сердца и убийца тела!
Что жизнь? И почему к ней люди жадны?
Сегодня с милой, завтра в бездне хладной!
Один как перст схожу в могилу я,
Прощай, прощай, Эмилия моя!
Сожми меня в объятьях горячо
И выслушай, что я скажу еще.
Мы с Паламоном-братом с давних пор
Вели борьбу великую и спор
Из-за любви и ревности своей.
Юпитер пусть научит, как верней
Мне все поведать о служенье даме
Со всеми надлежащими чертами,
А это – верность, честь и знатность рода,
Смиренье, ум и доблесть и свобода,
И сан, и все, что нужно в ратном поле.
Пускай Юпитер не получит доли
В душе моей, коль есть на свете воин,
Что так, как Паламон, любви достоин.
Тебе служить он мнит венцом всех благ,
И если ты вступить захочешь в брак,
О Паламоне вспомни, честном муже…»
Тут речь Арситы стала течь все хуже.
Смертельный холод поднялся от ног
К его груди, и бедный изнемог.
В его руках ослабла вслед за тем
Живая мощь и скрылась вдруг совсем.
Сознание, что направляло тело
Из горестного сердца, онемело,
Когда для сердца пробил смертный час.
Потом дыханье сперлось, взор угас.
От дамы глаз не мог он отвести.
Последний вздох: «Эмилия, прости!» -
И дух, сменив свой дом, помчался к краю,
Где не был я; где этот край – не знаю.
Итак, молчу; ведь я не иерей,
Которому уделы душ ясней.
И не хочу я излагать все мненья
Писавших про загробные селенья.
Арситы нет. Марс, душу упокой!
К Эмилии рассказ вернется мой.
Эмилия вскричала, скорбный глас
Возвысил Паламон. Тезей тотчас
Сестру без чувств унес от тела прочь.
Описывать ли мне, как день и ночь
Она скорбит, встречая плачем зори?
Ведь все супруги предаются горю,
Когда мужья от них уходят вдаль:
Их всех томит великая печаль,
А многие, не выдержавши мук,
Венчают смертью тяжкий свой недуг.
Безмерна скорбь, и слез поток безбрежен
У тех, кто стар, и тех, чей возраст нежен,
В Афинах всюду: все – и стар и млад -
О павшем юном рыцаре скорбят.
Ручаюсь вам, не так был страшен стон,
Когда убитый Гектор был внесен
В троянский град. В Афинах скорбь царит.
Терзанье кос, царапанье ланит.
«Зачем ты умер, – жены голосят, -
Эмилией любим, казной богат!»
Никто не мог унять тоску Тезея,
Опричь отца, маститого Эгея.
Он знал всех дел земных круговорот
И видел их падение и взлет -
Грусть после смеха, после горя смех.
И притчи знал для обстоятельств всех.
Он молвил так: «Из жителей могил
Любой на свете хоть немного жил,
И так же всякий, кто на свет рожден,
В свой срок покинуть мир сей принужден.
Что этот мир, как не долина тьмы,
Где, словно странники, блуждаем мы?
Для отдыха нам смерть дана от бога».
Об этом говорил еще он много, -
Все для того, чтоб вразумить людей,
Заставить их утешиться скорей.
Тезея между тем томит забота,
Где сделать, для воздания почета,
Последнее Арсите торжество,
Согласное со званием его.
И наконец решенье принял он,
Что в месте, где с Арситой Паламон
Из-за любви затеял бой нещадный,
В той рощице, зеленой и отрадной,
Где юноша мечты свои укрыл,
Где сетовал и охлаждал свой пыл,
Свершиться должен горестный обряд:
Пусть там останки на костре сгорят.
Повелевает герцог бить-рубить
Столетние дубы и в ряд сложить
Шпалерами, чтоб их огонь зажег.
Клевреты скачут иль не слыша ног
Бегут, куда послал их господин.
А он велел доставить паланкин
И весь устлать парчою золотой,
Ценнейшею из тех, что в кладовой.
Арситу обрядили в те же ткани,
Надев перчатки белые на длани,
Зеленым лавром увенчав чело.
В деснице острый меч горит светло,
А лик открыт под сенью катафалка,
Тезей рыдает так, что слушать жалко.
Чтоб весь народ Арситу видеть мог,
При свете дня его внесли в чертог,
Где слышен неумолчный крик и стон.
И вот фиванец скорбный Паламон,
С брадой косматой, с пеплом в волосах,
Вошел туда весь в черном и в слезах.
Коль не считать Эмилии печальной,
Он всех несчастней в свите погребальной.
Чтоб был обряд богаче и пышней,
Как для вельможи высших степеней,
Тезей велел трех скакунов богатых
Вести вослед в стальных блестящих латах,
Украшенных Арситиным гербом.
На белых крупных скакунах верхом -
Три всадника. Один копье держал,
Другой Арситин щит в десницу взял,
А третий вез турецкий лук героя
(Колчан при луке – золото литое).
Послушайте, как все происходило.
Все едут к роще тихо и уныло.
Знатнейшие всей греческой земли
Носилки с телом на плечах несли.
Нетверд их шаг, суров и влажен взгляд.
Идут по главной улице чрез град,
Что в черном весь до самых крыш домов,
И улицу такой же скрыл покров.
У тела справа шел старик Эгей,
А по другую руку – вождь Тезей,
Неся златые чаши пред народом
С вином и кровью, молоком и медом.
Шел Паламон среди большой дружины,
За ним Эмилия, полна кручины,
Несла огонь: обычаем тех дней
Обряд сожженья был поручен ей.
С большим трудом, при пышном ритуале
Священный одр Арсите воздвигали.
Главой зеленой в твердь ушел костер,
На двадцать сажен руки он простер -
Столь, значит, были ветки широки.
Соломы клали целые вьюки.
Ни как костер уложен был сполна;
и как деревьям были имена
(Дуб, ель, береза, тополь, терн, платан,
Лавенда, ива, явор, букс, каштан,
Вяз, бук, орех, тис, ясень, липа, клен);
Ни как рубили их для похорон;
Ни как засуетились божества,
Когда пришлось покинуть дерева,
Где жизнь текла их, полная отрады, -
Все нимфы, фавны и гамадриады;
Ни как бежали в страхе зверь и птица,
Когда деревья начали валиться;
Ни как объял испуг чащобу эту,
Что не привыкла к солнечному свету;
Ни как солому клали, слой на слой;
Ни как раскалывали лес сухой,
Затем бросали пряности и хвою
И самоцветы с тканью парчевою;
Ни как повис венков душистых ряд;
Ни как струился мирры аромат;
Ни как среди костра лежал Арсита,
Блестящим светом роскоши залитый;
Ни как, по чину древних похорон,
Рукой Эмильи был костер зажжен;
Ни как она, поднесши трут, сомлела
И что-то молвила, взглянув на тело;
Ни как бросали в пламя вещи в дар,
Когда огня распламенился жар;
Ни как одни кидали щит, копье,
Другие – одеяние свое,
Мед, молоко или вино из чаши
В костер, что полыхал все выше, краше;
Ни как большой толпой во весь опор
Три раза слева обскакав костер,
Три раза греки вскрикнули в печали,
Три раза копья с грохотом подъяли
И трижды жены подымали вой;
И как везли Эмилию домой,
И хладным пеплом стал Арситы прах,
Ни как всю ночь стояли на часах,
А после к играм обратились снова, -
Об этом всем я не скажу ни слова,
Как и о том, кто там, борясь нагим
И намащенным, был непобедим,
И как затем, окончивши игру,
Вернулись все в Афины поутру…
Я к самой сути возвращусь сейчас,
Чтобы закончить длинный свой рассказ.
Когда прошло довольно много лет,
Стал грекам вновь желанен солнца свет.
По общему меж ними уговору,
В Афинах, мнится, был совет в ту пору,
Что обсуждал различные дела,
И, между прочим, речь о том зашла,
Чтоб, разные союзы заключив,
Добиться полной верности от Фив.
И вот великий властелин Тезей
За славным Паламоном шлет людей,
И тот, не зная цели и причины,
Весь в черном платье, полон злой кручины,
На зов вождя великого спешит,
А тот призвать Эмилию велит.
Уселись все, и стих гудевший зал;
Тезей сперва немного переждал,
Не в силах слово из груди извлечь,
Потом повел к собранью тихо речь.
Вздохнув слегка, со взором, полным боли,
Он августейшую поведал волю:
«Великий Перводвигатель небесный,
Создав впервые цепь любви прелестной
С высокой целью, с действием благим,
Причину знал и смысл делам своим:
Любви прелестной цепью он сковал
Персть, воздух и огонь и моря вал,
Чтобы вовек не разошлись они.
И тот же Двигатель в седые дни
Установил своей святою волей
Известный срок – вот столько и не боле, -
Для всякого, кто женщиной рожден,
И этот срок не может быть прейден;
Порою может он лишь сокращаться.
Ни на кого не буду я ссылаться:
То опытом доказано давно.
Мной будет только следствие дано.
Поняв порядок сей, мы заключим,
Что Двигатель вовек несокрушим.
Часть целым обусловлена: кому
Неведомо об этом, враг уму.
Вселенная, быв хаосом сперва,
Не из обломков вышла вещества,
А из основы вечной, совершенной
И, только вниз спустившись, стала бренной.
А провиденье в мудрости благой
Столь благолепный учредило строй,
Что виды и движенья всех вещей
Должны всегда сменяться в жизни сей;
Они не вечны – это непреложно,
Увидеть это даже глазом можно.
Дуб, например: растет он долгий срок,
С тех пор как из земли пустил росток;
Вы видите, как долго он живет;
Но все же ствол в конце концов сгниет.
Взгляните вы на камень при дороге,
Который трут и топчут наши ноги:
И он когда-нибудь свой кончит век.
Как часто сохнут русла мощных рек!
Как пышные мертвеют города!
Всему предел имеется всегда.
Мы то же зрим у женщин и мужчин:
Из двух житейских возрастов в один
(Иль в старости, иль в цвете юных лет)
Король и паж – все покидают свет.
Кто на кровати, кто на дне морском,
Кто в поле (сами знаете о том).
Спасенья нет: всех ждет последний путь.
Всяк должен умереть когда-нибудь.
Кто всем вершит? Юпитер-властелин;
Он царь всего, причина всех причин.
Юпитеровой воле все подвластно,
Что из него рождается всечасно,
И ни одно живое существо
В борьбе не может одолеть его.
Не в том ли вся премудрость, бог свидетель,
Чтоб из нужды нам сделать добродетель,
Приемля неизбежную беду,
Как рок, что всем написан на роду?
А тот, кто ропщет, – разуменьем слаб
И супротив творца мятежный раб.
Поистине, прекрасней чести нет,
Чем доблестно скончаться в цвете лет.
Уверенным, что оказал услугу
Ты славою своей себе и другу.
Приятней вдвое для твоих друзей,
Коль испустил ты дух во славе всей,
Чем если ты поблек от дряхлых лет
И всеми позабыт покинул свет.
Всего почетней пред молвой людской
В расцвете славы обрести покой.
Упрямец только будет спорить с этим.
Чего ж мы ропщем? С гордостью отмстим,
Что наш Арсита, ратоборцев цвет,
Исполнив долг, покинул с честью свет
И этой жизни грязный каземат.
Зачем, любя его, жена и брат
Его счастливую судьбу хулят?
Он благодарен им? О нет, навряд.
И душу друга и себя позоря,
Они досель унять не могут горя.
Из длинной речи что же извлеку?
Одно: пусть радость сменит им тоску.
За милость мы Юпитера восславим
И, прежде чем сии места оставим,
Мгновенно сделаем из двух скорбей
Одно блаженство до скончанья дней.
Смотрите же: где всего сильней страданье
Оттуда и начну я врачеванье.
Сестра, мое решенье таково:
С согласия совета моего,
Пусть Паламон, ваш рыцарь, что примерно
Вам сердцем всем и силой служит верно
И так служил с тех пор, как знает вас,
Любовью вашей взыщется в сей час.
Отныне муж вам юноша прекрасный.
Мне дайте руку в том, что вы согласны.
По-женски будьте кротки, а не строги:
Ведь он – племянник царский, видят боги,
Но если бы простой вассал он был,
Ведь то, что столько лет он вам служил
И столько ради вас терпел тягот,
Вы, верьте мне, должны принять в расчет.
Не знает милость никаких препон».
А рыцарю он молвил: «Паламон,
Вам увещанья надобны едва ли,
Чтобы на это вы согласье дали,
Приблизьтесь и подайте руку даме.
Согласие моих баронов с вами».
Тут узами, которым имя брак,
Связали их; для жизни, полной благ,
С веселием под нежных лютней звон
С Эмильей повенчался Паламон.
О, если б бог-зиждитель так дарил
Любовь всем тем, кто так ее купил!
Наш Паламон, блажен своей любовью,
Живет в богатстве, радости, здоровье.
Эмилией любим он столь же нежно
И служит ей по-рыцарски прилежно,
И нет меж ними ни худого слова,
Ни ревности, ни спора никакого.
О Паламоне кончен мой рассказ,
И да хранит господь всевышний нас!
Здесь кончается рассказ рыцаря
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.