 |
|
Популярные авторы:: БСЭ :: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Азимов Айзек :: Чапек Карел :: Горький Максим :: Раззаков Федор :: Толстой Лев Николаевич :: Станюкович Константин Михайлович :: Картленд Барбара Популярные книги:: Скандальная леди :: Рагнарёк :: The Boarding House :: Елка для взрослых :: Дюна (Книги 1-3) :: Бегущая по волнам :: У любви свои законы :: Дочь Льва :: Опаловый кулон :: Таинственный мир Натальи Нестеровой |
Полное собрание сочинений и писем (№3) - Рассказы. Юморески. «Драма на охоте». 1884–1885ModernLib.Net / Классическая проза / Чехов Антон Павлович / Рассказы. Юморески. «Драма на охоте». 1884–1885 - Чтение (Весь текст)
Антон Павлович Чехов РАССКАЗЫ. ЮМОРЕСКИ. «ДРАМА НА ОХОТЕ». 1884—1885 Рассказы. Юморески. «Драма на охоте» Несообразные мысли Один учитель древних языков, человек на вид суровый, положительный и желчный, но втайне фантазер и вольнодумец, жаловался мне, что всегда, когда он сидит на ученических extemporalia[1] или на педагогических советах, его мучают разные несообразные и неразрешимые вопросы. То и дело, жаловался он, залезают в его голову вопросы вроде: «Что было бы, если бы вместо пола был потолок и вместо потолка пол? Что приносят древние языки: пользу или убыток? Каким образом учителя делали бы визиты директору, если бы последний жил на луне?» и т. д. Все эти и подобные вопросы, если они неотвязно сидят в голове, именуются в психиатрии «насильственными представлениями». Болезнь неизлечимая, тяжелая, но для наблюдателя интересная. На днях учитель явился ко мне и сказал, что его стал мучить вопрос: «Что было бы, если бы мужчины одевались по-женски?» Вопрос несообразный, сверхъестественный и даже неприличный, но нельзя сказать, чтобы на него трудно было ответить. Педагог ответил себе на него так: если бы мужчины одевались по-женски, то — коллежские регистраторы носили бы ситцевые платья и, пожалуй, по высокоторжественным дням — барежевые. Корсеты они носили бы рублевые, чулки полосатые, бумажные; декольте не возбранялось бы только в своей компании… почтальоны и репортеры, шагая через канавы и лужи, были бы привлекаемы за проступки против общественной нравственности; московский Юрьев[2] ходил бы в кринолине и ватном капоте; классные сторожа Михей и Макар каждое утро ходили бы к «самому» затягивать его в корсет; чиновники особых поручений и секретари благотворительных обществ одевались бы не по средствам; поэт Майков носил бы букольки, зеленое платье с красными лентами и чепец; телеса И. С. Аксакова покоились бы в сарафане и душегрейке; заправилы Лозово-Севастопольской дороги, по бедности, щеголяли бы в исподнице и т. д. А вот и разговоры: — Тюник, ваше —ство, выше всякой критики-с! Турнюр великолепен-с! Декольте несколько велико. — По форме, братец! Декольте IV класса! А ну-ка, поправь мне внизу оборку! и т. д. Самообольщение (Сказка) Один умный, всеми уважаемый участковый пристав имел одну дурную привычку, а именно: сидя в компании, он любил кичиться своими дарованиями, которых, надо отдать ему полную справедливость, было у него очень много. Он кичился своим умом, энергией, силой, образом мыслей и проч. — Я силен! — говорил он. — Хочу — подкову сломаю, хочу — человека с кашей съем… Могу и Карфаген разрушить и гордиевы узлы мечом рассекать. Вот какой я! Он кичился, и все ему удивлялись. К несчастью, пристав не кончил нигде курса и не читал прописей; он не знал, что самообольщение и гордость суть пороки, недостойные благородной души. Но случай вразумил его. Однажды зашел он к своему другу, старику брандмейстеру, и, увидев там многочисленное общество, начал кичиться. Выпив же три рюмки водки, он выпучил глаза и сказал: — Глядите, ничтожные! Глядите и разумейте! Солнце, которое вот на небеси с прочими светилами и облаками! Оно идет с востока на запад, и никто не может изменить его путь! Я же могу! Могу! Старик брандмейстер подал ему четвертую рюмку и заметил дружески: — Верю-с! Для человеческого ума нет ничего невозможного. Сей ум всё превзошел. Может он и подковы ломать, и каланчу до неба выстроить, и с мертвого взятку взять… всё может! Но, Петр Евтропыч, смею вам присовокупить, есть одно, чего не может побороть не только ум человеческий, но даже и ваша сила. — Что же это такое? — презрительно усмехнулся самообольщенный. — Вы можете всё пересилить, но не можете пересилить самого себя. Да-с! «Гноти се авт[3] А вы себя ни познать, ни пересилить не можете. Против своей природы не пойдешь. Да-с! — Нет, пойду! И себя пересилю! — Ой, не пересилите! Верьте старику, не пересилите! Поднялся спор. Кончилось тем, что старик брандмейстер повел гордеца в мелочную лавочку и сказал: — Сейчас я вам докажу-с… У этого вот лавочника в этой шкатулке лежит десятирублевка. Если вы можете пересилить себя, то не берите этих денег… — И не возьму! Пересилю! Гордец скрестил на груди руки и при общем внимании стал себя пересиливать. Долго он боролся и страдал. Полчаса пучил он глаза, багровел и сжимал кулаки, но под конец не вынес, машинально протянул к шкатулке руку, вытащил десятирублевку и судорожно сунул ее к себе в карман. — Да! — сказал он. — Теперь понимаю! И с тех пор он уж никогда не кичился своей силой. Дачница Леля NN, хорошенькая двадцатилетняя блондинка, стоит у палисадника дачи и, положив подбородок на перекладину, глядит вдаль. Всё далекое поле, клочковатые облака на небе, темнеющая вдали железнодорожная станция и речка, бегущая в десяти шагах от палисадника, залиты светом багровой, поднимающейся из-за кургана луны. Ветерок от нечего делать весело рябит речку и шуршит травкой… Кругом тишина… Леля думает… Хорошенькое лицо ее так грустно, в глазах темнеет столько тоски, что, право, неделикатно и жестоко не поделиться с ней ее горем. Она сравнивает настоящее с прошлым. В прошлом году, в этом же самом душистом и поэтическом мае, она была в институте и держала выпускные экзамены. Ей припоминается, как классная дама m-lle Morceau, забитое, больное и ужасно недалекое созданье с вечно испуганным лицом и большим, вспотевшим носом, водила выпускных в фотографию сниматься. — Ах, умоляю вас, — просила она конторщицу в фотографии, — не показывайте им карточек мужчин! Просила она со слезами на глазах. Эта бедная ящерица, никогда не знавшая мужчин, приходила в священный ужас при виде мужской физиономии. В усах и бороде каждого «демона» она умела читать райское блаженство, неминуемо ведущее к неведомой, страшной пропасти, из которой нет выхода. Институтки смеялись над глупой Morceau, но, пропитанные насквозь «идеалами», они не могли не разделять ее священного ужаса. Они веровали, что там, за институтскими стенами, если не считать катарального папаши и братцев-вольноопределяющихся, кишат косматые поэты, бледные певцы, желчные сатирики, отчаянные патриоты, неизмеримые миллионеры, красноречивые до слез, ужасно интересные защитники… Гляди на эту кишащую толпу и выбирай! В частности, Леля была убеждена, что, выйдя из института, она неминуемо столкнется с тургеневскими и иными героями, бойцами за правду и прогресс, о которых впередогонку трактуют все романы и даже все учебники по истории — древней, средней и новой… В этом мае Леля уже замужем. Муж ее красив, богат, молод, образован, всеми уважаем, но, несмотря на всё это, он (совестно сознаться перед поэтическим маем!) груб, неотесан и нелеп, как сорок тысяч нелепых братьев.[4] Просыпается он ровно в десять часов утра и, надевши халат, садится бриться. Бреется он с озабоченным лицом, с чувством, с толком, словно телефон выдумывает. После бритья пьет какие-то воды, тоже с озабоченным лицом. Затем, одевшись во всё тщательно вычищенное и выглаженное, целует женину руку и в собственном экипаже едет на службу в «Страховое общество». Что он делает в этом «обществе», Леля не знает. Переписывает ли он только бумаги, сочиняет ли умные проекты, или, быть может, даже вращает судьбами «общества» — неизвестно. В четвертом часу приезжает он со службы и, жалуясь на утомление и испарину, переменяет белье. Затем садится обедать. За обедом он много ест и разговаривает. Говорит всё больше о высоких материях. Решает женский и финансовый вопросы, бранит за что-то Англию, хвалит Бисмарка. Достается от него газетам, медицине, актерам, студентам… «Молодежь ужжасно измельчала!» За один обед успеет сотню вопросов решить. Но, что ужаснее всего, обедающие гости слушают этого тяжелого человека и поддакивают. Он, говорящий нелепости и пошлости, оказывается умнее всех гостей и может служить авторитетом. — Нет у нас теперь хороших писателей! — вздыхает он за каждым обедом, и это убеждение вынес он не из книг. Он никогда ничего не читает — ни книг, ни газет. Тургенева смешивает с Достоевским, карикатур не понимает, шуток тоже, а прочитав однажды, по совету Лели, Щедрина, нашел, что Щедрин «туманно» пишет. — Пушкин, ma ch[5], лучше… У Пушкина есть очень смешные вещи! Я читал… помню… После обеда он идет на террасу, садится в мягкое кресло и, полузакрыв глаза, задумывается. Думает долго, сосредоточенно, хмурясь и морщась… О чем он думает, неведомо Леле. Она знает только, что после двухчасовой думы он нисколько не умнеет и несет всё ту же чушь. Вечером игра в карты. Играет он аккуратно. Над каждым ходом долго думает и, в случае ошибки партнера, ровным, отчеканивающим голосом излагает правила карточной игры. После карт, по уходе гостей, он пьет те же воды и с озабоченным лицом ложится спать. Во сне он покоен, как лежачее бревно. Изредка только бредит, но и бред его нелеп. — Извозчик! Извозчик! — услышала от него Леля на вторую ночь после свадьбы. Всю ночь он бурчит. Бурчит у него в носу, в груди, животе… Больше ничего не может сказать о нем Леля. Она стоит теперь у палисадника, думает о нем, сравнивает его со всеми знакомыми ей мужчинами и находит, что он лучше всех; но ей не легче от этого. Священный ужас m-lle Morceau обещал ей больше. С женой поссорился (Случай) — Чёрт вас возьми! Придешь со службы домой голодный, как собака, а они чёрт знает чем кормят! Да и заметить еще нельзя! Заметишь, так сейчас рев, слезы! Будь я трижды анафема за то, что женился! Сказавши это, муж звякнул по тарелке ложкой, вскочил и с остервенением хлопнул дверью. Жена зарыдала, прижала к лицу салфетку и тоже вышла. Обед кончился. Муж пришел к себе в кабинет, повалился на диван и уткнул свое лицо в подушку. «Чёрт тебя дернул жениться! — подумал он. — Хороша „семейная“ жизнь, нечего сказать! Не успел жениться, как уж стреляться хочется!» Через четверть часа за дверью послышались легкие шаги… «Да, это в порядке вещей… Оскорбила, надругалась, а теперь около двери ходит, мириться хочет… Ну, чёрта с два! Скорей повешусь, чем помирюсь!» Дверь отворилась с тихим скрипом и не затворилась. Кто-то вошел и тихими, робкими шагами направился к дивану. «Ладно! Проси прощения, умоляй, рыдай… Кукиш с маслом получишь! чёрта пухлого! Ни одного слова не добьешься, хоть умри… Сплю вот и говорить не желаю!» Муж глубже зарыл свою голову в подушку и тихо захрапел. Но мужчины слабы так же, как и женщины. Их легко раскислить и растеплить. Почувствовав за своей спиной теплое тело, муж упрямо придвинулся к спинке дивана и дернул ногой. «Да… Теперь вот мы лезем, прижимаемся, подлизываемся… Скоро начнем в плечико целовать, на колени становиться. Не выношу этих нежностей!.. Все-таки… нужно будет ее извинить. Ей в ее положении вредно тревожиться. Помучу часик, накажу и прощу…» Над самым ухом его тихо пролетел глубокий вздох. За ним другой, третий… Муж почувствовал на плече прикосновение маленькой ручки. «Ну, бог с ней! Прощу в последний раз. Будет ее мучить, бедняжку! Тем более, что я сам виноват! Из-за ерунды бунт поднял…» — Ну, будет, моя крошка! Муж протянул назад руку и обнял теплое тело. — Тьфу!!. Около него лежала его большая собака Дианка. Русский уголь (Правдивая история) В одно прекрасное апрельское утро русский le comte[6] Тулупов ехал на немецком пароходе вниз по Рейну и от нечего делать беседовал с «колбасником». Его собеседник, молодой сухопарый немец, весь состоящий из надменно-ученой физиономии, собственного достоинства и туго накрахмаленных воротничков, отрекомендовался горным мастером Артуром Имбс и упорно не сворачивал с начатого и уже надоевшего графу разговора о русском каменном угле. — Судьба нашего угля весьма плачевна, — сказал, между прочим, граф, испустив вздох ученого знатока. — Вы не можете себе представить: Петербург и Москва живут английским углем, Россия жжет в печах свои роскошные, девственные леса, а между тем недра нашего юга содержат неисчерпаемые богатства! Имбс печально покачал головой, досадливо крякнул и потребовал карту России. Когда лакей принес карту, граф провел ногтем мизинца по берегу Азовского моря, поцарапал тем же ногтем возле Харькова и проговорил: — Вот здесь… вообще… Понимаете? Весь юг!!. Имбсу хотелось точнее узнать те именно места, где залегает наш уголь, но граф не сказал ничего определенного; он беспорядочно тыкал своим ногтем по всей России и раз даже, желая показать богатую углем Донскую область, ткнул на Ставропольскую губернию. Русский граф, по-видимому, плохо знал географию своей родины. Он ужасно удивился и даже изобразил на своем лице недоверие, когда Имбс сказал ему, что в России есть Карпатские горы. — У меня у самого, знаете ли, есть в Донской области имение, — сказал граф. — Восемь тысяч десятин земли. Прекрасное имение! Угля в нем, представьте себе… eine zahllose… eine oceanische Menge![7] Миллионы в земле зарыты… пропадают даром… Давно уже мечтаю заняться этим вопросом… Подыскиваю случая… подходящего человека. У нас в России нет ведь специалистов! Полное безлюдье! Заговорили вообще о специалистах. Говорили много и долго… Кончилось тем, что граф вскочил вдруг, как ужаленный, хлопнул себя по лбу и сказал: — Знаете что? Я очень рад, что с вами встретился. Не хотите ли ехать ко мне в имение? А? Что вам здесь делать, в Германии? Здесь ученых немцев и без вас много, а у меня вы дело сделаете! И какое дело!.. Хотите? Соглашайтесь скорей! Имбс нахмурился, походил по каюте из угла в угол и, рассудив и взвесив, дал согласие. Граф пожал ему руку и крикнул шампанского… — Ну, теперь я покоен, — сказал он. — У меня будет уголь… Через неделю Имбс, нагруженный книгами, чертежами и надеждами, ехал уже в Россию, нецеломудренно мечтая о русских рублях. В Москве граф дал ему двести рублей, адрес имения и приказал ехать на юг. — Езжайте себе и начинайте там… Я, может быть, осенью приеду. Пишите, как и что… Прибыв в имение Тулупова, Имбс поселился во флигеле и на другой же день после приезда занялся «снабжением России углем». Через три недели он послал графу первое письмо. «Я уже ознакомился с углем вашей земли, — писал он после длинного робкого вступления, — и нашел, что, благодаря своему низкому качеству, он не ст[8] Донецкая Каменноугольная дорога, идущая через ваше имение, построена специально для перевозки каменного угля, но, как оказывается, ей за всё время своего существования не удалось провезти еще ни одного пуда. Нужно быть нечестным или слишком легкомысленным, чтобы подать вам хотя бы каплю надежды на успех. Осмелюсь также добавить, что ваше хозяйство до того расстроено и распущено, что добывание угля и вообще какие бы то ни было нововведения являются роскошью». В конце концов немец просил графа порекомендовать его другим русским «Fursten oder Grafen»[9] или же выслать ему «ein wenig»[10] на обратный путь в Германию. В ожидании милостивого ответа Имбс занялся уженьем карасей и ловлей перепелов на дудочку. Ответ на это письмо получил не Имбс, а управляющий, поляк Дзержинский. «А немцу скажите, что он ни черта не понимает, — писал граф в постскриптуме. — Я показывал его письмо одному горному инженеру (тайному советнику Млееву), и оно возбудило смех. Впрочем, я его не держу. Пусть себе уезжает. Деньги же на дорогу у него есть. Я дал ему 200 руб. Если он потратил на дорогу 50, то и тогда останется у него 150 руб.» Узнав о таком ответе, Имбс ужасно испугался. Он сел и покрыл своим немецким, расплывающимся почерком два листа почтовой бумаги. Он умолял графа простить его великодушно за то, что он скрыл от него в первом письме многое «очень важное». Со слезами на глазах и угрызаемый совестью он писал, что оставшиеся после дороги из Москвы 172 рубля он имел неосторожность проиграть в карты Дзержинскому. «Впоследствии я выиграл с него 250 р., но он не отдает мне их, хотя и получил с меня весь мой проигрыш, а потому осмеливаюсь прибегать к вашему всемогуществу, заставьте уважаемого господина Дзержинского уплатить мне хоть половину, чтобы я мог оставить Россию и не есть даром вашего хлеба». Много воды утекло в море и много карасей и перепелов поймал Имбс, пока получил ответ на это второе письмо. Однажды, в конце июля, в его комнату вошел поляк и, севши на кровать, принялся припоминать вслух все ругательства, имеющиеся на немецком языке. — Удивительный осел этот граф! — сказал он, хлопая фуражкой о край стола. — Пишет мне, что уезжает на днях в Италию, а не дает никаких распоряжений относительно вас. Куда мне вас девать? Водку вами закусывать, что ли? И на чертей ему дался этот уголь! Уголь ему нужен так же, как мне ваша физиономия, чёрт его возьми! И вы тоже хороши, нечего сказать! Глупый, объевшийся баловень наболтал вам от нечего делать, а вы ему поверили! — Граф уезжает в Италию? — удивился Имбс, бледнея. — А денег мне прислал? Нет?! Как же я уеду отсюда? Ведь у меня ни копейки!.. Послушайте меня, уважаемый господин Дзержинский… Если вы не можете отдать мне вашего проигрыша, то не купите ли вы моих книг и чертежей? В России вы сбудете их за очень большую сумму! — В России не нужны ваши книги и чертежи. Имбс сел и задумался. Пока поляк наполнял воздух своею желчью, немец решал свой шкурный вопрос и чувствовал всеми своими немецкими чувствами, как у него портилась в эти минуты кровь. Он похудел, обрюзг, и выражение надменной учености на лице уступило место выражению боли, безнадежности… Сознание безвыходного плена, вдали от рейнских волн и компании горных мастеров, заставило его плакать… Вечером он сидел у окна и глядел на луну… Кругом была тишина. Где-то вдали пиликала гармонийка и ныла жалобная русская песенка. Эти звуки защемили Имбса за сердце… Его охватила такая тоска по родине, по праву и справедливости, что он отдал бы всю жизнь за то только, чтобы очутиться в эту ночь дома… «И здесь светит эта луна, и там она светит, а какая разница!» — думал он. Всю ночь тосковал Имбс. Под утро он не вынес тоски и порешил уйти. Сложив свои «ненужные в России» книги и чертежи в котомку, он выпил натощак воды и ровно в четыре часа утра поплелся пешечком к северу. Он порешил идти в тот самый Харьков, который еще так недавно граф поцарапал на карте своим розовым ногтем. В Харькове надеялся он встретить немцев, которые могли бы дать ему денег на дорогу. — Дорогой стащили с меня, сонного, сапоги, — рассказывал Имбс своим приятелям, сидя через месяц на том же пароходе. — Такова «русская честность»! Но в конце концов нужно отдать ей справедливость: от Славянска до Харькова русский кондуктор провез меня за сорок копеек — деньги, вырученные мною за мою пенковую трубку. Это нечестно, но зато очень дешево! Дачные правила §§. Воспрещается жить на даче сумасшедшим, безумным, страдающим заразными болезнями, престарелым, малолетним и находящимся в строю нижним чинам, ибо нигде нет столько опасности сочетаться законным браком, как на чистом воздухе. §§. Живи, плодись и размножайся. §§. Если ты, сидя у гостеприимной соседки, выкушал три чашки чаю и после всего этого почувствовал вдруг в своих внутренностях брожение умов, то, не прибегая ни к каким фармацевтическим средствам, надевай шапку и иди. §§. Купаясь в реке, не стой спиной к берегу, ибо на последнем в эту пору могут находиться дамы. §§. Прыщи на губах от частых поцелуев излечиваются не столько мазями, сколько назиданиями родителей и опекунов. §§. Если у тебя вскочил на левой щеке флюс, то всеми силами постарайся, чтобы такой же флюс вскочил у тебя и на правой, ибо ничто так не ласкает взора, как симметрия. Примечание. Если у тебя флюс, то не позволяй жене бить тебя по щекам. §§. Если папенька безвозмездно угощает тебя сигарами и старательно скрывает от тебя, что его движимое и недвижимое заложено, если маменька угощает тебя кофеем и сдобными финтифлюшками, если дочка поет «Месяц плывет»[11] и не боится оставаться с тобой наедине, то беги за городовым: тебя хотят окрутить. §§. Травы не мять, почвы не загрязнять и берез не ломать. Последнее может быть допускаемо только в интересах педагогии и правосудия. §§. Если ты влюблен, то возьми: §§. Городовым и дворникам вменяется в обязанность наблюдать: a) чтобы объяснения в любви производились высоким слогом; b) чтобы в этих объяснениях не было выражений, клонящихся к ниспровержению дозволенного законом здравого смысла; c) чтобы воспитанники учебных заведений, объясняясь в любви только по-латыни или по-гречески, были в полной форме, дорожили честью своего учебного заведения и, спрягая глагол «amo», не выходили из пределов, указанных Кюнером;[12] d) чтобы особы ниже титулярного держали себя на приличной дистанции от дочерей особ не ниже V класса. §§. Дачевладельцам и участковым приставам рекомендуется внушать молодым людям, что выражения вроде: «Я готов отдать за тебя весь мир! Ты для меня дороже жизни!» и проч. по меньшей мере неуместны, ибо они могут внушить дворникам и городовым превратные понятия о целях жизни и величии вселенной. §§. Ложась спать, надевай, на случай могущего быть ночью дождя, калоши и укрывайся брезентом, радуясь, что и сквозь брезент можно выслушивать ропот жены, вопли озябнувших детей и полицейские свистки. §§. В случае если ограбят тебя дачные мазурики, то поступай в городовые и мсти. Другого выхода нет. §§. Дабы гарантировать свою дачу от нашествия родственников и друзей, распусти слух о своей неблагонадежности. §§. Вообще: не ходи в светлых брюках, не пей после молока квасу, закаляй свой слух кошачьими концертами и высоким «штилем» старых дев, ешь задаром, пей нашаромыжку, люби на шереметьевский счет, пренебрегай стихиями, аккуратно плати праздничные, уважай родителей, люби начальство — и ты будешь счастлив. Письмо к репортеру М. г.! Мне всё известно! На этой неделе было шесть больших и четыре маленьких пожара. Застрелился молодой человек от пламенной любви к одной девице, эта же девица, узнав о его смерти, помешалась в мыслях. Повесился дворник Гускин от неумеренного употребления. Потонула вчерашнего числа лодка с двумя пассажирами и маленьким дитем… Бедное дите! В «Аркадии» какому-то купцу прожгли на спине дыру и чуть шеи не сломали. Поймали четырех прилично одетых жуликов, и произошло кораблекрушение товарного поезда. Всё мне известно, милостивый государь! Столько разных приятных случаев, столько у вас теперь денег и вы мне ни копейки!.. Этак хорошие господа не делают! Ваш портной Змирлов. Сообщил Человек без селезенки. Брожение умов (Из летописи одного города) Земля изображала из себя пекло. Послеобеденное солнце жгло с таким усердием, что даже Реомюр, висевший в кабинете акцизного, потерялся: дошел до 35,8° и в нерешимости остановился… С обывателей лил пот, как с заезженных лошадей, и на них же засыхал; лень было вытирать. По большой базарной площади, в виду домов с наглухо закрытыми ставнями, шли два обывателя: казначей Почешихин и ходатай по делам (он же и старинный корреспондент «Сына отечества») Оптимов. Оба шли и по случаю жары молчали. Оптимову хотелось осудить управу за пыль и нечистоту базарной площади, но, зная миролюбивый нрав и умеренное направление спутника, он молчал. На середине площади Почешихин вдруг остановился и стал глядеть на небо. — Что вы смотрите, Евпл Серапионыч? — Скворцы полетели. Гляжу, куда сядут. Туча тучей! Ежели, положим, из ружья выпалить, да ежели потом собрать… да ежели… В саду отца протоиерея сели! — Нисколько, Евпл Серапионыч. Не у отца протоиерея, а у отца дьякона Вратоадова. Если с этого места выпалить, то ничего не убьешь. Дробь мелкая и, покуда долетит, ослабнет. Да и за что их, посудите, убивать? Птица насчет ягод вредная, это верно, но все-таки тварь, всякое дыхание. Скворец, скажем, поет… А для чего он, спрашивается, поет? Для хвалы поет. Всякое дыхание да хвалит господа. Ой, нет! Кажется, у отца протоиерея сели! Мимо беседующих бесшумно прошли три старые богомолки с котомками и в лапотках. Поглядев вопросительно на Почешихина и Оптимова, которые всматривались почему-то в дом отца протоиерея, они пошли тише и, отойдя немного, остановились и еще раз взглянули на друзей и потом сами стали смотреть на дом отца протоиерея. — Да, вы правду сказали, они у отца протоиерея сели, — продолжал Оптимов. — У него теперь вишня поспела, так вот они и полетели клевать. Из протопоповой калитки вышел сам отец протоиерей Восьмистишиев и с ним дьячок Евстигней. Увидев обращенное в его сторону внимание и не понимая, на что это смотрят люди, он остановился и, вместе с дьячком, стал тоже глядеть вверх, чтобы понять. — Отец Паисий, надо полагать, на требу идет, — сказал Почешихин. — Помогай ему бог! В пространстве между друзьями и отцом протоиереем прошли только что выкупавшиеся в реке фабричные купца Пурова. Увидев отца Паисия, напрягавшего свое внимание на высь поднебесную, и богомолок, которые стояли неподвижно и тоже смотрели вверх, они остановились и стали глядеть туда же. То же самое сделал и мальчик, ведший нищего-слепца, и мужик, несший для свалки на площади бочонок испортившихся сельдей. — Что-то случилось, надо думать, — сказал Почешихин. — Пожар, что ли? Да нет, не видать дыму! Эй, Кузьма! — крикнул он остановившемуся мужику. — Что там случилось? Мужик что-то ответил, но Почешихин и Оптимов ничего не расслышали. У всех лавочных дверей показались сонные приказчики. Штукатуры, мазавшие лабаз купца Фертикулина, оставили свои лестницы и присоединились к фабричным. Пожарный, описывавший босыми ногами круги на каланче, остановился и, поглядев немного, спустился вниз. Каланча осиротела. Это показалось подозрительным. — Уж не пожар ли где-нибудь? Да вы не толкайтесь! Чёрт свинячий! — Где вы видите пожар? Какой пожар? Господа, разойдитесь! Вас честью просят! — Должно, внутри загорелось! — Честью просит, а сам руками тычет. Не махайте руками! Вы хоть и господин начальник, а вы не имеете никакого полного права рукам волю давать! — На мозоль наступил! А, чтоб тебя раздавило! — Кого раздавило? Ребята, человека задавили! — Почему такая толпа? За какой надобностью? — Человека, ваше выскблаародие, задавило! — Где? Рразойдитесь! Господа, честью прошу! Честью просят тебя, дубина! — Мужиков толкай, а благородных не смей трогать! Не прикасайся! — Нешто это люди? Нешто их, чертей, проймешь добрым словом? Сидоров, сбегай-ка за Акимом Данилычем! Живо! Господа, ведь вам же плохо будет! Придет Аким Данилыч, и вам же достанется! И ты тут, Парфен?! А еще тоже слепец, святой старец! Ничего не видит, а туда же, куда и люди, не повинуется! Смирнов, запиши Парфена! — Слушаю! И пуровских прикажете записать? Вот этот самый, который щека распухши, — это пуровский! — Пуровских не записывай покуда… Пуров завтра именинник! Скворцы темной тучей поднялись над садом отца протоиерея, но Почешихин и Оптимов уже не видели их; они стояли и всё глядели вверх, стараясь понять, зачем собралась такая толпа и куда она смотрит. Показался Аким Данилыч. Что-то жуя и вытирая губы, он взревел и врезался в толпу. — Пожжаррные, приготовьсь! Рразойдитесь! Господин Оптимов, разойдитесь, ведь вам же плохо будет! Чем в газеты на порядочных людей писать разные критики, вы бы лучше сами старались вести себя посущественней! Добру-то не научат газеты! — Прошу вас не касаться гласности! — вспылил Оптимов. — Я литератор и не дозволю вам касаться гласности, хотя, по долгу гражданина, и почитаю вас, как отца и благодетеля! — Пожарные, лей! — Воды нет, ваше высокоблаародие! — Не рразговаривать! Поезжайте за водой! Живааа! — Не на чем ехать, ваше высокоблагородие. Майор на пожарных лошадях поехали ихнюю тетеньку провожать! — Разойдитесь! Сдай назад, чтоб тебя черти взяли… Съел? Запиши-ка его, чёрта! — Карандаш потерялся, ваше высокоблаародие… Толпа всё увеличивалась и увеличивалась… Бог знает, до каких бы размеров она выросла, если бы в трактире Грешкина не вздумали пробовать полученный на днях из Москвы новый орган. Заслышав «Стрелочка», толпа ахнула[13] и повалила к трактиру. Так никто и не узнал, почему собралась толпа, а Оптимов и Почешихин уже забыли о скворцах, истинных виновниках происшествия. Через час город был уже недвижим и тих, и виден был только один-единственный человек — это пожарный, ходивший на каланче… Вечером того же дня Аким Данилыч сидел в бакалейной лавке Фертикулина, пил лимонад-газес с коньяком и писал: «Кроме официальной бумаги, смею добавить, ваше —ство, и от себя некоторое присовокупление. Отец и благодетель! Именно только молитвами вашей добродетельной супруги, живущей в благорастворенной даче близ нашего города, дело не дошло до крайних пределов! Столько я вынес за сей день, что и описать не могу. Распорядительность Крушенского и пожарного майора Портупеева не находит себе подходящего названия. Горжусь сими достойными слугами отечества! Я же сделал всё, что может сделать слабый человек, кроме добра ближнему ничего не желающий, и, сидя теперь среди домашнего очага своего, благодарю со слезами Того, кто не допустил до кровопролития. Виновные, за недостатком улик, сидят пока взаперти, но думаю их выпустить через недельку. От невежества преступили заповедь!» Дачное удовольствие Чиновник межевой канцелярии Чудаков и некто Косинусов тихо подплыли к женской купальне и, выбрав самую широкую щель, стали созерцать. — Она наверное здесь, — прошептал Косинусов. — Но я ее не вижу. — А я вижу… В правом углу лежит на простыне… — Да, да… вижу… Чёрт возьми… — А она полна! — Не нахожу… Так себе, посредственно… в самой, что называется, пропорции. Как бы к ней пробраться, чёрт возьми? — Не стоит, брат, связываться… Ну ее к чёрту! — Никто не узнает… Я нырну, Миша… — Башку о пол расколотишь… Не ныряй… — Так я перелезу через купальню, коли так… Косинусов поставил ногу на перекладину и полез… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Глаза Чудакова, не отрывавшегося от щели, загорелись завистью . . . . . . . . . . . . . . Но тут, чтобы не усугублять разочарования читателя, поспешу окончить: дело шло о бутыли с настойкой, которой час тому назад, купаясь, растиралась мамаша Косинусова и которую она, выходя из купальни, забыла взять с собой. Мораль: и молодые люди могут быть пьяницами. Идеальный экзамен (Краткий ответ на все длинные вопросы) Conditio sine qua non[14]: очень умный учитель и очень умный ученик. Первый ехиден и настойчив, второй неуязвим. Как идеальная пожарная команда приезжает за полчаса до пожара, так у идеального ученика готовы ответы за полчаса до вопроса. Для краткости и во избежании большого гонорара[15], излагаю суть в драматической форме. У ч и т е л ь. Вы сейчас сказали, что земля представляет собой шар.[16] Но вы забываете, что на ней есть высокие горы, глубокие овраги, московские мостовые, которые мешают ей быть круглой! У ч е н и к. Они мешают ей быть круглой столько же, сколько ямочки на апельсине или прыщи на физиономии. У ч и т е л ь. А что значит физиономия? У ч е н и к. Физиономия есть зеркало души, которое так же легко разбивается, как и всякое другое зеркало. У ч и т е л ь. А что значит зеркало? У ч е н и к. Зеркало есть прибор, на котором женщина десять раз в день взвешивает свое оружие. Зеркало — это пробирная палатка для женщины. У ч и т е л ь (ехидственно). Боже мой, как вы умны! (Подумав.) Сейчас я задам вам один вопрос… (Быстро.) Что такое жизнь? У ч е н и к. Жизнь есть гонорар, получаемый не авторами, а их произведениями. У ч и т е л ь. А как велик этот гонорар? У ч е н и к. Он равен тому гонорару, который платят плохие редакции за очень плохие переводы. У ч и т е л ь. Так-с… А не можете ли вы сказать нам чего-нибудь о железных дорогах? У ч е н и к (быстро и отчетливо). Железной дорогой, в обширном значении этого слова, называется инструмент, служащий для транспортирования кладей, кровопускания и доставления неимущим людям сильных ощущений. Она состоит собственно из дороги и из железнодорожных правил. Последние суть следующие. Железнодорожные вокзалы подлежат санитарному надзору наравне с бойнями, железнодорожный же путь — наравне с кладбищами: в видах сохранения чистоты воздуха как те, так и другой должны находиться на приличном расстоянии от населенных мест. Особь, транспортируемая по железной дороге, именуется пассажиром, прибыв же к месту своего назначения, переименовывается в покойника. Человек, едущий к тетке в Тамбов или к кузине в Саратов, в случае нежелания своего попасть волею судеб ad patres[17], должен заявить о своем нежелании, но не позже шести месяцев после крушения. Желающие писать завещания получают чернила и перья у обер-кондуктора за установленную плату. При столкновении поездов, схождении с рельсов и проч. пассажиры обязуются соблюдать тишину и держаться за землю. При столкновении двух поездов третий мешаться не должен… У ч и т е л ь. Довольно, постойте… Ну, а что такое справедливость? У ч е н и к. Справедливость есть железнодорожная такса, вывешенная на внутренней стене каждого вагона: за разбитое стекло 2 руб., за разорванную занавеску 3 руб., за оборванную обивку дивана 5 руб., за поломку же собственной персоны в случае крушения пассажир ничего не платит. У ч и т е л ь. Кто поливает московские улицы? У ч е н и к. Дождь. У ч и т е л ь. А кто получает за это деньги? У ч е н и к. (Имя рек). У ч и т е л ь. Ну-с… А что вы можете сказать о конно-железной дороге? У ч е н и к. Конно-железная, или попросту называемая конно-лошадиная дорога состоит из нутра, верхотуры и конно-железных правил. Нутро стоит пять копеек, верхотура три копейки, конно-железные же правила ничего. Первое дано человечеству для удобнейшего созерцания кондукторских нравов, вторая — для засматривания по утрам в декольтированные окна вторых этажей, третьи же для их исполнения. Правила эти суть следующие. Не конка для публики, а публика для конки. При входе кондуктора в вагон публика должна приятно улыбаться. Движение вперед, движение назад и абсолютный покой суть синонимы. Скорость равна отрицательной величине, изредка нулю и по большим праздникам двум вершкам в час. За схождение вагона с рельсов пассажир ничего не платит. У ч и т е л ь. Скажите, пожалуйста, для чего это два вагона при встрече друг с другом звонят в колокола и для чего это контролеры отрывают уголки у билетов? У ч е н и к. То и другое составляет секрет изобретателей. У ч и т е л ь. Какой писатель вам больше всех нравится? У ч е н и к. Тот, который умеет вовремя поставить точку. У ч и т е л ь. Резонно… А не знаете ли вы, кто учинил бесчинство, мозолящее в настоящую минуту глаза читателя? У ч е н и к. Это составляет секрет редакции… Впрочем, для вас я, пожалуй… Я, если хотите, открою вам этот секрет… (шёпотом). Бесчинство учинил на старости лет А. Чехонте Водевиль Обед кончился. Кухарке приказали прибирать со стола как можно тише и не стучать посудой и ногами… Детей поспешили увести в лес… Дело в том, что хозяин дачи, Осип Федорыч Клочков, тощий, чахоточный человек с впалыми глазами и острым носом, вытащил из кармана тетрадь и, конфузливо откашливаясь, начал читать водевиль собственного сочинения. Суть его водевиля не сложна, цензурна и кратка. Вот она. Чиновник Ясносердцев вбегает на сцену и объявляет своей жене, что сейчас пожалует к ним в гости его начальник, действительный статский советник Клещев, которому понравилась дочка Ясносердцевых, Лиза. Засим следует длинный монолог Ясносердцева на тему: как приятно быть тестем генерала! «Весь в звездах… весь в красных лампасах… а ты сидишь рядом с ним и — ничего! Словно ты и в самом таки деле не последняя шишка в круговороте мироздания!» Мечтая таким образом, будущий тесть замечает вдруг, что в комнатах сильно пахнет жареным гусем. Неловко принимать важного гостя, если в комнатах вонь, и Ясносердцев начинает делать жене выговор. Жена, со словами: «На тебя не угодишь», поднимает рев. Будущий тесть хватает себя за голову и требует, чтобы жена перестала плакать, так как начальников не встречают с заплаканными глазами. «Дура! Утрись… мумия, Иродиада ты невежественная!» С женой истерика. Дочь заявляет, что она не в состоянии жить с такими буйными родителями, и одевается, чтобы уйти из дому. Чем дальше в лес, тем больше дров. Кончается тем, что важный гость застает на сцене доктора, прикладывающего к голове мужа свинцовые примочки, и частного пристава, составляющего протокол о нарушении общественной тишины и спокойствия. Вот и всё. Тут же примазан жених Лизы, Гранский, кандидат прав, человек из «новеньких», говорящий о принципах и, по-видимому, изображающий из себя в водевиле доброе начало. Клочков читал и искоса поглядывал: смеются ли? К его удовольствию, гости то и дело зажимали кулаками рты и переглядывались. — Ну? Что скажете? — поднял глаза на публику Клочков, окончив чтение. — Как? В ответ на это самый старший из гостей, Митрофан Николаич Замазурин, седой и лысый, как луна, поднялся и со слезами на глазах обнял Клочкова. — Спасибо, голубчик, — сказал он. — Утешил… Так хорошо ты это самое написал, что даже в слезы ударило… Дай я тебя еще раз… в объятия… — Отлично! Замечательно! — вскочил Полумраков. — Талант, совсем талант! Знаешь что, брат? Бросай ты службу и изволь писать! Писать и писать! Подло зарывать талант в землю! Начались поздравления, восторги, объятия… Послали за русским шампанским. Клочков растерялся, раскраснелся и от избытка чувств заходил вокруг стола. — Я в себе этот талант давно уже чувствую! — заговорил он, кашляя и махая руками. — Почти с самого детства… Излагаю я литературно, остроумие есть… сцену знаю, потому — в любителях лет десять терся… Что же еще нужно? Поработать бы только на этом поприще, поучиться… и чем я хуже других? — Действительно, поучиться… — сказал Замазурин. — Это ты верно… Только вот что, голубчик… Ты меня извини, но я правду… Правда прежде всего… У тебя выведен Клещев, действительный статский советник… Это, друг, нехорошо… Оно-то, в сущности, ничего, но как-то, знаешь, неловко… Генерал, то да се… Брось, брат! Еще наш рассердится, подумает, что ты это на него… Обидно старику станет… А от него мы акроме благодеяний… Наплюй! — Это правда, — встревожился Клочков. — Нужно будет изменить… Я поставлю везде «ваше высокородие»… Или нет, просто так, без чина… Просто Клещев… — И вот что еще, — заметил Полумраков. — Это, впрочем, пустяки, но тоже неудобно… глаза режет… У тебя там жених этот, Гранский, говорит Лизе, что ежели родители не захотят, чтоб она за него шла, то он против ихней воли пойдет. Оно-то, может быть, и ничего… может быть, родители и взаправду бывают свиньи в своем тиранстве, но в наш век, как бы этак выразиться… Достанется тебе, чего доброго! — Да, немножко резко, — согласился Замазурин. — Ты как-нибудь замажь это место… Выкинь также рассуждение про то, как приятно быть тестем начальника. Приятно, а ты смеешься… Этим, брат, шутить нельзя… Наш тоже на бедной женился, так из этого следует, что он скверно поступил? Так, по-твоему? Нешто ему не обидно? Ну, положим, он сидит в театре и видит это самое… Нешто ему приятно? А ведь он же твою руку держал, когда ты с Салалеевым пособия просил! «Он, говорит, человек больной, ему, говорит, деньги нужней, чем Салалееву»… Видишь? — А ты ведь, признайся, здесь на него намекаешь! — мигнул глазом Булягин. — И не думал! — сказал Клочков. — Накажи меня бог, совсем ни на кого не намекал! — Да ну, ну… оставь, пожалуйста! Он, действительно, любит за женским полом бегать… Ты это верно за ним подметил… Только ты тово… частного пристава выпусти… Не нужно… И Гранского этого выпусти… Герой какой-то, чёрт его знает чем занимается, говорит с разными фокусами… Если б ты его осуждал, а то ты, напротив, сочувствуешь… Может быть, он и хороший человек, но… чёрт его разберет! Всё можно подумать… — А знаете, кто такой Ясносердцев? Эта наш Енякин… На него Клочков намекает… Титулярный советник, с женой вечно дерется и дочка… Он и есть… Спасибо, друг! Так ему, подлецу, и надо! Чтоб не зазнавался! — Хоть этот, например, Енякин… — вздохнул Замазурин. — Дрянь человек, шельма, а все-таки он всегда тебя к себе приглашает, Настюшу у тебя крестил… Нехорошо, Осип! Выкинь! По-моему… бросил бы лучше! Заниматься этим делом… ей-богу… Разговоры сейчас пойдут: кто, как… почему… И не рад потом будешь! — Это верно… — подтвердил Полумраков. — Баловство, а из этого баловства такое может выйти, чего и в десять лет не починишь… Напрасно затеваешь, Осип… Не твое и дело… В Гоголи лезть да в Крыловы… Те, действительно, ученые были; а ты какое образование получил? Червяк, еле видим! Тебя всякая муха раздавить может… Брось, брат! Ежели наш узнает, то… Брось! — Ты порви! — шепнул Булягин. — Мы никому не скажем… Ежели будут спрашивать, то мы скажем, что ты читал нам что-то, да мы не поняли… — Зачем говорить? Говорить не нужно… — сказал Замазурин. — Ежели спросят, ну, тогда… врать не станешь… Своя рубашка ближе к телу… Вот этак вы понастроите разных пакостей, а потом за вас отдувайся! Мне это хуже всего! С тебя, с больного, и спрашивать не станут, а до нас доберутся… Не люблю, ей-богу! — Потише, господа… Кто-то идет… Спрячь, Клочков! Бледный Клочков быстро спрятал тетрадь, почесал затылок и задумался. — Да, это правда… — вздохнул он. — Разговоры пойдут… поймут различно… Может быть, даже в моем водевиле есть такое, чего нам не видно, а другие увидят… Порву… А вы же, братцы, пожалуйста, тово… никому не говорите… Принесли русское шампанское… Гости выпили и разошлись… Экзамен на чин — Учитель географии Галкин на меня злобу имеет и, верьте-с, я у него не выдержу сегодня экзамента, — говорил, нервно потирая руки и потея, приемщик Х—го почтового отделения Ефим Захарыч Фендриков, седой, бородатый человек с почтенной лысиной и солидным животом. — Не выдержу… Это как бог свят… А злится он на меня совсем из-за пустяков-с. Приходит ко мне однажды с заказным письмом и сквозь всю публику лезет, чтоб я, видите ли, принял сперва его письмо, а потом уж прочие. Это не годится… Хоть он и образованного класса, а все-таки соблюдай порядок и жди. Я ему сделал приличное замечание. «Дожидайтесь, — говорю, — очереди, милостивый государь». Он вспыхнул, и с той поры восстает на меня, аки Саул. Сынишке моему Егорушке единицы выводит, а про меня разные названия по городу распускает. Иду я однажды-с мимо трактира Кухтина, а он высунулся с бильярдным кием из окна и кричит в пьяном виде на всю площадь: «Господа, поглядите: марка, бывшая в употреблении, идет!» Учитель русского языка Пивомедов, стоявший в передней Х—го уездного училища вместе с Фендриковым и снисходительно куривший его папиросу, пожал плечами и успокоил: — Не волнуйтесь. У нас и примера не было, чтоб вашего брата на экзаменах резали. Проформа! Фендриков успокоился, но ненадолго. Через переднюю прошел Галкин, молодой человек с жидкой, словно оборванной бородкой, в парусинковых брюках и новом синем фраке. Он строго посмотрел на Фендрикова и прошел дальше. Затем разнесся слух, что инспектор едет. Фендриков похолодел и стал ждать с тем страхом, который так хорошо известен всем подсудимым и экзаменующимся впервые. Через переднюю пробежал на улицу штатный смотритель уездного училища Хамов. За ним спешил навстречу к инспектору законоучитель Змиежалов в камилавке и с наперстным крестом. Туда же стремились и прочие учителя. Инспектор народных училищ Ахахов громко поздоровался, выразил свое неудовольствие на пыль и вошел в училище. Через пять минут приступили к экзаменам. Проэкзаменовали двух поповичей на сельского учителя. Один выдержал, другой же не выдержал. Провалившийся высморкался в красный платок, постоял немного, подумал и ушел. Проэкзаменовали двух вольноопределяющихся третьего разряда. После этого пробил час Фендрикова… — Вы где служите? — обратился к нему инспектор. — Приемщиком в здешнем почтовом отделении, ваше высокородие, — проговорил он, выпрямляясь и стараясь скрыть от публики дрожание своих рук. — Прослужил двадцать один год, ваше высокородие, а ныне потребованы сведения для представления меня к чину коллежского регистратора, для чего и осмеливаюсь подвергнуться испытанию на первый классный чин. — Так-с… Напишите диктант. Пивомедов поднялся, кашлянул и начал диктовать густым, пронзительным басом, стараясь уловить экзаменующегося на словах, которые пишутся не так, как выговариваются: «хараша халодная вада, кагда хочица пить» и проч. Но как ни изощрялся хитроумный Пивомедов, диктант удался. Будущий коллежский регистратор сделал немного ошибок, хотя и напирал больше на красоту букв, чем на грамматику. В слове «чрезвычайно» он написал два «н», слово «лучше» написал «лутше», а словами «новое поприще» вызвал на лице инспектора улыбку, так как написал «новое подприще»; но ведь всё это не грубые ошибки. — Диктант удовлетворителен, — сказал инспектор. — Осмелюсь довести до сведения вашего высокородия, — сказал подбодренный Фендриков, искоса поглядывая на врага своего Галкина, — осмелюсь доложить, что геометрию я учил из книги Давыдова,[18] отчасти же обучался ей у племянника Варсонофия, приезжавшего на каникулах из Троице-Сергиевской, Вифанской тож, семинарии. И планиметрию учил и стереометрию… всё как есть… — Стереометрии по программе не полагается. — Не полагается? А я месяц над ней сидел… Этакая жалость! — вздохнул Фендриков. — Но оставим пока геометрию. Обратимся к науке, которую вы, как чиновник почтового ведомства, вероятно, любите. География — наука почтальонов. Все учителя почтительно улыбнулись. Фендриков был не согласен с тем, что география есть наука почтальонов (об этом нигде не было написано ни в почтовых правилах, ни в приказах по округу), но из почтительности сказал: «Точно так». Он нервно кашлянул и с ужасом стал ждать вопросов. Его враг Галкин откинулся на спинку стула и, не глядя на него, спросил протяжно: — Э… скажите мне, какое правление в Турции? — Известно какое… Турецкое… — Гм!.. турецкое… Это понятие растяжимое. Там правление конституционное. А какие вы знаете притоки Ганга? — Я географию Смирнова учил[19] и, извините, не отчетливо выучил… Ганг, это которая река в Индии текет… река эта текет в океан. — Я вас не про это спрашиваю. Какие притоки имеет Ганг? Не знаете? А где течет Аракс? И этого не знаете? Странно… Какой губернии Житомир? — Тракт 18, место 121. На лбу у Фендрикова выступил холодный пот. Он замигал глазами и сделал такое глотательное движение, что показалось, будто он проглотил свой язык. — Как перед истинным богом, ваше высокородие, — забормотал он. — Даже отец протоиерей могут подтвердить… Двадцать один год прослужил и теперь это самое, которое… Век буду бога молить… — Хорошо, оставим географию. Что вы из арифметики приготовили? — И арифметику не отчетливо… Даже отец протоиерей могут подтвердить… Век буду бога молить… С самого Покрова учусь, учусь и… ничего толку… Постарел для умственности… Будьте столь милостивы, ваше высокородие, заставьте вечно бога молить. На ресницах у Фендрикова повисли слезы. — Прослужил честно и беспорочно… Говею ежегодно… Даже отец протоиерей могут подтвердить… Будьте великодушны, ваше высокородие. — Ничего не приготовили? — Всё приготовил-с, но ничего не помню-с… Скоро шестьдесят стукнет, ваше высокородие, где уж тут за науками угоняться? Сделайте милость! — Уж и шапку с кокардой себе заказал… — сказал протоиерей Змиежалов и усмехнулся. — Хорошо, ступайте!.. — сказал инспектор. Через полчаса Фендриков шел с учителями в трактир Кухтина пить чай и торжествовал. Лицо у него сияло, в глазах светилось счастье, но ежеминутное почесывание затылка показывало, что его терзала какая-то мысль. — Экая жалость! — бормотал он. — Ведь этакая, скажи на милость, глупость с моей стороны! — Да что такое? — спросил Пивомедов. — Зачем я стереометрию учил, ежели ее в программе нет? Ведь целый месяц над ней, подлой, сидел. Этакая жалость! Хирургия Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чечунчовой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки — сигара, распространяющая зловоние. В приемную входит дьячок Вонмигласов, высокий коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером. — А-а-а… мое вам! — зевает фельдшер. — С чем пожаловали? — С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич… К вашей милости… Истинно и правдиво в псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворях».[20] Сел намедни со старухой чай пить и — ни боже мой, ни капельки, ни синь-порох, хоть ложись да помирай… Хлебнешь чуточку — и силы моей нету! А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону… Так и ломит, так и ломит! В ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет: так и стреляет, так и стреляет! Согрешихом и беззаконновахом…[21] Студными бо окалях душу грехми и в лености житие мое иждих…[22] За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! Отец иерей после литургии упрекает: «Косноязычен ты, Ефим, и гугнив стал. Поешь, и ничего у тебя не разберешь». А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, всё распухши, извините, и ночь не спавши… — М-да… Садитесь… Раскройте рот! Вонмигласов садится и раскрывает рот. Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом. — Отец диакон велели водку с хреном прикладывать — не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы да велели теплым молоком зуб полоскать, а я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл: бога боюсь, пост… — Предрассудок… (пауза). Вырвать его нужно, Ефим Михеич! — Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтоб это дело понимать как оно есть, что вырвать, а что каплями или прочим чем… На то вы, благодетели, и поставлены, дай бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно и нощно, отцы родные… по гроб жизни… — Пустяки… — скромничает фельдшер, подходя к шкапу и роясь в инструментах. — Хирургия — пустяки… Тут во всем привычка, твердость руки… Раз плюнуть… Намедни тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иваныч Египетский… Тоже с зубом… Человек образованный, обо всем расспрашивает, во всё входит, как и что. Руку пожимает, по имени и отчеству… В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал… Долго мы с ним тут… Христом-богом молит: вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич! Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо, без понятия нельзя… Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом… Кому как. Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы. — Ну-с, раскройте рот пошире… — говорит он, подходя с щипцами к дьячку. — Сейчас мы его… тово… Раз плюнуть… Десну подрезать только… тракцию сделать по вертикальной оси… и всё… (подрезывает десну) и всё… — Благодетели вы наши… Нам, дуракам, и невдомек, а вас господь просветил… — Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт… Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки… Этот — раз плюнуть… (накладывает щипцы). Постойте, не дергайтесь… Сидите неподвижно… В мгновение ока… (делает тракцию). Главное, чтоб поглубже взять (тянет)… чтоб коронка не сломалась… — Отцы наши… Мать пресвятая… Ввв… — Не тово… не тово… как его? Не хватайте руками! Пустите руки! (тянет). Сейчас… Вот, вот… Дело-то ведь не легкое… — Отцы… радетели… (кричит). Ангелы! Ого-го… Да дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь? — Дело-то ведь… хирургия… Сразу нельзя… Вот, вот… Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит… На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет… Проходят мучительнейшие полминуты — и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте. — Тянул! — говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. — Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, так не берись! Света божьего не вижу… — А ты зачем руками хватаешь? — сердится фельдшер. — Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова… Дура! — Сам ты дура! — Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню полез да в колокола отбарабанил! (дразнит). «Не умеешь, не умеешь!» Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты… Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот ничего, никаких слов… Человек почище тебя, а не хватал руками… Садись! Садись, тебе говорю! — Света не вижу… Дай дух перевести… Ох! (садится). Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай… Сразу! — Учи ученого! Экий, господи, народ необразованный! Живи вот с этакими… очумеешь! Раскрой рот… (накладывает щипцы). Хирургия, брат, не шутка… Это не на клиросе читать… (делает тракцию). Не дергайся… Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил… (тянет). Не шевелись… Так… так… Не шевелись… Ну, ну… (слышен хрустящий звук). Так и знал! Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен… Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот. — Было б мне козьей ножкой… — бормочет фельдшер. — Этакая оказия! Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа. — Парршивый чёрт… — выговаривает он. — Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель! — Поругайся мне еще тут… — бормочет фельдшер, кладя в шкап щипцы. — Невежа… Мало тебя в бурсе березой потчевали… Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил… образованность… один костюм рублей сто стоит… да и то не ругался… А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь! Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит восвояси… Ярмарочное «итого» В карманах одного московского первой гильдии купца, недавно возвратившегося из нижегородской ярмарки, найдена женою куча бумажек. Бумажки изорваны, помяты, письма на них потерты, но несмотря на это на них можно было разобрать следующее: М. г. Семен Иванович! Побитый вами артист Хряпунов согласен помириться на ста рублях. Не берет ни копейки меньше. Жду ответа. Ваш адвокат Н. Ерзаев. Господин невежда купеческого звания! Будучи вами оскорблен по вашей необразованности, я подал жалобу господину мировому судье. Ежели вы сами не понимаете, то пусть правосудие и гласный суд укажут вам, какого я звания человек. Ваш адвокат Ерзаев говорил, что вы не согласны заплатить сто рублей. В таком случае я могу скинуть и возьму с вас за вашу подлость 75 руб. Только из снисхождения к вашему недалекому уму, к вашему животному, так сказать, инстинкту запрашиваю с вас так дешево, с образованных же людей я беру за оскорбление дороже. Артист Хряпунов. …по делу о взыскании с вас 539 р. 43 к. по оценке за разбитое зеркало и испорченное вами пианино в ресторане Глухарева… …Помазывать синяки утром и вечером . . . . . . . . …А после того как сподобился подмоченный ситец за настоящий спустить должон я дрызнуть. Валяй под вечер к Федосье. Захвати музыканта Кузьму горчицей ему голову мазать да мамзелей штуки четыре. Выбирай какие попухлявей . . . . . . . . . …насчет векселя — на-кося выкуси! По гривеннику с моим удовольствием, а в отношении злостного банкротства бабушка надвое сказала. . . . . . . . . . . . Находясь в белой горячке от употребления излишних напитков (delirium tremens)[23], я ставил вам кровососные банки, чтобы привести вас в надлежащую умственность, за каковой труд прошу подателю сей записки уплатить три рубля. Фельдшер Егор Фряков. Сеня, ты не обижайся. Записал я тебя у мирового в свидетели насчет оскорбления в публичном месте в рассуждении того случая, когда нас били, а ты говоришь, что я зря. Не фордыбачься, потому ведь и тебе за загривок влетело. Не давай синякам сходить, растравляй…. СЧЕТ 1 п. стерляжей ухи — 1 р. 80 к. 1 бут. финь-шампань — 8 р. За разбитый графин — 5 р. Извощик за мамзелями — 2 р. Щи для цыгана — 60 к. За порванный фрак на официанте — 10 р. …Целую тибя несчетно раз и приходи по следующиму адресу Мебли. Комнаты Фаянсова номер 18 спросить Марфу Сивягину. Твоя любящия Анжелика. С подлинным верно: Человек без селезенки. Невидимые миру слезы (Рассказ) — Теперь, господа особы, недурно бы поужинать, — сказал воинский начальник Ребротесов, высокий и тонкий, как телеграфный столб, подполковник, выходя с компанией в одну темную августовскую ночь из клуба. — В хороших городах, в Саратове, например, в клубах всегда ужин получить можно, а у нас, в нашем вонючем Червянске, кроме водки да чая с мухами, ни бельмеса не получишь. Хуже нет ничего, ежели ты выпивши и закусить нечем! — Да, недурно бы теперь что-нибудь этакое… — согласился инспектор духовного училища Иван Иваныч Двоеточиев, кутаясь от ветра в рыженькое пальто. — Сейчас два часа и трактиры заперты, а недурно бы этак селедочку… грибочков, что ли… или чего-нибудь вроде этакого, знаете… Инспектор пошевелил в воздухе пальцами и изобразил на лице какое-то кушанье, вероятно очень вкусное, потому что все, глядевшие на лицо, облизнулись. Компания остановилась и начала думать. Думала-думала и ничего съедобного не выдумала. Пришлось ограничиться одними только мечтаниями. — Важную я вчера у Голопесова индейку ел! — вздохнул помощник исправника Пружина-Пружинский. — Между прочим… вы были, господа, когда-нибудь в Варшаве? Там этак делают… Берут карасей обыкновенных, еще живых… животрепещущих, и в молоко… День в молоке они, сволочи, поплавают, и потом как их в сметане на скворчащей сковороде изжарят, так потом, братец ты мой, не надо твоих ананасов! Ей-богу… Особливо, ежели рюмку выпьешь, другую. Ешь и не чувствуешь… в каком-то забытьи… от аромата одного умрешь!.. — И ежели с просоленными огурчиками… — добавил Ребротесов тоном сердечного участия. — Когда мы в Польше стояли, так, бывало, пельменей этих зараз штук двести в себя вопрешь… Наложишь их полную тарелку, поперчишь, укропцем с петрушкой посыплешь и… нет слов выразить! Ребротесов вдруг остановился и задумался. Ему вспомнилась стерляжья уха, которую он ел в 1856 году в Троицкой лавре. Память об этой ухе была так вкусна, что воинский начальник почувствовал вдруг запах рыбы, бессознательно пожевал и не заметил, как в калоши его набралась грязь. — Нет, не могу! — сказал он. — Не могу дольше терпеть! Пойду к себе и удовлетворюсь. Вот что, господа, пойдемте-ка и вы ко мне! Ей-богу! Выпьем по рюмочке, закусим чем бог послал. Огурчика, колбаски… самоварчик изобразим… А? Закусим, про холеру поговорим, старину вспомним… Жена спит, но мы ее и будить не станем… потихоньку… Пойдемте! Восторг, с которым было принято это приглашение, не нуждается в описании. Скажу только, что никогда в другое время Ребротесов не имел столько доброжелателей, как в эту ночь. — Я тебе уши оборву! — сказал воинский начальник денщику, вводя гостей в темную переднюю. — Тысячу раз говорил тебе, мерзавцу, чтобы, когда спишь в передней, всегда курил благовонной бумажкой! Поди, дурак, самовар поставь и скажи Ирине, чтобы она тово… принесла из погреба огурцов и редьки… Да почисть селедочку… Луку в нее покроши зеленого да укропцем посыплешь этак… знаешь, и картошки кружочками нарежешь… И свеклы тоже… Всё это уксусом и маслом, знаешь, и горчицы туда… Перцем сверху поперчишь… Гарнир, одним словом… Понимаешь? Ребротесов пошевелил пальцами, изображая смешение, и мимикой добавил к гарниру то, чего не мог добавить в словах… Гости сняли калоши и вошли в темный зал. Хозяин чиркнул спичкой, навонял серой и осветил стены, украшенные премиями «Нивы», видами Венеции и портретами писателя Лажечникова и какого-то генерала с очень удивленными глазами. — Мы сейчас… — зашептал хозяин, тихо поднимая крылья у стола. — Соберу вот на стол и сядем… Маша моя что-то больна сегодня. Уж вы извините… Женское что-то… Доктор Гусин говорит, что это от постной пищи… Очень может быть! «Душенька, говорю, дело ведь не в пище! Не то, что в уста, а то, что из уст, говорю… Постное, говорю, ты кушаешь, а раздражаешься по-прежнему… Чем плоть свою удручать, ты лучше, говорю, не огорчайся, не произноси слов…» И слушать не хочет! «С детства, говорит, мы приучены». Вошел денщик и, вытянувши шею, прошептал что-то хозяину на ухо. Ребротесов пошевелил бровями… — М-да… — промычал он. — Гм… тэк-с… Это, впрочем, пустяки… Я сейчас, в одну минуту… Маша, знаете ли, погреб и шкафы заперла от прислуги и ключи к себе взяла. Надо пойти взять… Ребротесов поднялся на цыпочки, тихо отворил дверь и пошел к жене… Жена его спала. — Машенька! — сказал он, осторожно приблизившись к кровати. — Проснись, Машуня, на секундочку! — Кто? Это ты? Чего тебе? — Я, Машенька, относительно вот чего… Дай, ангелочек, ключи и не беспокойся… Спи себе… Я сам с ними похлопочу… Дам им по огурчику и больше расходовать ничего не буду… Побей меня бог. Двоеточиев, знаешь, Пружина-Пружинский и еще некоторые… Прекрасные всё люди… уважаемые обществом… Пружинский даже Владимира четвертой степени имеет… Он уважает тебя так… — Ты где это нализался? — Ну, вот ты уже и сердишься… Какая ты, право… Дам им по огурчику, вот и всё… И уйдут… Я сам распоряжусь, а тебя и не побеспокоим… Лежи себе, куколка… Ну, как твое здоровье? Был Гусин без меня? Даже вот ручку поцелую… И гости все уважают тебя так… Двоеточиев религиозный человек, знаешь… Пружина, казначей тоже. Все относятся к тебе так… «Марья, говорят, Петровна — это, говорят, не женщина, а нечто, говорят, неудобопонятное… Светило нашего уезда». — Ложись! Будет тебе городить! Налижется там в клубе со своими шалаберниками, а потом и бурлит всю ночь! Постыдился бы! Детей имеешь! — Я… детей имею, но ты не раздражайся, Манечка… не огорчайся… Я тебя ценю и люблю… И детей, бог даст, пристрою. Митю, вот, в гимназию повезу… Тем более, что я их не могу прогнать… Неловко… Зашли за мной и попросили есть. «Дайте, говорят, нам поесть»… Двоеточиев, Пружина-Пружинский… милые такие люди… Сочувствуют тебе, ценят. По огурчику дать им, по рюмке и… пусть себе с богом… Я сам распоряжусь… — Вот наказание! Ошалел ты, что ли? Какие гости в этакую пору? Постыдились бы они, черти рваные, по ночам людей беспокоить! Где это видано, чтоб ночью в гости ходили?.. Трактир им здесь, что ли? Дура буду, ежели ключи дам! Пусть проспятся, а завтра и приходят! — Гм… Так бы и сказала… И унижаться бы перед тобой не стал… Выходит, значит, что ты мне не подруга жизни, не утешительница своего мужа, как сказано в Писании, а… неприлично выразиться… Змеей была, змея и есть… — А-а… так ты еще ругаться, язва? Супруга приподнялась и… воинский начальник почесал щеку и продолжал: — Мерси… Правду раз читал я в одном журнале: «В людях ангел — не жена, дома с мужем — сатана»…[24] Истинная правда… Сатаной была, сатана и есть… — На же тебе! — Дерись, дерись… Бей единственного мужа! Ну, на коленях прошу… Умоляю… Манечка!.. Прости ты меня!.. Дай ключи! Манечка! Ангел! Лютое существо, не срами ты меня перед обществом! Варварка ты моя, до каких же пор ты будешь меня мучить? Дерись… Бей… Мерси… Умоляю, наконец! Долго беседовали таким образом супруги… Ребротесов становился на колени, два раза плакал, бранился, то и дело почесывал щеку… Кончилось тем, что супруга поднялась, плюнула и сказала: — Вижу, что конца не будет моим мучениям! Подай со стула мое платье, махамет! Ребротесов бережно подал ей платье и, поправив свою прическу, пошел к гостям. Гости стояли перед изображением генерала, глядели на его удивленные глаза и решали вопрос: кто старше — генерал или писатель Лажечников? Двоеточиев держал сторону Лажечникова, напирая на бессмертие, Пружинский же говорил: — Писатель-то он, положим, хороший, спору нет… и смешно пишет и жалостно, а отправь-ка его на войну, так он там и с ротой не справится; а генералу хоть целый корпус давай, так ничего… — Моя Маша сейчас… — перебил спор вошедший хозяин. — Сию минуту… — Мы вас беспокоим, право… Федор Акимыч, что это у вас со щекой? Батюшка, да у вас и под глазом синяк! Где это вы угостились? — Щека? Где щека? — сконфузился хозяин. — Ах, да! Подкрадываюсь я сейчас к Манечке, хочу ее испугать, да как стукнусь в потемках о кровать! Ха-ха… Но вот и Манечка… Какая ты у меня растрепе, Манюня! Чистая Луиза Мишель![25] В зал вошла Марья Петровна, растрепанная, сонная, но сияющая и веселая. — Вот это мило с вашей стороны, что зашли! — заговорила она. — Если днем не ходите, то спасибо мужу, что хоть ночью затащил. Сплю сейчас и слышу голоса… «Кто бы это мог быть?» — думаю… Федя велел мне лежать, не выходить, ну, а я не вытерпела… Супруга сбегала в кухню, и ужин начался… — Хорошо быть женатым! — вздыхал Пружина-Пружинский, выходя через час с компанией из дома воинского начальника. — И ешь, когда хочешь, и пьешь, когда захочется… Знаешь, что есть существо, которое тебя любит… И на фортепьянах сыграет что-нибудь эдакое… Счастлив Ребротесов! Двоеточиев молчал. Он вздыхал и думал. Придя домой и раздеваясь, он так громко вздыхал, что разбудил свою жену. — Не стучи сапогами, жёрнов! — сказала жена. — Спать не даешь! Налижется в клубе, а потом и шумит, образина! — Только и знаешь, что бранишься! — вздохнул инспектор. — А поглядела бы ты, как Ребротесовы живут! Господи, как живут! Глядишь на них и плакать хочется от чувств. Один только я такой несчастный, что ты у меня Ягой на свет уродилась. Подвинься! Инспектор укрылся одеялом и, жалуясь мысленно на свою судьбу, уснул. Идиллия На быстром, как молния, лихаче вы подкатываете к подъезду, залитому светом… Минуя солидного швейцара с сверкающей булавой, вы заносите ногу на ступень, покрытую бархатным ковром, и через мгновение вас окутывает роскошь тропических растений. Стройные пальмы, латании и филодендроны отражаются в бесконечных зеркалах и, образуя океан зелени, уносят ваше воображение в страну Купера и Майн-Рида. Вы, очарованный, замираете; но вскоре неистовый вихрь бешеного вальса воскрешает вашу чуткую душу, и вы вновь чувствуете себя в Европе — в гнезде цивилизации… Огненные взоры неземных, поэтических созданий шлют вам любовь, обнаженные плечи манят вас в прошлое… Вы начинаете вспоминать… Детство, юность с ее розами, она… Странно! Час тому назад вы были убеждены, что вы не способны любить, что душа ваша умерла навсегда, навеки, что вам смешон этот лепет, смешон этот вальс… и что же? Сегодня ваша душа вновь живет тем, над чем хохотала вчера. Утомленный вальсом, изнемогший, чувствующий сладкую истому, вы садитесь за зеленый стол… Тут новая серия наслаждений… Проходит полчаса — и желтая бумажка, которую вы в начале игры положили перед собой, обращается в гору банковых билетов, акций, векселей… Чувство, знакомое Крезу и Ротшильду, охватывает вашу душу… Но это не всё… Судьба, по-видимому, решила не останавливаться… Двое честных плебеев с лицами, изможденными трудами и страданиями, берут вас под руки и ведут… Вы чувствуете себя первосвященником, ведомым послушными жрецами… Проходит полная ожиданий минута — и две мощные руки спускают вас вниз по мраморной, украшенной статуями лестнице. Воздух оглашается звуком классического подзатыльника, и вы, катясь вниз, видите улыбку, которую шлет вам мраморная Венера… Хамелеон Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина… На площади ни души… Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих. — Так ты кусаться, окаянная? — слышит вдруг Очумелов. — Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А… а! Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа. — Никак беспорядок, ваше благородие!.. — говорит городовой. Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!» да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала — белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса. — По какому это случаю тут? — спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. — Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал? — Иду я, ваше благородие, никого не трогаю… — начинает Хрюкин, кашляя в кулак. — Насчет дров с Митрий Митричем, — и вдруг эта подлая ни с того, ни с сего за палец… Вы меня извините, я человек, который работающий… Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому — я этим пальцем, может, неделю не пошевельну… Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть… Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете… — Гм!.. Хорошо… — говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. — Хорошо… Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу Кузькину мать!.. Елдырин, — обращается надзиратель к городовому, — узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Немедля! Она наверное бешеная… Чья это собака, спрашиваю? — Это, кажись, генерала Жигалова! — говорит кто-то из толпы. — Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто… Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождем… Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? — обращается Очумелов к Хрюкину. — Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь… известный народ! Знаю вас, чертей! — Он, ваше благородие, цыгаркой ей в харю для смеха, а она — не будь дура и тяпни… Вздорный человек, ваше благородие! — Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед богом… А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе сказано… Нынче все равны… У меня у самого брат в жандарах… ежели хотите знать… — Не рассуждать! — Нет, это не генеральская… — глубокомысленно замечает городовой. — У генерала таких нет. У него всё больше легавые… — Ты это верно знаешь? — Верно, ваше благородие… — Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта — чёрт знает что! Ни шерсти, ни вида… подлость одна только… И этакую собаку держать?!.. Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально — не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй… Нужно проучить! Пора… — А может быть, и генеральская… — думает вслух городовой. — На морде у ней не написано… Намедни во дворе у него такую видел. — Вестимо, генеральская! — говорит голос из толпы. — Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто… Что-то ветром подуло… Знобит… Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал… И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу… Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака — нежная тварь… А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!.. — Повар генеральский идет, его спросим… Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку… Ваша? — Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало! — И спрашивать тут долго нечего, — говорит Очумелов. — Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать… Ежели сказал, что бродячая, стало быть и бродячая… Истребить, вот и всё. — Это не наша, — продолжает Прохор. — Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч… — Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? — спрашивает Очумелов, и всё лицо его заливается улыбкой умиления. — Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить приехали? — В гости… — Ишь ты, господи… Соскучились по братце… А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад… Возьми ее… Собачонка ничего себе… Шустрая такая… Цап этого за палец! Ха-ха-ха… Ну, чего дрожишь? Ррр… Рр… Сердится, шельма… цуцык этакий… Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада… Толпа хохочет над Хрюкиным. — Я еще доберусь до тебя! — грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади. Из огня да в полымя У регента соборной церкви Градусова сидел адвокат Калякин и, вертя в руках повестку от мирового на имя Градусова, говорил: — Что ни говорите, Досифей Петрович, а вы виноваты-с. Я уважаю вас, ценю ваше расположение, но при всем том с прискорбием должен вам заметить, что вы были неправы. Да-с, неправы. Вы оскорбили моего клиента Деревяшкина… Ну, за что вы его оскорбили? — Кой чёрт его оскорблял? — горячился Градусов, высокий старик с узким, мало обещающим лбом, густыми бровями и с бронзовой медалькой в петлице. — Я ему только мораль нравственную прочел, только! Дураков нужно учить! Ежели дураков не учить, то тогда от них прохода не будет. — Но, Досифей Петрович, вы ему не наставление прочли. Вы, как заявляет он в своем прошении, публично тыкали на него, называли его ослом, мерзавцем и тому подобное… и даже раз подняли руку, как бы желая нанести ему оскорбление действием. — Как же его не бить, ежели он того стоит? Не понимаю! — Но поймите же, что вы не имеете на это никакого права! — Я не имею права? Ну, уж это извините-с… Подите кому другому рассказывайте, а меня не морочьте, сделайте милость. Он у меня после того, как его из архиерейского хора честью по шее попросили, в моем хоре десять лет прослужил. Я ему благодетель, ежели желаете знать. Ежели он сердится, что я его из хора прогнал, то сам же он виноват. Я его за философию прогнал. Философствовать может только образованный человек, который курс кончил, а ежели ты дурак, не высокого ума, то ты сиди себе в уголку и молчи… Молчи да слушай, как умные говорят, а он, болван, бывало, так и норовит, чтоб что-нибудь этакое запустить. Тут спевка или обедня идет, а он про Бисмарка да про разных там Гладстонов. Верите ли, газету, каналья, выписывал! А сколько раз я его за русско-турецкую войну по зубам бил, так вы себе представить не можете! Тут нужно петь, а он наклонится к тенорам да и давай им рассказывать про то, как наши динамитом турецкий броненосец «Лютфи-Джелил» взорвали…[26] Нешто это порядок? Конечно, приятно, что наши победили, но из этого не следует, что петь не надо… Можешь и после обедни поговорить. Свинья, одним словом. — Стало быть, вы и прежде его оскорбляли! — Прежде он и не обижался. Чувствовал, что я это для его же пользы, понимал!.. Знал, что старшим и благодетелям грех прекословить, а как в полицию в писаря поступил — ну и шабаш, зазнался, перестал понимать. Я, говорит, теперь не певчий, а чиновник. На коллежского регистратора, говорит, экзамен держать буду. Ну и дурак, говорю… Поменьше бы ты, говорю, философию разводил да почаще бы нос утирал, так это лучше было бы, чем о чинах думать. Тебе, говорю, не чины свойственны, а убожество. И слушать не хочет! Да вот хоть бы взять этот случай — за что он на меня мировому подал? Ну, не хамово ли отродье? Сижу я в трактире Самоплюева и с нашим церковным старостой чай пью. Публики тьма, ни одного свободного места… Гляжу, и он сидит тут же, со своими писарями пиво трескает. Франт такой, морду поднял, орет… руками размахивает… Прислушиваюсь — про холеру говорит… Ну, что вы с ним тут поделаете? Философствует! Я, знаете ли, молчу, терплю… Болтай, думаю, болтай… Язык без костей… Вдруг на беду машина заиграла… Расчувствовался он, хам, поднялся и говорит своим приятелям: «Выпьем, говорит, за процветание! Я, говорит, сын своего отечества и славянофил своей родины! Положу свою единственную грудь! Выходите, враги, на одну руку! Кто со мной не согласен, того я желаю видеть!» И как стукнет кулаком по столу! Тут уж я не вытерпел… Подхожу к нему и говорю деликатно: «Послушай, Осип… Ежели ты, свинья, ничего не понимаешь, то лучше молчи и не рассуждай. Образованный человек может умствовать, а ты смирись. Ты тля, пепел…» Я ему слово, он мне десять… Пошло и пошло… Я ему, конечно, на пользу, а он по глупости… Обиделся — вот и подал мировому… — Да, — вздохнул Калякин. — Плохо… Из-за каких-нибудь пустяков и чёрт знает что вышло. Человек вы семейный, уважаемый, а тут суд этот, разговоры, перетолки, арест… Покончить это дело нужно, Досифей Петрович. Есть у вас один выход, на который соглашается и Деревяшкин. Вы пойдете сегодня со мной в трактир Самоплюева в шесть часов, когда собираются там писаря, актеры и прочая публика, при которой вы оскорбили его, и извинитесь перед ним. Тогда он возьмет свое прошение назад. Поняли? Полагаю, что вы согласитесь, Досифей Петрович… Говорю вам, как другу… Вы оскорбили Деревяшкина, осрамили его, а главное заподозрили его похвальные чувства и даже… профанировали эти чувства. В наше время, знаете ли, нельзя так. Надо поосторожней. Вашим словам придан оттенок этакий, как бы вам сказать, который в наше время, одним словом, не того… Сейчас без четверти шесть… Угодно вам идти со мной? Градусов замотал головой, но когда Калякин нарисовал ему в ярких красках «оттенок», приданный его словам, и могущие быть от этого оттенка последствия, Градусов струсил и согласился. — Вы, смотрите же, извинитесь как следует, по форме, — учил его адвокат по пути в трактир. — Подойдите к нему и на «вы»… «Извините… беру свои слова назад» и прочее тому подобное. Придя в трактир, Градусов и Калякин нашли в нем целое сборище. Тут сидели купцы, актеры, чиновники, полицейские писаря — вообще вся «шваль», имевшая обыкновение собираться в трактире по вечерам, пить чай и пиво. Между писарями сидел и сам Деревяшкин, малый неопределенного возраста, бритый, с большими неморгающими глазами, придавленным носом и такими жесткими волосами, что, при взгляде на них, являлось желание чистить сапоги… Его лицо было так счастливо устроено, что, раз взглянувши на него, можно было узнать всё: что он и пьяница, и поет басом, и глуп, но не настолько, чтоб не считать себя очень умным человеком. Увидев входящего регента, он приподнялся и, как кот, пошевелил усами. Сборище, по-видимому предуведомленное о том, что будет публичное покаяние, навострило уши. — Вот… Господин Градусов согласен! — сказал Калякин, входя. Регент кое с кем поздоровался, громко высморкался, покраснел и подошел к Деревяшкину. — Извините… — забормотал он, не глядя на него и пряча в карман платок. — При всем обществе беру свои слова назад. — Извиняю! — пробасил Деревяшкин и, победоносно взглянув на всю публику, сел. — Я удовлетворен! Господин адвокат, прошу прекратить мое дело! — Я извиняюсь, — продолжал Градусов. — Извините… Не люблю неудовольствий… Хочешь, чтоб я тебе «вы» говорил, изволь, буду… Хочешь, чтоб я тебя за умного почитал, изволь… Мне наплевать… Я, брат, не злопамятен. Шут с тобой… — Да вы позвольте-с! Вы извиняйтесь, а не ругайтесь! — Как же мне еще извиняться? Я извиняюсь! Только что вот не «выкнул», так это по забывчивости. Не на коленки же мне становиться… Извиняюсь и даже благодарю бога, что у тебя хватило ума это дело прекратить. Мне некогда по судам шляться… Век я не судился, судиться не буду и тебе не советую… вам то-есть… — Конечно! Не желаете ли выпить для сан-стефанского миру?[27] — И выпить можно… Только ты, брат, Осип, свинья… Это я не то что ругаюсь, а так… к примеру… Свинья, брат! Помнишь, как ты у меня в ногах валялся, когда тебя из архиерейского хора по шее? А? И ты смеешь на благодетеля жалобу подавать? Рыло ты, рыло! И тебе не стыдно? Господа посетители, и ему не стыдно? — Позвольте-с! Это опять выходит ругательство! — Какое ругательство? Я тебе только говорю, наставляю… Помирился и в последний раз говорю, я ругаться не думаю… Стану я с тобой, с лешим, связываться после того, как ты на своего благодетеля жалобу подал! Да ну тебя к чёрту! И говорить с тобой не желаю! А ежели я тебя сейчас свиньей нечаянно обозвал, так ты и есть свинья… Вместо того, чтоб за благодетеля вечно бога молить, что он тебя десять лет кормил да нотам выучил, ты жалобу глупую подаешь да разных чертей адвокатов подсылаешь. — Позвольте же, Досифей Петрович, — обиделся Калякин. — Не черти у вас были, а я был!.. Поосторожней, прошу вас! — Да нешто я про вас? Ходите хоть каждый день, милости просим. Только мне удивительно, как это вы курс кончили, образование получили, а вместо того, чтоб этого индюка наставлять, руку его держите. Да я бы его на вашем месте в остроге сгноил! И потом, чего вы сердитесь? Ведь я извинялся? Чего же вам от меня еще нужно? Не понимаю! Господа посетители, вы будьте свидетелями, я извинялся, а извиняться в другой раз перед каким-нибудь дураком я не намерен! — Вы сами дурак! — прохрипел Осип и в негодовании ударил себя по груди. — Я дурак? Я? И ты можешь мне это говорить?.. Градусов побагровел и затрясся… — И ты осмелился? На же тебе!.. И кроме того, что я тебе, подлецу, сейчас оплеуху дал, я еще на тебя мировому подам! Я покажу тебе, как оскорблять! Господа, будьте свидетели! Господин околоточный, что же вы стоите там и смотрите? Меня оскорбляют, а вы смотрите? Жалованье получаете, а как за порядком смотреть, так и не ваше дело? А? Вы думаете, что на вас и суда нет? К Градусову подошел околоточный, и — началась история. Через неделю Градусов стоял перед мировым судьей и судился за оскорбление Деревяшкина, адвоката и околоточного надзирателя, при исполнении последним своих служебных обязанностей. Сначала он не понимал, истец он или обвиняемый, потом же, когда мировой приговорил его «по совокупности» к двухмесячному аресту, то он горько улыбнулся и проворчал: — Гм… Меня оскорбили, да я же еще и сидеть должен… Удивление… Надо, господин мировой судья, по закону судить, а не умствуя. Ваша покойная маменька, Варвара Сергеевна, дай бог ей царство небесное, таких, как Осип, сечь приказывала, а вы им поблажку даете… Что ж из этого выйдет? Вы их, шельмов, оправдаете, другой оправдает… Куда же идти тогда жаловаться? — Приговор может быть обжалован в двухнедельный срок… и прошу не рассуждать! Можете идти! — Конечно… Нынче ведь на одно жалованье не проживешь, — проговорил Градусов и подмигнул значительно. — Поневоле, ежели кушать хочется, невинного в кутузку засадишь… Это так… И винить нельзя… — Что-с?! — Ничего-с… Это я так… насчет хапен зи гевезен… Вы думаете, как вы в золотой цепе, так на вас и суда нет? Не беспокойтесь… Выведу на чистую воду! Закипело дело «об оскорблении судьи»; но вступился соборный протоиерей, и дело кое-как замяли. Перенося свое дело в съезд, Градусов был убежден, что не только его оправдают, но даже Осипа посадят в острог. Так он думал и во время самого разбирательства. Стоя перед судьями, он вел себя миролюбиво, сдержанно, не говоря лишних слов. Раз только, когда председатель предложил ему сесть, он обиделся и сказал: — Нешто в законах написано, чтоб регент рядом со своим певчим сидел? А когда съезд утвердил приговор мирового судьи, он прищурил глаза… — Как-с? Что-с? — спросил он. — Это как же прикажете понимать-с? Это вы о чем же-с? — Съезд утвердил приговор мирового судьи. Если вы недовольны, то можете подавать в сенат. — Так-с. Чувствительно вас благодарим, ваше превосходительство, за скорый и праведный суд. Конечно, на одно жалованье не проживешь, это я отлично понимаю, но извините-с, мы и неподкупный суд найдем. Не стану приводить всего того, что Градусов наговорил съезду… В настоящее время он судится за «оскорбление съезда» и слушать не хочет, когда знакомые стараются объяснить ему, что он виноват… Он убежден в своей невинности и верует, что рано или поздно ему скажут спасибо за открытые им злоупотребления. — Ничего с этим дураком не поделаешь! — говорит соборный настоятель, безнадежно помахивая рукой. — Не понимает! Надлежащие меры Маленький, заштатный городок, которого, по выражению местного тюремного смотрителя, на географической карте даже под телескопом не увидишь, освещен полуденным солнцем. Тишина и спокойствие. По направлению от думы к торговым рядам медленно подвигается санитарная комиссия, состоящая из городового врача, полицейского надзирателя, двух уполномоченных от думы и одного торгового депутата. Сзади почтительно шагают городовые… Путь комиссии, как путь в ад, усыпан благими намерениями. Санитары идут и, размахивая руками, толкуют о нечистоте, вони, надлежащих мерах и прочих холерных материях. Разговоры до того умные, что идущий впереди всех полицейский надзиратель вдруг приходит в восторг и, обернувшись, заявляет: — Вот так бы нам, господа, почаще собираться да рассуждать! И приятно, и в обществе себя чувствуешь, а то только и знаем, что ссоримся. Да ей-богу! — С кого бы нам начать? — обращается торговый депутат к врачу тоном палача, выбирающего жертву. — Не начать ли нам, Аникита Николаич, с лавки Ошейникова? Мошенник, во-первых, и… во-вторых, пора уж до него добраться. Намедни приносят мне от него гречневую крупу, а в ней, извините, крысиный помет… Жена так и не ела! — Ну что ж? С Ошейникова начинать, так с Ошейникова, — говорит безучастно врач. Санитары входят в «Магазин чаю, сахару и кофию и прочих колоннеальных товаров А. М. Ошейникова» и тотчас же, без длинных предисловий, приступают к ревизии. — М-да-с… — говорит врач, рассматривая красиво сложенные пирамиды из казанского мыла. — Каких ты у себя здесь из мыла вавилонов настроил! Изобретательность, подумаешь! Э… э… э! Это что же такое? Поглядите, господа! Демьян Гаврилыч изволит мыло и хлеб одним и тем же ножом резать! — От этого холеры не выйдет-с, Аникита Николаич! — резонно замечает хозяин. — Оно-то так, но ведь противно! Ведь и я у тебя хлеб покупаю. — Для кого поблагородней, мы особый нож держим. Будьте покойны-с… Что вы-с… Полицейский надзиратель щурит свои близорукие глаза на окорок, долго царапает его ногтем, громко нюхает, затем, пощелкав по окороку пальцем, спрашивает: — А он у тебя, бывает, не с стрихнинами? — Что вы-с… Помилуйте-с… Нешто можно-с! Надзиратель конфузится, отходит от окорока и щурит глаза на прейскурант Асмолова и Кo. Торговый депутат запускает руку в бочонок с гречневой крупой и ощущает там что-то мягкое, бархатистое… Он глядит туда, и по лицу его разливается нежность. — Кисаньки… кисаньки! Манюнечки мои! — лепечет он. — Лежат в крупе и мордочки подняли… нежатся… Ты бы, Демьян Гаврилыч, прислал мне одного котеночка! — Это можно-с… А вот, господа, закуски, ежели желаете осмотреть… Селедки вот, сыр… балык, изволите видеть… Балык в четверг получил, самый лучшшш… Мишка, дай-ка сюда ножик! Санитары отрезывают по куску балыка и, понюхав, пробуют. — Закушу уж и я кстати… — говорит как бы про себя хозяин лавки Демьян Гаврилыч. — Там где-то у меня бутылочка валялась. Пойти перед балыком выпить… Другой вкус тогда… Мишка, дай-ка сюда бутылочку. Мишка, надув щеки и выпучив глаза, раскупоривает бутылку и со звоном ставит ее на прилавок. — Пить натощак… — говорит полицейский надзиратель, в нерешимости почесывая затылок. — Впрочем, ежели по одной… Только ты поскорей, Демьян Гаврилыч, нам некогда с твоей водкой! Через четверть часа санитары, вытирая губы и ковыряя спичками в зубах, идут к лавке Голорыбенко. Тут, как назло, пройти негде… Человек пять молодцов, с красными, вспотевшими физиономиями, катят из лавки бочонок с маслом. — Держи вправо!.. Тяни за край… тяни, тяни! Брусок подложи… а, чёрт! Отойдите, ваше благородие, ноги отдавим! Бочонок застревает в дверях и — ни с места… Молодцы налегают на него и прут изо всех сил, испуская громкое сопенье и бранясь на всю площадь. После таких усилий, когда от долгих сопений воздух значительно изменяет свою чистоту, бочонок, наконец, выкатывается и почему-то, вопреки законам природы, катится назад и опять застревает в дверях. Сопенье начинается снова. — Тьфу! — плюет надзиратель. — Пойдемте к Шибукину. Эти черти до вечера будут пыхтеть. Шибукинскую лавку санитары находят запертой. — Да ведь она же была отперта! — удивляются санитары, переглядываясь. — Когда мы к Ошейникову входили, Шибукин стоял на пороге и медный чайник полоскал. Где он? — обращаются они к нищему, стоящему около запертой лавки. — Подайте милостыньку, Христа ради, — сипит нищий, — убогому калеке, что милость ваша, господа благодетели… родителям вашим… Санитары машут руками и идут дальше, за исключением одного только уполномоченного от думы, Плюнина. Этот подает нищему копейку и, словно чего-то испугавшись, быстро крестится и бежит вдогонку за компанией. Часа через два комиссия идет обратно. Вид у санитаров утомленный, замученный. Ходили они не даром: один из городовых, торжественно шагая, несет лоток, наполненный гнилыми яблоками. — Теперь, после трудов праведных, недурно бы дрызнуть, — говорит надзиратель, косясь на вывеску «Ренсковый погреб вин и водок». — Подкрепиться бы. — М-да, не мешает. Зайдемте, если хотите! Санитары спускаются в погреб и садятся вокруг круглого стола с погнувшимися ножками. Надзиратель кивает сидельцу, и на столе появляется бутылка. — Жаль, что закусить нечем, — говорит торговый депутат, выпивая и морщась. — Огурчика дал бы, что ли… Впрочем… Депутат поворачивается к городовому с лотком, выбирает наиболее сохранившееся яблоко и закусывает. — Ах… тут есть и не очень гнилые! — как бы удивляется надзиратель. — Дай-ка и я себе выберу! Да ты поставь здесь лоток… Какие лучше — мы выберем, почистим, а остальные можешь уничтожить. Аникита Николаич, наливайте! Вот так почаще бы нам собираться да рассуждать. А то живешь-живешь в этой глуши, никакого образования, ни клуба, ни общества — Австралия, да и только! Наливайте, господа! Доктор, яблочек! Самолично для вас очистил! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Ваше благородие, куда лоток девать прикажете? — спрашивает городовой надзирателя, выходящего с компанией из погреба. — Ло…лоток? Который лоток? П-понимаю! Уничтожь вместе с яблоками… потому — зараза! — Яблоки вы изволили скушать! — А-а… очень приятно! Послушш… поди ко мне домой и скажи Марье Власьевне, чтоб не сердилась… Я только на часок… к Плюнину спать… Понимаешь? Спать… объятия Морфея. Шпрехен зи деич, Иван Андреич.[28] И, подняв к небу глаза, надзиратель горько качает головой, растопыривает руки и говорит: — Так и вся жизнь наша! «Кавардак в риме» Комическая странность в 3-х действиях, 5-ти картинах, с прологом и двумя провалами Действующие лица: Г р а ф Ф а л ь к о н и, очень толстый человек. Г р а ф и н я, его неверная жена. Л у н а, приятная во всех отношениях планета. А р т у р, художник-чревовещатель, поющий чревом.[29] Г е с с е, художник. Просят не смешивать со спичечным фабрикантом и коробочным сатириком Гессе.[30] С и р о т к а, в красных чулочках. Невинна и добродетельна, но не настолько, чтобы стесняться в выборе мужского костюма. Л е н т о в с к и й, с ножницами. Разочарован. К а с с а, старая дева. Б о л ь ш о й С б о р, М а л е н ь к и й С б о р — ее дети. Барабанщики, факиры, монахини, лягушки, бык из папье-маше, один лишний художник, тысяча надежд, злые гении и проч. Пролог Начинается апофеозом по рисунку Шехтеля[31]: Касса, бледная, тощая, держит на руках голодного сына своего, Маленького Сбора, и с мольбою глядит на публику. Лентовский заносит кинжал, стараясь убить Маленького Сбора, но это ему не удается, так как кинжал туп. Картина. Бенгальские огни, стоны… Через сцену пролетает вампир. Л е н т о в с к и й. Убью тебя, о, ненавистный ребенок! Иван, подай мне сюда другой нож! (Иван, похожий на Андраши,[32]подает ему нож, но в это время спускается Злой гений.) З л о й г е н и й (шепчет Лентовскому). Поставь «Кавардак в Риме» — и дело в шляпе: Маленький Сбор погибнет. Л е н т о в с к и й (хлопает себя по лбу). И как это я раньше не догадался! Григорий Александрович[33], ставьте «Кавардак В Риме»! (Слышен голос Арбенина: «Шикарно!») С прроцессией, чёрт возьми! (Засыпает в сладких надеждах.) Действие I С и р о т к а (сидит на камушке). Я влюблена в Артура… Больше я вам ничего не могу сказать. Сама я маленькая, голос у меня маленький, роль маленькая, а если я говорю большие длинноты, так на то у вас уши и терпение есть. Я-то еще ничего, а вот подождите-ка, какой длиннотой угостит вас сейчас Тамарин! Еще и не так поморщитесь! (Киснет.) Л у н а. Гм! (Зевает и хмурится.) Р а ф а э л и — Т а м а р и н[34](входит). Я сейчас вам расскажу… Дело, видите ли, вот в чем… (набирает в себя воздуху и начинает длиннейший монолог. Два раза он садится, пять раз утирает пот, в конце концов хрипнет и, чувствуя в горле предсмертную агонию, умоляюще глядит на Лентовского). Л е н т о в с к и й (звякая ножницами). Ужо надо будет урезать. Л у н а (хмурясь). Не удрать ли? Судя по первому действию, из оперетки одна только грусть выйдет. Р а ф а э л и (покупает у Сиротки картину Артура за тысячу рублей). Выдам за свою картину. Ф а л ь к о н и (входит с графиней). В первом действии не нужны ни я, ни моя супруга, но тем не менее волею автора позвольте представиться… Моя супруга, изменщица. Прошу любить и жаловать… Если не смешно, то извините. Г р а ф и н я (изменяет мужу). Беда быть женою ревнивого мужа! (Изменяет мужу.) Г е с с е. Я лишний на сцене, а между тем стою здесь… Куда деть руки? (Не зная, куда деть руки, ходит.) С и р о т к а (взяв от Рафаэли деньги, едет в Рим к Артуру, в которого влюблена. Для неизвестной цели переодевается в мужское платье. За ней едут в Рим все). Л у н а. Какая смертоносная скучища… Не затмиться ли мне? (Начинается затмение луны.) Действия II и III Г р а ф и н я (изменяет мужу). Артур душка… С и р о т к а. Поступлю к Артуру в ученики. (Поступает и киснет. Ей подносят венок honoris causa.)[35] А р т у р. Я влюблен в графиню, но мне нужна не такая любовь… Я хочу любить тихо, платонически… Г р а ф и н я (изменяет мужу). Какой хороший мальчишка (заглядывается на Сиротку). Дай-ка я с ним поцелуюсь! (Изменяет мужу и Артуру.) А р т у р. Я возмущен! С и р о т к а (переодевается в женское платье). Я женщина! (Выходит за внезапно полюбившего ее Артура.) П у б л и к а. Это и всё? Гм… Процессия: толпа людей, одетых лягушками, несет бумажного быка и две бочки. О п е р е т к а (проваливаясь). Уж сколько на этом самом месте разных разностей проваливалось! Л е н т о в с к и й (хватая проваливающуюся Оперетку за шиворот). Нет, стой! (Начинает урезывать ее ножницами.)[36] Стой, матушка… Мы тебя еще починим… (Урезав, пристально смотрит.) Только испортил, чёрт возьми. О п е р е т к а. Уж чему быть, тому не миновать. (Проваливается.) Эпилог Апофеоз. Лентовский на коленях. Добрый гений, защищая Кассу с ребенком, стоит перед ним в позе проповедника… В перспективе стоят новые оперетки и Большой Сбор. Винт В одну скверную осеннюю ночь Андрей Степанович Пересолин ехал из театра. Ехал он и размышлял о той пользе, какую приносили бы театры, если бы в них давались пьесы нравственного содержания. Проезжая мимо правления, он бросил думать о пользе и стал глядеть на окна дома, в котором он, выражаясь языком поэтов и шкиперов, управлял рулем. Два окна, выходившие из дежурной комнаты, были ярко освещены. «Неужели они до сих пор с отчетом возятся? — подумал Пересолин. — Четыре их там дурака, и до сих пор еще не кончили! Чего доброго, люди подумают, что я им и ночью покоя не даю. Пойду подгоню их…» — Остановись, Гурий! Пересолин вылез из экипажа и пошел в правление. Парадная дверь была заперта, задний же ход, имевший одну только испортившуюся задвижку, был настежь. Пересолин воспользовался последним и через какую-нибудь минуту стоял уже у дверей дежурной комнаты. Дверь была слегка отворена, и Пересолин, взглянув в нее, увидел нечто необычайное. За столом, заваленным большими счетными листами, при свете двух ламп, сидели четыре чиновника и играли в карты. Сосредоточенные, неподвижные, с лицами, окрашенными в зеленый цвет от абажуров, они напоминали сказочных гномов или, чего боже избави, фальшивых монетчиков… Еще более таинственности придавала им их игра. Судя по их манерам и карточным терминам, которые они изредка выкрикивали, то был винт; судя же по всему тому, что услышал Пересолин, эту игру нельзя было назвать ни винтом, ни даже игрой в карты. То было нечто неслыханное, странное и таинственное… В чиновниках Пересолин узнал Серафима Звиздулина, Степана Кулакевича, Еремея Недоехова и Ивана Писулина. — Как же ты это ходишь, чёрт голландский, — рассердился Звиздулин, с остервенением глядя на своего партнера vis- — Ну, и что ж тогда б вышло? — окрысился партнер. — Я пошел бы с Поганкина, а у Ивана Андреича Пересолин на руках. «Мою фамилию к чему-то приплели… — пожал плечами Пересолин. — Не понимаю!» Писулин сдал снова и чиновники продолжали: — Государственный банк… — Два — казенная палата… — Без козыря… — Ты без козыря?? Гм!.. Губернское правленье — два… Погибать — так погибать, шут возьми! Тот раз на народном просвещении без одной остался, сейчас на губернском правлении нарвусь. Плевать! — Маленький шлем на народном просвещении! «Не понимаю!» — прошептал Пересолин. — Хожу со статского… Бросай, Ваня, какого-нибудь титуляшку или губернского. — Зачем нам титуляшку? Мы и Пересолиным хватим… — А мы твоего Пересолина по зубам… по зубам… У нас Рыбников есть. Быть вам без трех! Показывайте Пересолиху! Нечего вам ее, каналью, за обшлаг прятать! «Мою жену затрогали… — подумал Пересолин. — Не понимаю». И, не желая долее оставаться в недоумении, Пересолин открыл дверь и вошел в дежурную. Если бы перед чиновниками явился сам чёрт с рогами и с хвостом, то он не удивил бы и не испугал так, как испугал и удивил их начальник. Явись перед ними умерший в прошлом году экзекутор, проговори он им гробовым голосом: «Идите за мной, аггелы, в месте, уготованное канальям», и дыхни он на них холодом могилы, они не побледнели бы так, как побледнели, узнав Пересолина. У Недоехова от перепугу даже кровь из носа пошла, а у Кулакевича забарабанило в правом ухе и сам собою развязался галстук. Чиновники побросали карты, медленно поднялись и, переглянувшись, устремили свои взоры на пол. Минуту в дежурной царила тишина… — Хорошо же вы отчет переписываете! — начал Пересолин. — Теперь понятно, почему вы так любите с отчетом возиться… Что вы сейчас делали? — Мы только на минутку, ваше —ство… — прошептал Звиздулин. — Карточки рассматривали… Отдыхали… Пересолин подошел к столу и медленно пожал плечами. На столе лежали не карты, а фотографические карточки обыкновенного формата, снятые с картона и наклеенные на игральные карты. Карточек было много. Рассматривая их, Пересолин увидел себя, свою жену, много своих подчиненных, знакомых… — Какая чепуха… Как же вы это играете? — Это не мы, ваше —ство, выдумали… Сохрани бог… Это мы только пример взяли… — Объясни-ка, Звиздулин! Как вы играли? Я всё видел и слышал, как вы меня Рыбниковым били… Ну, чего мнешься? Ведь я тебя не ем? Рассказывай! Звиздулин долго стеснялся и трусил. Наконец, когда Пересолин стал сердиться, фыркать и краснеть от нетерпения, он послушался. Собрав карточки и перетасовав, он разложил их по столу и начал объяснять: — Каждый портрет, ваше —ство, как и каждая карта, свою суть имеет… значение. Как и в колоде, так и здесь 52 карты и четыре масти… Чиновники казенной палаты — черви, губернское правление — трефы, служащие по министерству народного просвещения — бубны, а пиками будет отделение государственного банка. Ну-с… Действительные статские советники у нас тузы, статские советники — короли, супруги особ IV и V класса — дамы, коллежские советники — валеты, надворные советники — десятки, и так далее. Я, например, — вот моя карточка, — тройка, так как, будучи губернский секретарь… — Ишь ты… Я, стало быть, туз? — Трефовый-с, а ее превосходительство — дама-с… — Гм!.. Это оригинально… А ну-ка, давайте сыграем! Посмотрю… Пересолин снял пальто и, недоверчиво улыбаясь, сел за стол. Чиновники тоже сели по его приказанию, и игра началась… Сторож Назар, пришедший в семь часов утра мести дежурную комнату, был поражен. Картина, которую увидел он, войдя со щеткой, была так поразительна, что он помнит ее теперь даже тогда, когда, напившись пьян, лежит в беспамятстве. Пересолин, бледный, сонный и непричесанный, стоял перед Недоеховым и, держа его за пуговицу, говорил: — Пойми же, что ты не мог с Шепелева ходить, если знал, что у меня на руках я сам-четверт. У Звиздулина Рыбников с женой, три учителя гимназии да моя жена, у Недоехова банковцы и три маленьких из губернской управы. Тебе бы нужно было с Крышкина ходить! Ты не гляди, что они с казенной палаты ходят! Они себе на уме! — Я, ваше —ство, пошел с титулярного, потому, думал, что у них действительный. — Ах, голубчик, да ведь так нельзя думать! Это не игра! Так играют одни только сапожники. Ты рассуждай!.. Когда Кулакевич пошел с надворного губернского правления, ты должен был бросать Ивана Ивановича Гренландского, потому что знал, что у него Наталья Дмитриевна сам-третей с Егор Егорычем… Ты всё испортил! Я тебе сейчас докажу. Садитесь, господа, еще один робер сыграем! И, уславши удивленного Назара, чиновники уселись и продолжали игру. Затмение луны (Из провинциальной жизни) № 1032 Циркулярно. 22 сентября в 10 часов вечера имеет быть затмение планеты луны. Так как подобное явление природы не только не предосудительно, но даже поучительно в том рассуждении, что даже и планеты законам природы часто повинуются, то в видах поощрения предлагаю вам, ваше благородие, сделать распоряжение о зажжении в этот вечер в вашем участке всех уличных фонарей, дабы вечерняя темнота не мешала начальствующим лицам и жителям обозревать оное затмение, а также прошу вас, милостивый государь, строго следить, чтобы на улицах не было по сему поводу сборищ, радостных криков и прочее. О лицах, превратно истолковывающих оное явление природы, если таковые окажутся (на что я, впрочем, зная здравомыслие обывателей, не надеюсь), прошу доносить мне. Гнилодушин. Верно: Секретарь Трясунов. В ответ на отношение вашего высокоблагородия за № 1032 имею честь заявить, что в моем участке уличных фонарей не имеется, а посему затмение планеты луны произошло при полной темноте воздуха, но, несмотря на это, многими было видимо в надлежащей отчетливости. Нарушений общественной тишины и спокойствия, равно как превратных толкований и выражений неудовольствия, не было за исключением того случая, когда домашний учитель, сын дьякона Амфилохий Бабельмандебский, на вопрос одного обывателя, в чем заключается причина сего потемнения планеты луны, начал внушать длинное толкование, явно клонящееся к разрушению понятий здравого смысла. В чем же заключалось его толкование, я не понял, так как он, объясняя по предметам науки, употреблял в своих словах много иностранных выражений. Укуси-Каланчевский. В ответ на отношение вашего высокоблагородия за № 1032 имею честь донести, что во вверенном мне участке затмения луны не было, хотя, впрочем, на небе и происходило некоторое явление природы, заключавшееся в потемнении лунного света, но было ли это затмение, доподлинно сказать не могу. Уличных фонарей по тщательном розыске оказалось в моем участке только три, кои после омытия стекол и очищения внутренностей были зажжены, но все эти меры не имели надлежащей пользы, так как означенное потемнение происходило тогда, когда фонари вследствие дутия ветра и проникновения в разбитые стекла потухли и, следовательно, не могли прояснять означенной в отношении вашего высокоблагородия темноты. Сборищ не было, так как все обыватели спали за исключением одного только писца земской управы Ивана Авелева, который сидел на заборе и, глядя в кулак на потемнение, двухсмысленно улыбался и говорил: «По мне хоть бы и вовсе луны не было… Наплевать!» Когда же я ему заметил, что сии слова легкомысленны, он дерзко заявил: «А ты, мымра, чего за луну заступаешься? Нешто и ее ходил с праздником поздравлять?» Причем присовокупил безнравственное выражение в смысле простонародного ругательства, о чем и имею честь донести. Глоталов. С подлинным верно: Человек без селезенки. На кладбище «Где теперь его кляузы,[37] ябедничество, крючки, взятки?» — Господа, ветер поднялся, и уже начинает темнеть. Не убраться ли нам подобру-поздорову? Ветер прогулялся по желтой листве старых берез, и с листьев посыпался на нас град крупных капель. Один из наших поскользнулся на глинистой почве и, чтобы не упасть, ухватился за большой серый крест. — «Титулярный советник и кавалер Егор Грязноруков…» — прочел он. — Я знал этого господина… Любил жену, носил Станислава, ничего не читал… Желудок его варил исправно… Чем не жизнь? Не нужно бы, кажется, и умирать, но — увы! — случай стерег его… Бедняга пал жертвою своей наблюдательности. Однажды, подслушивая, получил такой удар двери в голову, что схватил сотрясение мозга (у него был мозг) и умер. А вот под этим памятником лежит человек, с пеленок ненавидевший стихи, эпиграммы… Словно в насмешку, весь его памятник испещрен стихами… Кто-то идет! С нами поравнялся человек в поношенном пальто и с бритой, синевато-багровой физиономией. Под мышкой у него был полуштоф, из кармана торчал сверток с колбасой. — Где здесь могила актера Мушкина? — спросил он нас хриплым голосом. Мы повели его к могиле актера Мушкина, умершего года два назад. — Чиновник будете? — спросили мы у него. — Нет-с, актер… Нынче актера трудно отличить от консисторского чиновника. Вы это верно заметили… Характерно, хотя для чиновника и не совсем лестно-с. Насилу мы нашли могилу актера Мушкина. Она осунулась, поросла плевелом и утеряла образ могилы… Маленький дешевый крестик, похилившийся и поросший зеленым, почерневшим от холода мохом, смотрел старчески уныло и словно хворал. — «забвенному другу Мушкину»… — прочли мы. Время стерло частицу не и исправило человеческую ложь. — Актеры и газетчики собрали ему на памятник и… пропили, голубчики… — вздохнул актер, кладя земной поклон и касаясь коленами и шапкой мокрой земли. — То есть как же пропили? — Очень просто. Собрали деньги, напечатали об этом в газетах и пропили… Это я не для осуждения говорю, а так… На здоровье, ангелы! Вам на здоровье, а ему память вечная. — От пропивки плохое здоровье, а память вечная — одна грусть. Дай бог временную память, а насчет вечной — что уж! — Это вы верно-с. Известный ведь был Мушкин, венков за гробом штук десять несли, а уж забыли! Кому люб он был, те его забыли, а кому зло сделал, те помнят. Я, например, его во веки веков не забуду, потому, кроме зла, ничего от него не видел. Не люблю покойника. — Какое же он вам зло сделал? — Зло великое, — вздохнул актер, и по лицу его разлилось выражение горькой обиды. — Злодей он был для меня и разбойник, царство ему небесное. На него глядючи и его слушаючи, я в актеры поступил. Выманил он меня своим искусством из дома родительского, прельстил суетой артистической, много обещал, а дал слезы и горе… Горька доля актерская! Потерял я и молодость, и трезвость, и образ божий… За душой ни гроша, каблуки кривые, на штанах бахрома и шахматы, лик словно собаками изгрызен… В голове свободомыслие и неразумие… Отнял он у меня и веру, злодей мой! Добро бы талант был, а то так, ни за грош пропал… Холодно, господа почтенные… Не желаете ли? На всех хватит… Бррр… Выпьем за упокой! Хоть и не люблю его, хоть и мертвый он, а один он у меня на свете, один, как перст. В последний раз с ним вижусь… Доктора сказали, что скоро от пьянства помру, так вот пришел проститься. Врагов прощать надо. Мы оставили актера беседовать с мертвым Мушкиным и пошли далее. Заморосил мелкий холодный дождь. При повороте на главную аллею, усыпанную щебнем, мы встретили похоронную процессию. Четыре носильщика в белых коленкоровых поясах и в грязных сапогах, облепленных листвой, несли коричневый гроб. Становилось темно, и они спешили, спотыкаясь и покачивая носилками… — Гуляем мы здесь только два часа, а при нас уже третьего несут… По домам, господа? Гусиный разговор В синеве небесной, совершая свой обычный перелет, длинной вереницей летели дикие гуси. Впереди летели старики, гусиные действительные статские советники, позади — их семейства, штаб и канцелярия. Старики, кряхтя, решали текущие вопросы, гусыни говорили о модах, молодые же гусаки, летевшие позади, рассказывали друг другу сальные анекдоты и роптали. Молодым казалось, что старики летят вперед не так быстро, как того требуют законы природы… — Так нельзя лететь! — говорили они, когда истощался запас сальных анекдотов. — Это чёрт знает на что похоже! Летим, летим и еще до Черного моря не долетели! Эй, вы, ваше —ство! Будете вы по-божески лететь или нет? Рассудительные же старики рассуждали иначе: — И не понимаю, зачем только мы летим, Гусь Гусич! — говорил один старичок другому, записывавшему фамилии роптавших. — Летим на Запад, в неведомую бездну, в страну опереток! Согласен, оперетка хорошая вещь, даже необходимая, но поймите же, что мы для нее еще не созрели! Для нас с вами куплет «Все мы невинны от рожденья»[38], пожалуй, еще ничего, для ума же несозревшего он гибель. — Душевно рад, ваше —ство, что нахожу в вас соучастника в своей скорби. Природа заставляет нас лететь, здравый же смысл вопрошает: ну, к чему мы летим? Сидеть бы нам зиму здесь, где и места много, и яства изобильны, и гусиная нравственность самобытна. Взгляните вы на этих свойских гусей! Сколь завидна их доля! Живут оседло… Тут у них и даровой корм, и вода, и навоз, в недрах коего заключается много богатств, и многоженство, освященное веками… И сколькими важными поступками летописи их украшены! Не спаси они Рима, этого рассадника римских тлетворных идей, они не знали бы себе в истории соперников! Взгляните, какие они сытые, довольные, как нравственны их жены! — Но, ваше —ство, — вмешался один гусак из породы молодых да ранних, — за это видимое довольство с них берут слишком дорого. Они платят своею независимостью. Из них, ваше —ство, приготовляют «гуся с капустой», гусиное сало и гусиные перья! — Вот если бы у тебя в голове было поменьше таких идей, — огрызнулся старик, — то ты не говорил бы так со старшими! Как твоя фамилия? И так далее. До места своего назначения гуси летели благополучно. Особенного ничего не произошло. Раз только старики, увидев на земле молоденькую свойскую гусыню, моргнули глазами, прищелкнули языками и, забрав фуражные деньги, спустились вниз, но и то ненадолго. Гусыня деньги взяла, но чувства стариков отвергла, сославшись на свою невинность. Язык до Киева доведет Куда, милай, скрылся? Где тибя сыскать? 1-й. — Снять шапку! Здесь не приказано! 2-й. — У меня не шапка, а цилиндр! 1-й. — Это всё равно-с! 2-й. — Нет, не всё равно-с… Шапку и за полтинник купишь, а поди-ка цилиндр купи! 1-й. — Шапку или шляпу… вообще… 2-й (снимая шляпу). — Так вы выражайтесь ясней… (Дразнит.) Шапку, шапку… 1-й. — Прошу не разговаривать! Вы мешаете прочим слушать! 2-й. — Это вы разговариваете и мешаете, а не я. Я молчу, брат… И вовсе молчал бы, ежели бы б меня б не трогали б. 1-й. — Тссс… 2-й. — Нечего тсыкать… (Помолчав.) Я и сам умею тсыкать… А глаза нечего на меня пялить… Не боюсь… Не таких видывал… Жена 2-го. — Да перестань! Будет тебе! 2-й. — Чего ж он ко мне пристал? Ведь я его не трогал? Ведь нет? Так чего же он ко мне лезет? Или, может быть, вы хотите, чтоб я на вас господину приставу пожалился? 1-й. — После, после… Замолчите… 2-й. — Ага, испужался! То-то… Молодец, как это говорится, против овец, а против молодца сам овца. В публике. — Тссс… 2-й. — Даже публика заметила… Для порядку поставлен, а сам беспорядки делает… (Саркастически улыбается.) Еще тоже медали на грудях… сабля… Народ, посмотришь! (1-й уходит на минутку.) 2-й. — Стыдно стало, ушел… Стало быть, совесть еще не совсем потеряна, если слов стыдится… Поговори он еще, так я бы ему еще и не то сказал. Знаю, как с ихним братом обращаться! Жена 2-го. — Молчи, публика глядит! 2-й. — Пущай глядит… Свои деньги заплатил, а не чужие… А ежели разговариваю, так не выводи из терпения… Ушел тот… энтот самый, ну и молчу теперь… Ежели меня никто не трогает, так зачем я стану разговаривать? Разговаривать незачем… Я понимаю… (Аплодирует.) Бис! Бис! 1, 3, 4, 5 и 6-й (словно вырастая из земли). — Пожалуйте! Идите-с! 2-й. — Куда это? (Бледнея.) За какое самое? 1, 3, 4, 5 и 6-й. — Пожалуйте-с! (Берут под руки 2-го.) Не болтайте ногами… Пожалуйте-с! (Влекут.) 2-й. — Свои деньги заплативши и вдруг… это самое… (Увлекается.) В публике. — Жулика вывели! И прекрасное должно иметь пределы В записной книжке одного мыслящего коллежского регистратора, умершего в прошлом году от испуга, было найдено следующее: Порядок вещей требует, чтобы не только злое, но даже и прекрасное имело пределы. Поясню примерами: Даже самая прекрасная пища, принятая через меру, производит в желудке боль, икоту и чревовещание. Лучшим украшением человеческой головы служат волосы. Но кто не знает, что сии самые волосы, будучи длинны (не говорю о женщинах), служат признаком, по коему узнаются умы легкомысленные и вредоносные? Один чиновник, сын благочестивых и добронравных родителей, считал за большое удовольствие снимать перед старшими шапку. Это прекрасное качество его души особенно бросалось в глаза, когда он нарочно ходил по городу и искал встречи со старшими только для той цели, чтобы лишний раз снять перед ними шапку и тем воздать должное. Натура его была до того почтительная и уважительная, что он снимал шапку не только перед своим непосредственным и косвенным начальством, но даже и перед старшими возрастом. Следствием такого благородства души его было то, что ему каждую секунду приходилось обнажать свою голову. Однажды, встретясь в одно зимнее, холодное утро с племянником частного пристава, он снял шапку, застудил голову и умер без покаяния. Из этого явствует, что быть почтительным необходимо, но в пределах умеренности. Не могу также умолчать и про науку. Наука имеет многие прекрасные и полезные качества, но вспомните, сколько зла приносит она, ежели предающийся ей человек переходит границы, установленные нравственностью, законами природы и прочим? Горе тому, который… Но умолчу лучше… Фельдшер Егор Никитыч, лечивший мою тетеньку, любил во всем точность, аккуратность и правильность — качества, достойные души возвышенной. На всякое действие и на всякий шаг у него были нарочитые правила, опытом установленные, а в исполнении сих правил он отличался примерным постоянством. Однажды, придя к нему в пять часов утра, я разбудил его и, имея на лице написанную скорбь, воскликнул: — Егор Никитыч, поспешите к нам! Тетенька истекает кровью! Егор Никитыч встал, надел сапоги и пошел в кухню умываться. Умывшись с мылом и почистивши зубы, он причесался перед зеркалом и начал надевать брюки, предварительно почистив их и разгладив руками. Затем он почистил щеткой сюртук и жилетку, завел часы и аккуратненько прибрал свою постель. Покончив с постелью, он, как бы давая мне урок аккуратности, стал пришивать к пальто сорвавшуюся пуговку. — Кровью истекает! — повторил я, изнемогая от понятного нетерпения. — Сию минуту-с… Только вот богу помолюсь. Егор Никитыч стал перед образами и начал молиться. — Я готов… Только вот пойду на улицу, погляжу, какие надевать калоши — глубокие или мелкие? Когда, наконец, мы вышли из его дома, он запер свою дверь, помолился набожно на восток и всю дорогу, идя тихо по тротуару, старался ступать на гладкие камни, боясь испортить обувь. Придя к нам, мы тетушку в живых уже не застали. Стало быть, и пунктуальность должна иметь пределы. Писание, по-видимому, занятие прекрасное. Оно обогащает ум, набивает руку и облагороживает сердце. Но много писать не годится. И литература должна иметь предел, ибо многое писание может произвести соблазн. Я, например, пишу эти строки, а дворник Евсевий подходит к моему окну и подозрительно посматривает на мое писание. В его душу я заронил сомнение. Спешу потушить лампу. Маска В Х—ом общественном клубе с благотворительной целью давали бал-маскарад, или, как его называли местные барышни, бал-парей[39]. Было 12 часов ночи. Не танцующие интеллигенты без масок — их было пять душ — сидели в читальне за большим столом и, уткнув носы и бороды в газеты, читали, дремали и, по выражению местного корреспондента столичных газет, очень либерального господина, — «мыслили». Из общей залы доносились звуки кадрили «Вьюшки». Мимо двери, сильно стуча ногами и звеня посудой, то и дело пробегали лакеи. В самой же читальне царила глубокая тишина. — Здесь, кажется, удобнее будет! — вдруг послышался низкий, придушенный голос, который, как казалось, выходил из печки. — Валяйте сюда! Сюда, ребята! Дверь отворилась, и в читальню вошел широкий, приземистый мужчина, одетый в кучерской костюм и шляпу с павлиньими перьями, в маске. За ним следом вошли две дамы в масках и лакей с подносом. На подносе была пузатая бутыль с ликером, бутылки три красного и несколько стаканов. — Сюда! Здесь и прохладнее будет, — сказал мужчина. — Становь поднос на стол… Садитесь, мамзели! Же ву при а ля тримонтран![40] А вы, господа, подвиньтесь… нечего тут! Мужчина покачнулся и смахнул рукой со стола несколько журналов. — Становь сюда! А вы, господа читатели, подвиньтесь; некогда тут с газетами да с политикой… Бросайте! — Я просил бы вас потише, — сказал один из интеллигентов, поглядев на маску через очки. — Здесь читальня, а не буфет… Здесь не место пить. — Почему не место? Нешто стол качается или потолок обвалиться может? Чудно?! Но… некогда разговаривать! Бросайте газеты… Почитали малость и будет с вас; и так уж умны очень, да и глаза попортишь, а главнее всего — я не желаю и всё тут. Лакей поставил поднос на стол и, перекинув салфетку через локоть, стал у двери. Дамы тотчас же принялись за красное. — И как это есть такие умные люди, что для них газеты лучше этих напитков, — начал мужчина с павлиньими перьями, наливая себе ликеру. — А по моему мнению, вы, господа почтенные, любите газеты оттого, что вам выпить не на что. Так ли я говорю? Ха-ха!.. Читают! Ну, а о чем там написано? Господин в очках! Про какие факты вы читаете? Ха-ха! Ну, да брось! Будет тебе кочевряжиться! Выпей лучше! Мужчина с павлиньими перьями приподнялся и вырвал газету из рук у господина в очках. Тот побледнел, потом покраснел и с удивлением поглядел на прочих интеллигентов, те — на него. — Вы забываетесь, милостивый государь! — вспыхнул он. — Вы обращаете читальню в кабак, вы позволяете себе бесчинствовать, вырывать из рук газеты! Я не позволю! Вы не знаете, с кем имеете дело, милостивый государь! Я директор банка Жестяков!.. — А плевать мне, что ты — Жестяков! А газете твоей вот какая честь… Мужчина поднял газету и изорвал ее в клочки. — Господа, что же это такое? — пробормотал Жестяков, обомлев. — Это странно, это… это даже сверхъестественно… — Они рассердившись, — засмеялся мужчина. — Фу-ты, ну-ты, испугался! Даже поджилки трясутся. Вот что, господа почтенные! Шутки в сторону, разговаривать с вами мне не охотно… Потому, как я желаю остаться тут с мамзелями один и желаю себе тут удовольствие доставить, то прошу не претикословить и выйти… Пожалуйте-с! Господин Белебухин, выходи к свиньям собачьим! Что рыло наморщил? Говорю, выходи, стало быть, и выходи! Живо у меня, а то, гляди, не ровен час, как бы в шею не влетело! — То есть как же это? — спросил казначей сиротского суда Белебухин, краснея и пожимая плечами. — Я даже не понимаю… Какой-то нахал врывается сюда и… вдруг этакие вещи! — Какое это такое слово нахал? — крикнул мужчина с павлиньими перьями, рассердившись, и стукнул кулаком по столу, так что на подносе запрыгали стаканы. — Кому ты говоришь? Ты думаешь, как я в маске, так ты можешь мне разные слова говорить? Перец ты этакий! Выходи, коли говорю! Директор банка, проваливай подобру-поздорову! Все уходите, чтоб ни одной шельмы тут не оставалось! Айда, к свиньям собачьим! — А вот мы сейчас увидим! — сказал Жестяков, у которого даже очки вспотели от волнения. — Я покажу вам! Эй, позови-ка сюда дежурного старшину! Через минуту вошел маленький рыженький старшина с голубой ленточкой на лацкане, запыхавшийся от танцев. — Прошу вас выйти! — начал он. — Здесь не место пить! Пожалуйте в буфет! — Ты откуда это выскочил? — спросил мужчина в маске. — Нешто я тебя звал? — Прошу не тыкать, а извольте выйти! — Вот что, милый человек: даю тебе минуту сроку… Потому, как ты старшина и главное лицо, то вот выведи этих артистов под ручки. Мамзелям моим не ндравится, ежели здесь есть кто посторонний… Они стесняются, а я за свои деньги желаю, чтобы они были в натуральном виде. — Очевидно, этот самодур не понимает, что он не в хлеву! — крикнул Жестяков. — Позвать сюда Евстрата Спиридоныча! — Евстрат Спиридоныч! — понеслось по клубу. — Где Евстрат Спиридоныч? Евстрат Спиридоныч, старик в полицейском мундире, не замедлил явиться. — Прошу вас выйти отсюда! — прохрипел он, выпучивая свои страшные глаза и шевеля нафабренными усами. — А ведь испугал! — проговорил мужчина и захохотал от удовольствия. — Ей-ей, испугал! Бывают же такие страсти, побей меня бог! Усы, как у кота, глаза вытаращил… Хе-хе-хе! — Прошу не рассуждать! — крикнул изо всей силы Евстрат Спиридоныч и задрожал. — Выйди вон! Я прикажу тебя вывести! В читальне поднялся невообразимый шум. Евстрат Спиридоныч, красный как рак, кричал, стуча ногами. Жестяков кричал. Белебухин кричал. Кричали все интеллигенты, но голоса всех их покрывал низкий, густой, придушенный бас мужчины в маске. Танцы, благодаря всеобщей сумятице, прекратились, и публика повалила из залы к читальне. Евстрат Спиридоныч для внушительности позвал всех полицейских, бывших в клубе, и сел писать протокол. — Пиши, пиши, — говорила маска, тыча пальцем ему под перо. — Теперь что же со мной, с бедным, будет? Бедная моя головушка! За что же губите вы меня, сиротинушку? Ха-ха! Ну что ж? Готов протокол? Все расписавшись? Ну, теперь глядите!.. Раз… два… три!!.. Мужчина поднялся, вытянулся во весь рост и сорвал с себя маску. Открыв свое пьяное лицо и поглядев на всех, любуясь произведенным эффектом, он упал в кресло и радостно захохотал. А впечатление, действительно, произвел он необыкновенное. Все интеллигенты растерянно переглянулись и побледнели, некоторые почесали затылки. Евстрат Спиридоныч крякнул, как человек, сделавший нечаянно большую глупость. В буяне все узнали местного миллионера, фабриканта, потомственного почетного гражданина Пятигорова, известного своими скандалами, благотворительностью и, как не раз говорилось в местном вестнике, — любовью к просвещению. — Что ж, уйдете или нет? — спросил Пятигоров после минутного молчания. Интеллигенты молча, не говоря ни слова, вышли на цыпочках из читальни, и Пятигоров запер за ними двери. — Ты же ведь знал, что это Пятигоров! — хрипел через минуту Евстрат Спиридоныч вполголоса, тряся за плечо лакея, вносившего в читальню вино. — Отчего ты молчал? — Не велели сказывать-с! — Не велели сказывать… Как засажу я тебя, анафему, на месяц, так тогда будешь знать «не велели сказывать». Вон!!.. А вы-то хороши, господа, — обратился он к интеллигентам. — Бунт подняли! Не могли выйти из читальни на десять минуток! Вот теперь и расхлебывайте кашу. Эх, господа, господа… Не люблю, ей-богу! Интеллигенты заходили по клубу унылые, потерянные, виноватые, шепчась и точно предчувствуя что-то недоброе… Жены и дочери их, узнав, что Пятигоров «обижен» и сердится, притихли и стали расходиться по домам. Танцы прекратились. В два часа из читальни вышел Пятигоров; он был пьян и пошатывался. Войдя в залу, он сел около оркестра и задремал под музыку, потом печально склонил голову и захрапел. — Не играйте! — замахали старшины музыкантам. — Тсс!.. Егор Нилыч спит… — Не прикажете ли вас домой проводить, Егор Нилыч? — спросил Белебухин, нагнувшись к уху миллионера. Пятигоров сделал губами так, точно хотел сдунуть со щеки муху. — Не прикажете ли вас домой проводить, — повторил Белебухин, — или сказать, чтоб экипажик подали? — А? Ково? Ты… чево тебе? — Проводить домой-с… Баиньки пора… — До-домой желаю… Прроводи! Белебухин просиял от удовольствия и начал поднимать Пятигорова. К нему подскочили другие интеллигенты и, приятно улыбаясь, подняли потомственного почетного гражданина и осторожно повели к экипажу. — Ведь этак одурачить целую компанию может только артист, талант, — весело говорил Жестяков, подсаживая его. — Я буквально поражен, Егор Нилыч! До сих пор хохочу… Ха-ха… А мы-то кипятимся, хлопочем! Ха-ха! Верите? и в театрах никогда так не смеялся… Бездна комизма! Всю жизнь буду помнить этот незапамятный вечер! Проводив Пятигорова, интеллигенты повеселели и успокоились. — Мне руку подал на прощанье, — проговорил Жестяков, очень довольный. — Значит, ничего, не сердится… — Дай-то бог! — вздохнул Евстрат Спиридоныч. — Негодяй, подлый человек, но ведь — благодетель!.. Нельзя!.. В приюте для неизлечимо больных и престарелых Каждую субботу вечером гимназистка Саша Енякина, маленькая золотушная девочка в порванных башмаках, ходит со своей мамой в «N—ский приют для неизлечимо больных и престарелых». Там живет ее родной дедушка Парфений Саввич, отставной гвардии поручик. В дедушкиной комнате душно и пахнет деревянным маслом. На стенах висят нехорошие картины: вырезанная из «Нивы» купальщица, нимфы, греющиеся на солнце, мужчина с цилиндром на затылке, глядящий в щелку на нагую женщину, и проч. В углах паутина, на столе крошки и рыбья чешуя… Да и сам дедушка непривлекателен на вид. Он стар, горбат и неаккуратно нюхает табак. Глаза его слезятся, беззубый рот вечно открыт. Когда входит Саша с матерью, дедушка улыбается, и эта его улыбка бывает похожа на большую морщину. — Ну, что? — спрашивает дедушка подходящую к ручке Сашу. — Что твой отец? Саша не отвечает. Мама начинает молча плакать. — Всё еще по трактирам на фортепьянах играет? Так, так… Всё это от непослушания, от гордыни… На твоей вот этой матери женился и… дурак вышел… Да… Дворянин, сын благородного отца, а женился на «тьфу», на ней вот… на актрисе, Сережкиной дочке… Сережка у меня в кларнетистах был и конюшни чистил… Реви, реви, матушка! Я правду говорю… Хамка была, хамка и есть!.. Саша, глядя на мать, Сережкину дочь и актрису, тоже начинает плакать. Наступает тяжелая, жуткая пауза… Старичок с деревянной ногой вносит маленький самоварчик из красной меди. Парфений Саввич сыплет в чайник щепотку какого-то странного, очень крупного и очень серого чаю и заваривает. — Пейте! — говорит он, наливая три большие чашки. — Пей, актриса! Гости берут в руки чашки… Чай скверный, отдает плесенью, а не пить нельзя: дедушка обидится… После чая Парфений Саввич сажает к себе на колени внучку и, глядя на нее с слезливым умилением, начинает ласкать… — Ты, внучка, знатной фамилии… Не забывай… Кровь наша не актерская какая-нибудь… Ты не гляди, что я в убожестве, а отец твой по трактирам на фортепьянах трамблянит. Отец твой по дикости, по гордыне, а я по бедности, но мы важные… Спроси-кася, кем я был! Удивишься! И дедушка, гладя костлявой рукой Сашину головку, рассказывает: — У нас во всей губернии было только три великих человека: граф Егор Григорьич, губернатор и я. Мы были наипервейшие и наиглавнейшие… Богат я, внучка, не был… Всего-навсего было у меня паршивой землицы десятин тысяч пять да смертных душ шестьсот — и больше ни шута. Не имел я ни связей с полководцами, ни родни знатной. Не был я ни писателем, ни Рафаэлем каким-нибудь, ни философом… Человек как человек, одним словом… А между тем — слушай, внучка! — ни перед кем шапки не ломал, губернатора Васей звал, преосвященному руку пожимал и графу Егору Григорьичу наипервейший друг был. А всё потому, что жить умел в просвещении, в европейском образе мыслей… После длинного предисловия дедушка рассказывает о своем прошлом житье-бытье… Говорит он долго, с увлечением. — Баб обыкновенно на горох на колени ставил, чтоб морщились, — бормочет он между прочим. — Баба морщится, а мужику смешно… Мужики смеются, ну, и сам засмеешься, и весело тебе станет… Для грамотных у меня было другое наказание, помягче. Или выучить наизусть счетную книгу заставлю, или же прикажу взлезть на крышу и читать оттеда вслух «Юрия Милославского», да читать так, чтоб мне в комнатах слышно было… Коли духовное не действовало, действовало телесное… Рассказав о дисциплине, без которой, по его словам, «человек подобен теории без практики», он замечает, что наказанию нужно противополагать награждения, — За очень отважные поступки, как, например, за поимку вора, жаловал я хорошо: стариков на молоденьких женил, молодых от рекрутчины освобождал и проч. Веселился во время оно дедушка так, как «теперь никто не веселится». — Музыкантов и певчих было у меня, несмотря на скудость средств моих, шестьдесят человек. Музыкой заведовал у меня жид, а певческой — дьякон-расстрига… Жид был большой музыкант… Чёрт так не сыграет, как он, проклятый, играл. На контрабасе, бывало, выводил, шельма, такие экивоки, каких Рубинштейн или Бетховен, положим, и на скрипке не выведет… Учился нотам он за границей, жарил на всех инструментах и рукой махать был мастер. Только один недостаток был в нем: тухлой рыбой вонял да своим безобразием декорацию портил. Во время праздников приходилось его по этой причине за ширмочку ставить… Расстрига тоже не дурак был. И ноты знал и повелевать умел. Дисциплина у него была на такой точке, что даже я удивлялся. Он всего достигал. Бас у него иной раз дишкантом пел, баба в толстоголосии с басами равнялась… Мастер был, разбойник… Видом был важный, сановитый… Пьянствовал только сильно, но ведь это, внучка, кому как… Кому вредно, а кому и пользительно. Певчему надо пить, потому — от водки голос гуще становится… Жиду я платил в год сто рублей ассигнациями, а расстриге ничего не платил… Жил он у меня на одних только харчах и жалованье натурой получал: крупой, мясом, солью, девочками, дровами и проч. Жилось ему у меня, как коту, хоть и частенько порол я его на воздусях… Помню, раз разложил я его и Сережку, ее вот отца, отца твоей матери, и… Саша вдруг вскакивает и прижимается к матери, которая бледна, как полотно, и слегка дрожит… — Мама, пойдем домой… Мне страшно! — Чего тебе, внучка, страшно? Дедушка подходит к внучке, но та отворачивается от него, дрожит и сильнее жмется к матери. — У нее, должно быть, головка болит, — говорит извиняющимся голосом мать. — Пора уж ей спать… Прощайте… Перед уходом Сашина мать подходит к дедушке и, красная, шепчет ему что-то на ухо. — Не дам! — бормочет дедушка, хмуря брови и шамкая губами. — Ни копейки не дам! Пусть отец достает ей на башмаки в своих трактирах, а я ни копейки… Будет вас баловать! Вам благодетельствуешь, а от вас кроме дерзких писем ничего не видишь. Чай, знаешь, какое письмо прислал мне намедни твой муженек… «Скорей, пишет, по трактирам буду шататься да крохи подбирать, чем перед Плюшкиным унижаться…» А? Это отцу-то родному! — Но вы его простите, — просит Сашина мать. — Он так несчастлив, так нервен… Долго просит она. Наконец дедушка гневно плюет, открывает сундучок и, загораживая его всем туловищем, достает оттуда желтую, сильно помятую бумажку… Женщина берет двумя пальцами бумажку и, словно боясь опачкаться, быстро сует ее в карман… Через минуту она и дочка быстро шагают из темных ворот приюта. — Мама, не води меня к дедушке! — дрожит Саша. — Он страшный. — Нельзя, Саша… Надо ходить… Если мы не будем ходить, то нам нечего будет есть… Отцу твоему негде достать. Он болен и… пьет. — Зачем он пьет, мама? — Несчастный, оттого и пьет… Ты же смотри, Саша, не говори ему, что мы к дедушке ходили… Он рассердится и будет от этого много кашлять… Он гордец и не любит, чтобы мы просили… Не скажешь? Вывеска В Ростове-на-Дону, на Садовой улице, над лавкою одного торговца могильными памятниками висит такая вывеска: «П а м я т н ы х д е л м а с т е р». Сообщил Ан. Ч. О драме (Сценка) Два друга, мировой судья Полуехтов и полковник генерального штаба Финтифлеев, сидели за приятельской закуской и рассуждали об искусствах. — Я читал Тэна, Лессинга…[41] да мало ли чего я читал? — говорил Полуехтов, угощая своего друга кахетинским. — Молодость провел я среди артистов, сам пописывал и многое понимаю… Знаешь? Я не художник, не артист, но у меня есть нюх этот, чутье! Сердце есть! Сразу, брат, разберу, ежели где фальшь или неестественность. Меня не надуешь, будь ты хоть Сара Бернар или Сальвини![42] Сразу пойму, ежели что-нибудь этакое… фокус какой-нибудь. Да ты чего же не ешь? Ведь у меня больше ничего не будет! — Я уже наелся, брат, спасибо… А что драма наша, как ты говоришь, пала, так это верно… Сильно пала! — Конечно! Да ты посуди, Филя! Нынешний драматург и актер стараются, как бы это попонятнее для тебя выразиться… стараются быть жизненными, реальными… На сцене ты видишь то, что ты видишь в жизни… А разве нам это нужно? Нам нужна экспрессия, эффект! Жизнь тебе и так уж надоела, ты к ней пригляделся, привык, тебе нужно такое… этакое, что бы все твои нервы повыдергало, внутренности переворотило! Прежний актер говорил неестественным гробовым голосом, бил себя кулачищем по груди, орал, сквозь землю проваливался, но зато он был экспрессивен! И в словах его была экспрессия! Он говорил о долге, о гуманности, о свободе… В каждом действии ты видел самоотвержение, подвиги человеколюбия, страдания, бешеную страсть! А теперь?! Теперь, видишь ли, нам нужна жизненность… Глядишь на сцену и видишь… пф!.. и видишь поганца какого-нибудь… жулика, червяка в порванных штанах, говорящего ерунду какую-нибудь… Шпажинский или какой-нибудь там Невежин считают этого паршивца[43] героем, а я бы — ей-богу, досадно! — попадись он мне в мою камеру, взял бы его, прохвоста, да, знаешь, по 119 статье[44], по внутреннему убеждению, месяца этак на три, на четыре!.. Послышался звонок… Полуехтов, вставший было, чтобы нервно зашагать из угла в угол, опять сел… В комнату вошел маленький краснощекий гимназист в шинели и с ранцем на спине… Он робко подошел к столу, шаркнул ножкой и подал Полуехтову письмо. — Кланялась вам, дяденька, мамаша, — сказал он, — и велела передать вам это письмо. Полуехтов распечатал конверт, надел очки, громко просопел и принялся за чтение. — Сейчас, душенька! — сказал он, прочитав письмо и поднимаясь. — Пойдем… Извини, Филя, я оставлю тебя на секундочку. Полуехтов взял гимназиста за руку и, подбирая полы своего халата, повел его в другую комнату. Через минуту полковник услышал странные звуки. Детский голос начал о чем-то умолять… Мольбы скоро сменились визгом, а за визгом последовал душу раздирающий рев. — Дяденька, я не буду! — услышал полковник. — Голубчичек, я не буду! А-я-я-я-я-й! Родненький, не буду! Странные звуки продолжались минуты две… Засим все смолкло, дверь отворилась и в комнату вошел Полуехтов. За ним, застегивая пальто и сдерживая рыдания, шел гимназист с заплаканным лицом. Застегнув пальто, мальчик шаркнул ножкой, вытер рукавом глаза и вышел. Послышался звук запираемой двери… — Что это у тебя сейчас было? — спросил Финтифлеев. — Да вот, сестра просила в письме посечь мальчишку… Двойку из греческого получил… — А ты чем порешь? — Ремнем… самое лучшее… Ну, так вот… на чем я остановился? Прежде, бывало, сидишь в кресле, глядишь на сцену и чувствуешь! Сердце твое работает, кипит! Ты слышишь гуманные слова, видишь гуманные поступки… видишь, одним словом, прекрасное и… веришь ли?.. я плакал! Бывало, сижу и плачу, как дурак. «Чего ты, Петя, плачешь?» — спрашивает, бывало, жена. А я и сам не знаю, отчего я плачу… На меня, вообще говоря, сцена действует воспитывающе… Да, откровенно говоря, кого не трогает искусство? Кого оно не облагороживает? Кому как не искусству мы обязаны присутствием в нас высоких чувств, каких не знают дикари, не знали наши предки! У меня вот слезы на глазах… Это хорошие слезы, и не стыжусь я их! Выпьем, брат! Да процветают искусства и гуманность! — Выпьем… Дай бог, чтоб наши дети так умели чувствовать, как мы… чувствуем. Приятели выпили и заговорили о Шекспире. Брак по расчету (Роман в 2-х частях) В доме вдовы Мымриной, что в Пятисобачьем переулке, свадебный ужин. Ужинает 23 человека, из коих восемь ничего не едят, клюют носом и жалуются, что их «мутит». Свечи, лампы и хромая люстра, взятая напрокат из трактира, горят до того ярко, что один из гостей, сидящих за столом, телеграфист, кокетливо щурит глаза и то и дело заговаривает об электрическом освещении — ни к селу ни к городу. Этому освещению и вообще электричеству он пророчит блестящую будущность, но, тем не менее, ужинающие слушают его с некоторым пренебрежением. — Электричество… — бормочет посажёный отец, тупо глядя в свою тарелку. — А по моему взгляду, электрическое освещение одно только жульничество. Всунут туда уголек и думают глаза отвести! Нет, брат, уж ежели ты даешь мне освещение, то ты давай не уголек, а что-нибудь существенное, этакое что-нибудь зажигательное, чтобы было за что взяться! Ты давай огня — понимаешь? — огня, который натуральный, а не умственный. — Ежели бы вы видели электрическую батарею, из чего она составлена, — говорит телеграфист, рисуясь, — то вы иначе бы рассуждали. — И не желаю видеть. Жульничество… Народ простой надувают… Соки последние выжимают. Знаем мы их, этих самых… А вы, господин молодой человек, — не имею чести знать вашего имени-отчества, — чем за жульничество вступаться, лучше бы выпили и другим налили. — Я с вами, папаша, вполне согласен, — говорит хриплым тенором жених Апломбов, молодой человек с длинной шеей и щетинистыми волосами. — К чему заводить ученые разговоры? Я не прочь и сам поговорить о всевозможных открытиях в научном смысле, но ведь на это есть другое время! Ты какого мнения, машер[45]? — обращается жених к сидящей рядом невесте. Невеста Дашенька, у которой на лице написаны все добродетели, кроме одной — способности мыслить, вспыхивает и говорит: — Они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном. — Слава богу, прожили век без образования и вот уж, благодарить бога, третью дочку за хорошего человека выдаем, — говорит с другого конца стола мать Дашеньки, вздыхая и обращаясь к телеграфисту. — А ежели мы, по-вашему, выходим необразованные, то зачем вы к нам ходите? Шли бы к своим образованным! Наступает молчание. Телеграфист сконфужен. Он никак не ожидал, что разговор об электричестве примет такой странный оборот. Наступившее молчание имеет характер враждебный, кажется ему симптомом всеобщего неудовольствия, и он находит нужным оправдаться. — Я, Татьяна Петровна, всегда уважал ваше семейство, — говорит он, — а ежели я насчет электрического освещения, так это еще не значит, что я из гордости. Даже вот выпить могу… Я всегда от всех чувств желал Дарье Ивановне хорошего жениха. В наше время, Татьяна Петровна, трудно выйти за хорошего человека. Нынче каждый норовит вступить в брак из-за интереса, из-за денег… — Это намек! — говорит жених, багровея и мигая глазами. — И никакого тут нет намека, — говорит телеграфист, несколько струсив. — Я не говорю о присутствующих. Это я так… вообще… Помилуйте!.. Все знают, что вы из любви… Приданое пустяшное… — Нет, не пустяшное! — обижается Дашенькина мать. — Ты говори, сударь, да не заговаривайся! Кроме того, что мы тысячу рублей, мы три салопа даем, постелю и вот эту всю мебель! Поди-кась найди в другом месте такое приданое! — Я ничего… Мебель, действительно, хорошая… но я в том смысле, что вот они обижаются, будто я намекнул… — А вы не намекайте, — говорит невестина мать. — Мы вас по вашим родителям почитаем и на свадьбу пригласили, а вы разные слова… А ежели вы знали, что Егор Федорыч из интереса женится, то что же вы раньше молчали? Пришли бы да и сказали по-родственному: так и так, мол, на интерес польстился… А тебе, батюшка, грех! — обращается вдруг невестина мать к жениху, слезливо мигая глазами. — Я ее, может, вскормила, вспоила… берегла пуще алмаза изумрудного, деточку мою, а ты… ты из интереса… — И вы поверили клевете? — говорит Апломбов, вставая из-за стола и нервно теребя свои щетинистые волосы. — Покорнейше вас благодарю! Мерси за такое мнение! А вы, господин Блинчиков, — обращается он к телеграфисту, — вы хоть и знакомый мне, но я не позволю вам такие безобразия строить в чужом доме! Позвольте вам выйти вон! — То есть как? — Позвольте вам выйти вон! Желаю, чтобы и вы были таким честным человеком, как я! Одним словом, позвольте вам выйти вон! — Да оставь! Будет тебе! — осаживают жениха его приятели. — Ну, стоит ли? Садись! Оставь! — Нет, я желаю показать, что он не имеет никакой полной правы! Я по любви вступил в законный брак. Чего же вы сидите, не понимаю! Позвольте вам выйти вон! — Я ничего… Я ведь… — говорит ошеломленный телеграфист, поднимаясь из-за стола. — Не понимаю даже… Извольте, я уйду… Только вы отдайте мне сначала три рубля, что вы у меня на пикейную жилетку заняли. Выпью вот еще и… уйду, только вы сначала долг отдайте. Жених долго шепчется со своими приятелями. Те по мелочам дают ему три рубля, он с негодованием бросает их телеграфисту, и последний, после долгих поисков своей форменной фуражки, раскланивается и уходит. Так иногда может кончиться невинный разговор об электричестве! Но вот кончается ужин… Наступает ночь. Благовоспитанный автор надевает на свою фантазию крепкую узду и накидывает на текущие события темную вуаль таинственности. Розоперстая Аврора застает еще Гименея в Пятисобачьем переулке, но вот настает серое утро и дает автору богатый материал для Серое осеннее утро. Еще нет и восьми часов, а в Пятисобачьем переулке необычайное движение. По тротуарам бегают встревоженные городовые и дворники; у ворот толпятся озябшие кухарки с выражением крайнего недоумения на лицах… Во все окна глядят обыватели. Из открытого окна прачечной, нажимая друг друга висками и подбородками, глядят женские головы. — Не то снег, не то… и не разберешь, что оно такое, — слышатся голоса. В воздухе от земли до крыш кружится что-то белое, очень похожее на снег. Мостовая бела, уличные фонари, крыши, дворницкие скамьи у ворот, плечи и шапки прохожих — всё бело. — Что случилось? — спрашивают прачки у бегущих дворников. Те в ответ машут руками и бегут дальше… Они и сами не знают, в чем дело. Но вот, наконец, медленно проходит один дворник и, беседуя сам с собой, жестикулирует руками. Очевидно, он побывал на месте происшествия и знает всё. — Что, родименький, случилось? — спрашивают у него прачки из окна. — Неудовольствие, — отвечает он. — В доме Мымриной, что вчерась была свадьба, жениха обсчитали. Вместо тысячи — девятьсот дали. — Ну, а он что? — Осерчал. Я, говорит, того, говорит… Распорол в сердцах перину и выпустил пух в окно… Ишь, сколько пуху! Снег словно! — Ведут! Ведут! — слышатся голоса. — Ведут! От дома вдовы Мымриной движется процессия. Впереди идут два городовых с озабоченными лицами… Сзади них шагает Апломбов в триковом пальто и в цилиндре. На лице у него написано: «Я честный человек, но надувать себя не позволю!» — Ужо правосудие покажет вам, что я за человек! — бормочет он, то и дело оборачиваясь. За ним идут плачущие Татьяна Петровна и Дашенька. Шествие замыкается дворником с книгой и толпой мальчишек. — О чем плачешь, молодуха? — обращаются прачки к Дашеньке. — Перины жалко! — отвечает за нее мать. — Три пуда, голубчики! И пух-то ведь какой! Пушинка к пушинке — ни одного перышка! Наказал бог на старости лет! Процессия поворачивает за угол, и Пятисобачий переулок успокаивается. Пух летает до вечера. Господа обыватели (Пьеса в двух действиях) Действие первое Городская управа. Заседание. Г о р о д с к о й г о л о в а (почавкав губами и медленно поковыряв у себя в ухе). В таком разе не угодно ли вам будет, господа, выслушать мнение брандмейстера Семена Вавилыча, который по этой части специалист? Пускай объяснит, а там мы рассудим! Б р а н д м е й с т е р. Я так понимаю… (сморкается в клетчатый платок). Десять тысяч, ассигнованные на пожарную часть, может быть, и большие деньги, но… (вытирает лысину) это одна только видимость. Это не деньги, а мечта, атмосфера. Конечно, и за десять тысяч можно иметь пожарную команду, но какую? Один смех только! Видите ли… Самое важное в жизни человеческой — это каланча, и всякий ученый вам это скажет. Наша же городская каланча, рассуждая категорически, совсем не годится, потому что мала. Дома высокие (поднимает вверх руку), они кругом загораживают каланчу, и не только что пожар, но дай бог хоть небо увидеть. Я взыскиваю с пожарных, но разве они виноваты, что им не видно? Потом в отношении лошадином и в рассуждении бочек… (расстегивает жилетку, вздыхает и продолжает речь в том же духе). Г л а с н ы е (единогласно). Прибавить сверх сметы еще две тысячи! (Городской голова делает минутный перерыв для вывода из залы заседания корреспондента.) Б р а н д м е й с т е р. Хорошо-с. Теперь, стало быть, вы рассуждаете, чтобы каланча была возвышена на два аршина… Хорошо. Но ежели взглянуть с той точки и в том смысле, что тут заинтересованы общественные, так сказать, государственные интересы, то я должен заметить, господа гласные, что если за это дело возьмется подрядчик, то я должен вам иметь в виду, что это обойдется городу вдвое дороже, так как подрядчик будет соблюдать тут свой интерес, а не общественный. Если же строить хозяйственным способом, не спеша, то ежели кирпич, положим, по пятнадцати рублей за тысячу и доставка на пожарных лошадях и ежели (поднимает глаза к потолку, как бы мысленно считая) и ежели пятьдесят двенадцатиаршинных бревен в пять вершков… (считает). Г л а с н ы е (подавляющим большинством голосов). Поручить ремонт каланчи Семену Вавилычу, для каковой цели ассигновать на первый раз тысячу пятьсот двадцать три рубля сорок четыре копейки! Б р а н д м е й с т е р ш а (сидит среди публики и шепчет соседке). Не знаю, зачем это мой Сеня берет на себя столько хлопот! С его ли здоровьем заниматься постройками? Тоже, это весело — целый день рабочих по зубам бить! Наживет на ремонте какой-нибудь пустяк, рублей пятьсот, а здоровья себе испортит на тысячу. Губит его, дурака, доброта! Б р а н д м е й с т е р. Хорошо-с. Теперь будем говорить о служебном персонале. Конечно, я, как лицо, можно сказать, заинтересованное (конфузится), могу только заметить, что мне… мне всё равно… Я человек уже не молодой, больной, не сегодня — завтра могу умереть. Доктор сказал, что у меня во внутренностях затвердение и что если я не буду оберегать своего здоровья, то внутри во мне лопнет жила и я помру без покаяния… Ш ё п о т в п у б л и к е. Собаке собачья и смерть. Б р а н д м е й с т е р. Но я о себе не хлопочу. Пожил я, и слава богу. Ничего мне не нужно… Только мне удивительно и… и даже обидно… (машет безнадежно рукой). Служишь за одно только жалованье, честно, беспорочно… ни днем, ни ночью покою, не щадишь здоровья и… и не знаешь, к чему всё это? Для чего хлопочу? Какой интерес? Я не про себя рассуждаю, а вообще… Другой не станет жить при таком иждивении… Пьяница пойдет на эту должность, а человек дельный, солидный скорей с голоду помрет, чем за такое жалованье станет тут хлопотать с лошадьми да с пожарными… (пожав плечами). Какой интерес? Если бы увидели иностранцы, какие у нас порядки, то, я думаю, досталось бы нам на орехи во всех заграничных газетах. В Западной Европе, взять хоть, например, Париж, на каждой улице по каланче, и брандмейстерам каждогодно выдают пособие в размере годового жалованья. Там можно служить! Г л а с н ы е. Выдать Семену Вавилычу в виде единовременного пособия за долголетнюю службу двести рублей! Б р а н д м е й с т е р ш а (шепчет соседке). Это хорошо, что он выпросил… Умник. Намедни мы были у отца протопопа, проиграли у него в стуколку сто рублей и теперь, знаете ли, так жалко! (Зевает.) Ах, так жалко! Пора бы уж домой идти, чай пить. Действие второе Сцена у каланчи. Стража. Ч а с о в о й н а к а л а н ч е (кричит вниз). Эй! На лесопильном дворе горит! Бей тревогу! Ч а с о в о й в н и з у. А ты только сейчас увидел? Народ уж полчаса как бежит, а ты, чудак, только сейчас спохватился? (Глубокомысленно.) Дурака хоть наверху поставь, хоть внизу — всё равно (бьет тревогу). (Через три минуты в окне своей квартиры, находящейся против каланчи, показывается брандмейстер в дезабилье и с заспанными глазами.) Б р а н д м е й с т е р. Где горит, Денис? Ч а с о в о й в н и з у (вытягивается и делает под козырек). На лесопильном дворе, вашескородие! Б р а н д м е й с т е р (покачивает головой). Упаси бог! Ветер дует, сушь такая… (машет рукой). И не дай бог! Горе да и только с этими несчастьями!.. (погладив себя по лицу). Вот что, Денис… Скажи им, братец ты мой, чтоб запрягали и ехали себе, а я сейчас… немного погодя приеду… Одеться надо, то да се… Ч а с о в о й в н и з у. Да некому ехать, вашескородие! Все поуходили, один Андрей дома. Б р а н д м е й с т е р (испуганно). Где же они, мерзавцы? Ч а с о в о й в н и з у. Макар новые подметки ставил, теперь сапоги понес в слободку, к дьякону. Михайлу, ваше высокородие, вы сами изволили послать овес продавать… Егор на пожарных лошадях повез за реку надзирателеву свояченицу, Никита выпивши. Б р а н д м е й с т е р. А Алексей? Ч а с о в о й в н и з у. Алексей пошел раков ловить, потому вы изволили ему давеча приказать, говорили, что завтра у вас к обеду гости будут. Б р а н д м е й с т е р (презрительно покачав головой). Изволь вот служить с таким народом! Невежество, необразованность… пьянство… Если бы увидели иностранцы, то досталось бы нам в заграничных журналах! Там, взять хоть Париж, пожарная команда всё время скачет по улице, народ давит; есть пожар или нет, а ты скачи! Тут же горит лесопильный двор, опасность, а их никого дома нет, словно… чёрт их слопал! Нет, далеко еще нам до Европы! (Поворачивается лицом в комнату, нежно.) Машенька, приготовь мне мундир! Свадьба с генералом (Рассказ) Отставной контр-адмирал Ревунов-Караулов, маленький, старенький и заржавленный, шел однажды с рынка и нес за жабры живую щуку. За ним двигалась его кухарка Ульяна, держа под мышкой кулек с морковью и пачку листового табаку, который почтенный адмирал употреблял «от клопов, тли (она же моль), тараканов и прочих инфузорий, живущих на теле человека и в его жилище». — Дядюшка! Филипп Ермилыч! — услыхал он вдруг, поворачивая в свой переулок. — А я только что у вас был, целый час стучался! Как хорошо, что мы не разминулись! Контр-адмирал поднял глаза и увидел перед собою своего племянника Андрюшу Нюнина, молодого человека, служащего в страховом обществе «Дрянь». — У меня к вам есть просьба, — продолжал племянник, пожимая дядюшкину руку и приобретая от этого сильный рыбий запах. — Сядемте на скамеечку, дядюшка… Вот так… Ну-с, дело вот в чем… Сегодня венчается мой хороший друг и приятель, некто Любимский… человек, между нами говоря, прелестнейший… Да вы, дядюшка, положите щуку! Что она будет вам шинель пачкать? — Это ничего… Гадость рыба, грош цена, а между тем икра — удивление! Распороть ей брюхо, выпустить оттеда икру, смешать ее, знаешь, с толчеными сухариками, лучком, перцем и — приидите, насладимся! — Человек прекраснейший… Служит оценщиком в ссудной кассе, но вы не подумайте, что это какой-нибудь замухрышка или валет… В ссудных кассах нынче и благородные дамы служат… Семейство, могу вас уверить… отец, мать и прочие… люди превосходные, радушные такие, религиозные… Одним словом, семья русская, патриархальная, от которой вы будете в восторге… Женится Любимский на сиротке, по любви… Славные люди!.. Так вот не можете ли вы, дорогой дядечка, оказать честь этой семье и пожаловать сегодня к ним на свадебный ужин? — Но ведь я тово… незнаком! Как я поеду? — Это ничего не значит! Не к баронам и не к графам ведь ехать! Люди простые, без всяких этикетов… Русская натура: милости просим, все знакомые и незнакомые! И к тому же… я вам откровенно… семья патриархальная, с разными предрассудками, причудами… Смешно даже… Ужасно ей хочется, чтобы на свадьбе присутствовал генерал! Тысячи рублей им не надо, а только посадите за их стол генерала! Согласен, грошовое тщеславие, предрассудок, но… но отчего же не доставить им этого невинного удовольствия? Тем более, что и вам не будет там скучно… Нарочно для вас припасли бутылочку цимлянского и омаров жестяночку… Да и блеснете, откровенно говоря. Теперь ваш чин пропадает даром, как бы зарыт в землю, и никто не чувствует, что вы такого звания, а там, по крайней мере, всем понятно будет! Да ей-богу! — Но прилично ли это будет для меня, Андрюша? — спросил контр-адмирал, задумчиво глядя на извозчика. — Я, знаешь, подумаю… — Странно, о чем тут можно думать? Езжайте, вот и всё! А что насчет приличия, то даже обидно… Точно я могу родного дядю повести в неприличное место! — Пожалуй… Как знаешь… — Так я за вами вечерком заеду… Этак часиков в одиннадцать, попоздней, чтобы как раз на ужин попасть… по-аристократически… В 11 часов Нюнин заехал за дядюшкой. Ревунов-Караулов надел свой мундир и штаны с золотыми лампасами, нацепил ордена — и они поехали. Свадебный ужин уже начался, когда взятый из трактира напрокат лакей снимал с адмирала пальто с капюшоном, и мать жениха, г-жа Любимская, встречая его в передней, щурила на него глаза. — Генерал? — вздыхала она, вопросительно глядя на Андрюшу, снимавшего пальто, и кланяясь. — Очень приятно, ваше превосходительство… Но какие неосанистые… завалященькие… Гм… Никакой строгости в виде и даже еполетов нету… Гм… Ну, всё равно, не ворочаться же, какого бог дал… Так и быть, пожалуйте, ваше превосходительство! Слава богу, хоть орденов много… Контр-адмирал поднял вверх свежевыбритый подбородок, внушительно кашлянул и вошел в зал… Тут его взорам представилась картина, способная размягчить и обратить в пепел даже камень. Посреди залы стоял большой стол, уставленный закусками и бутылками… За столом, на самом видном месте, сидел жених Любимский во фраке и белых перчатках. По его вспотевшему лицу плавала улыбка. Очевидно, его услаждали не столько предлежащие яства, сколько предвкушение предстоящих брачных наслаждений. Около него сидела невеста с заплаканными глазами и с выражением крайней невинности на лице. Контр-адмирал сразу понял, что она добродетельна. Все остальные места были заняты гостями обоего пола. — Контр-адмирал Ревунов-Караулов! — крикнул Андрюша. Гости поглядели исподлобья на вошедших, почтительно вытерли губы и приподнялись. — Позвольте представить, ваше превосходительство! Новобрачный Эпаминонд Саввич Любимский с супругою… Иван Иваныч Ять, служащий на телеграфе… Иностранец греческого звания по кондитерской части Харлампий Спиридоныч Дымба… Федор Яковлевич Наполеонов и… прочие… Садитесь, ваше —ство! Контр-адмирал покачнулся, сел и тотчас же придвинул к себе селедку. — Как вы его отрапортовали? — обратилась шёпотом хозяйка к Андрюше, подозрительно и озабоченно поглядывая па сановного гостя. — Я просила генерала, а не этого… как его… котр… конр… — Контр-адмирала… Но вы не понимаете, Настасья Тимофеевна. Поскольку действительный статский советник в гражданских чинах по табели о рангах соответствует генерал-майору, постольку контр-адмирал соответствует действительному статскому советнику… Разница только в ведомствах, суть же — один чёрт… Одна цена. — Да, да… — подтвердил Наполеонов. — Это верно… Хозяйка успокоилась и поставила перед контр-адмиралом бутылку цимлянского. — Кушайте, ваше —ство! Извините только, пожалуйста… У себя там вы привыкли к деликатности, а у нас так просто! — Да-с… — начал контр-адмирал после продолжительного молчания. — В старину люди всегда жили просто и были довольны… Я человек, который в чинах, и то живу просто… — Вы давно в отставке, ваше —ство? — С 1865-го года… В старину всё просто было… Но… Адмирал сказал «но», перевел дух и в это время увидел молодого гардемарина, сидевшего против него. — Вы тово… во флоте, стадо быть? — спросил он. — Точно так, ваше —ство!.. — Ага… Так… Чай, теперь всё пошло по-новому, не так, как при нас было… Белотелые всё пошли, пушистые… Впрочем, флотская служба всегда была трудная… Это не то, что пехота какая-нибудь или, положим, кавалерия… В пехоте ничего умственного нет. Там даже и мужику понятно, как и что… А вот у нас с вами, молодой человек, нет-с! Шутишь! У нас с вами есть над чем задуматься… Всякое незначительное слово имеет, так сказать, свое таинственное… ээ… недоумение… Например: марсовые к вантам, на фок и грот! Что это значит? Это значит, что которые приставлены для закрепления брамселей, должны непременно находиться в это время на марсах, иначе надо командовать: саленговые к вантам! Тут уж другой смысл… Хе-хе… Тонкость, что твоя математика! А вот ежели, идучи полным ветром… дай бог память… На брамсели и бом-брамсели! Тут марсовые, которые назначены для отдачи марселей и бом-брамселей, что есть духу бегут с марсов на салинги и бом-салинги, потом… дай бог память… расходятся по реям и раскрепляют означенные паруса, а в это время — понимаете? — в это самое время! — люди, которые внизу, становятся на брам и бом-брам-шкоты, фалы и брасы… — За здоровье достоуважаемых гостей! — провозгласил жених. — Да-с, — перебил контр-адмирал, поднимаясь и чокаясь. — Мало ли разных команд… Да вот хоть бы эту взять… дай бог память… брам и бом-брам-шкоты тянуть, фалы поднимааай!!. Хорошо-с… Но что это значит и какой здесь смысл? Очень просто! Тянут, знаете ли, брам и бом-брам-шкоты и поднимают фалы… все вдруг! Причем уравнивают бом-брам-шкоты и бом-брам-фалы при подъеме, а в это время, глядя по надобности, потравливают брасы сих парусов, а когда уж, стало быть, шкоты натянуты и фалы все до места подняты, то брам и бом-брам-брасы вытягиваются и реи брасопятся соответственно направлению ветра… — Дядюшка! — шепнул Андрюша. — Хозяйка просит вас поговорить о чем-нибудь другом. Это непонятно гостям и… скучно. — Постой… Я рад, что молодого человека встретил… Молодой человек! Я всегда желал и… желаю… От души желаю! Дай бог… Мне приятно… Да-с… А вот ежели корабль лежит бейдевинд правым галсом под всеми парусами, исключая грота, то как надлежит командовать? Очень просто… дай бог память… Всех на вееерх, через фордевинд поворачивать! Ведь так? Хе-хе… — Будет, дядюшка! — шепнул Андрюша. Но дядюшка не унимался. Он выкрикивал команду за командой и каждый свой хриплый выкрик пояснял длинным комментарием. Приближался уж конец ужина, а между тем по его милости не было сказано еще ни одного длинного тоста, ни одной речи. Иван Иваныч Ять, у которого давно уже висела на языке цветистая речь, начал беспокойно вертеться на стуле, морщиться и шептаться с соседями. Раз, когда за десертом адмирал поперхнулся цимлянским и закашлялся, он воспользовался паузой, вскочил и начал: — В сегодняшний, так сказать, день… Гм… в который мы, собравшись для чествования нашего любимого… — Да-с… — перебил его адмирал. — И ведь всё это надо помнить! Например… дай бог память… бейфуты и топенанты раздернуть, бакштаги с правой за марс! — Мы люди темные, ваше превосходительство, — сказала хозяйка, — ничего этого самого не понимаем, а вы расскажите нам лучше что-нибудь касающее… — Вы не понимаете, потому что… термины! Конечно! А молодой человек понимает… Да. Старину с ним вспомнил… А ведь приятно, молодой человек! Плывешь себе по морю, горя не знаючи, и… Адмирал прослезился и заговорил дрожащим голосом: — Например… дай бог память… Кливер поднимай, пошел браса, фока и грота-галсы садить! Адмирал вытер глаза, всхлипнул и продолжал: — Тут сейчас поднимают кливер-фалы, брасопят грот-марсель и прочие, что над оным, паруса в бейдевинд, а потом садят до места фока и грота-галсы, тянут шкоты и выбирают булиня… Пла… плачу… Рад… — Генерал, а безобразите! — вспыхнула хозяйка. — Постыдились бы на старости лет! Мы вам не за то деньги платили, чтоб вы безобразили! — Какие деньги? — вытаращил глаза контр-адмирал. — Известно какие… Небось, уж получили через Андрея Ильича четвертную! А вам, Андрей Ильич, грех! Мы вас не просили такого нанимать… Старик взглянул на вспыхнувшего Андрюшу, на хозяйку — и всё понял. «Предрассудок» патриархальной семьи, о котором говорил ему Андрюша, предстал перед ним во всей его пакости… В один миг слетел с него хмель… Он встал из-за стола, засеменил в переднюю и, одевшись, вышел… Больше уж он никогда не ходил на свадьбы. К характеристике народов (Из записок одного наивного члена Русского географического общества) Французы замечательны своим легкомыслием. Они читают нескромные романы, женятся без позволения родителей, не слушаются дворников, не уважают старших и даже не читают «Московских ведомостей». Они до того безнравственны, что все французские консистории завалены бракоразводными делами. Сара Бернар, например, так часто разводится с мужьями, что один секретарь консистории по ее милости нажил себе два дома. Женщины поступают в опереточные актрисы и гуляют по Невскому, а мужчины пекут французские булки и поют «Марсельезу». Много альфонсов: Альфонс Додэ, Альфонс Ралле[46] и другие… Шведы воевали с Петром Великим и дали нашему соотечественнику Лапшину идею шведских спичек, но не научили его, как делать эти спички легко зажигающимися и годными для употребления. Ездят на шведках, слушают в ресторанах пение шведок и подмазывают колеса норвежским дегтем. Живут в местах отдаленных. Греки занимаются по преимуществу торговлей. Продают губки, золотых рыбок, сантуринское вино и греческое мыло, не имеющие же торговых прав водят обезьян или занимаются преподаванием древних языков. В свободное от занятий время ловят рыбу около одесской и таганрогской таможен. Питаются недоброкачественной пищей, приготовляемой в греческих харчевнях, от нее же и умирают. Между ними попадаются иногда и высокие люди: так, содержатель татарского ресторана в Москве Владос очень высокий и очень толстый человек. Испанцы дни и ночи играют на гитарах, дерутся под окнами на дуэлях и ведут переписку с звенигородским помещиком Константином Шиловским, сочинившим «Тигренка» и «Желаю быть испанцем».[47] На государственную службу не принимаются, так как носят длинные волосы и пледы. Женятся по любви, но тотчас же после свадьбы закалывают своих жен от ревности, несмотря даже на увещания испанских околоточных, которых в Испании уважают. Занимаются приготовлением шпанских мушек. Черкесы все до единого имеют титул «сиятельства». Едят шашлык, пьют кахетинское и дерутся в редакциях. Занимаются выделыванием старинного кавказского оружия, ни о чем никогда не думают и имеют длинные носы для удобнейшего вывода их из публичных мест, где они производят беспорядки. Персы воюют с русскими клопами, блохами и тараканами, для каковой цели приготовляют персидский порошок. Воюют уже давно, однако же еще не победили и, судя по размерам купеческих перин и щелей в чиновничьих кроватях, победят едва ли скоро. Богатые персы сидят на персидских коврах, а бедные — на колах, причем первые испытывают гораздо большее удовольствие, чем вторые. Носят орден «Льва и Солнца», каковой орден имеют наш Юлий Шрейер, завоевавший себе персидские симпатии, Рыков, оказавший России персидские услуги[48], и многие московские купцы за неослабную поддержку причин упомянутой войны с насекомыми. Англичане очень дорого ценят время. «Время — деньги», говорят они, и потому своим портным вместо денег платят временем. Они постоянно заняты: говорят речи на митингах, ездят на кораблях и отравляют китайцев опиумом. У них нет досуга… Им некогда обедать, бывать на балах, ходить на рандеву, париться в бане. На рандеву вместо себя посылают они комиссионеров, которым дают неограниченные полномочия. Дети, рожденные от комиссионеров, признаются законными. Живет этот деловой народ в английских клубах, на английской набережной и в английском магазине. Питается английской солью и умирает от английской болезни. Задача Предлагаю на разрешение читателя задачу. Я, моя жена и теща вышли в 2 часа ночи из дома, где все трое пировали на свадьбе у одного нашего дальнего родственника. На свадьбе мы, конечно, выпили и закусили. — В моем положении я не могу пешком идти, — заявила жена. — Найми, Кирюша, извозчика. — Бог знает что ты выдумываешь, Даша! — запротестовала теща. — При нонешней дороговизне, когда на хлеб к чаю нет… дров нету, а ты на извозчика! Не слушай ее, батюшка! Но я, дорожа здоровьем жены и плода любви своей несчастной (читатель, конечно, уже догадался, что жена моя была в интересном положении) и находясь в том стадии[49] блаженно-смиренномудрого подпития, когда пешее хождение служит прекрасной учебно-вспомогательной прогулкой для уразумения теории Коперника о вращении земли, я не послушался тещи и крикнул извозчика. Извозчик подкатил и… Но тут начинается самая задача. Размеры извозчичьих санок вам известны. Я литератор, из чего явствует, что я тощ и легковесен. Моя жена — тоже тоща, но она все-таки шире меня, ибо ее поперечные размеры волею судеб увеличены. Теща же изображает из себя дистанцию огромного размера; поперечник ее равен длиннику; вес 7 пуд. 24 фунта. — Втроем мы не усядемся на одного извозчика, — сказал я. — Нужно нанять еще другого. — Ты, батюшка, с ума сошел, что ли? — зафордыбачилась теща. — За квартиру платить нечем, а ты захотел двух извозчиков! Не позволю! И благословения вам моего не будет! Прокляну! — Но поймите же, мамаша, — сказал я наивозможно почтительным голосом, — втроем нам усесться никак невозможно. Если вы сядете, то, будучи, благодаря бога, полны, вы займете три четверти сиденья. Я-то, как худенький, пожалуй, еще могу сесть рядом с вами; Дашенька же, по случаю своего положения, рядом с вами усесться не может. Где же ей сесть? — Как знаете, мучители мои! — замахала руками теща. — А нанимать другого извозчика нет вам моего благословения! — Хорошо-с… — начал я вслух думать. — Я, как худощавый, сяду с вами, но тогда Дашеньке негде сесть; если же я сяду с Дашей — вам нет места… Хорошо-с… Постойте… Если, положим, мне с вами сесть, а Дашу посадить к нам на колени, но… это физически невозможно: проклятые санки узки… Ну-с, а если, положим, я сяду с мамашей, а ты, Даша, на козлы рядом с извозчиком… Даша, хочешь рядом с извозчиком? — Я благородная вдова, — рассердилась теща, — и не позволю, чтоб моя плоть и кровь сидела рядом с мужиком! Да и где это видано, чтоб дамы сидели на козлах? — В таком случае мы вот как сделаем, — сказала моя находчивая жена. — Мамаша сядет как следует, а я сяду внизу у ее ног, съежусь, скорчусь и буду держаться за пустое местечко, что около нее; ты же, Кирюша, сядешь на козлы… Ты не благородный, тебе можно на козлы… — Так-то так, — почесал я затылок, — но я выпивши и могу свалиться с козел… — Нализался! — проворчала теща. — Ну, ежели боишься с козел упасть, так стань на запятки и крепко ручищами за спинку держись… Мы тихо поедем, не упадешь… Как я ни был пьян, но с презрением отверг этот позорный проект: русский литератор и вдруг — на запятках?! Этого еще недоставало!.. Изнемогая от подпития и головоломки, за решением данной мне задачи, я уже готов был плюнуть и отправиться домой пешком, как вдруг извозчик обернулся к нам и сказал: — Вы этак сделайте… И предложил нам проект, который и был принят. В чем заключался этот проект? P. S. Единовременное пособие для недогадливых: по проекту извозчика, я сидел рядом с тещей, жена же ко мне была так близко, что могла шепнуть мне на ухо. «Ты, Кирюша, толкаешь меня локтем. Подайся чуточку назад!» Извозчик сидел на своем месте. После этого угадать не трудно. Р е ш е н и е з а д а ч и Я сидел рядом с тещей, спиной к извозчику и свесив ноги наружу через спинку санок. Жена стояла в санках на том месте, где должны были бы быть мои ноги, если бы я сидел по-человечески, и держалась за мои плечи. Ночь перед судом (Рассказ подсудимого) — Быть, барин, беде! — сказал ямщик, оборачиваясь ко мне и указывая кнутом на зайца, перебегавшего нам дорогу. Я и без зайца знал, что будущее мое отчаянное. Ехал я в С—ий окружной суд, где должен был сесть на скамью подсудимых за двоеженство. Погода была ужасная. Когда я к ночи приехал на почтовую станцию, то имел вид человека, которого облепили снегом, облили водой и сильно высекли, — до того я озяб, промок и обалдел от однообразной дорожной тряски. На станции встретил меня станционный смотритель, высокий человек в кальсонах с синими полосками, лысый, заспанный и с усами, которые, казалось, росли из ноздрей и мешали ему нюхать. А понюхать, признаться, было что. Когда смотритель, бормоча, сопя и почесывая за воротником, отворил дверь в станционные «покои» и молча указал мне локтем на место моего успокоения, меня обдало густым запахом кислятины, сургуча и раздавленного клопа — и я едва не задохнулся. Жестяная лампочка, стоявшая на столе и освещавшая деревянные некрашеные стены, коптила, как лучина. — Да и вонь же у вас, синьор! — сказал я, входя и кладя чемодан на стол. Смотритель понюхал воздух и недоверчиво покачал головой. — Пахнет, как обыкновенно, — сказал он и почесался. — Это вам с морозу. Ямщики при лошадях дрыхнут, а господа не пахнут. Я услал смотрителя и стал обозревать свое временное жилище. Диван, на котором мне предстояло возлечь, был широк, как двухспальная кровать, обит клеенкой и был холоден, как лед. Кроме дивана, в комнате были еще большая чугунная печь, стол с упомянутой лампочкой, чьи-то валенки, чей-то ручной саквояж и ширма, загораживавшая угол. За ширмой кто-то тихо спал. Осмотревшись, я постлал себе на диване и стал раздеваться. Нос мой скоро привык к вони. Снявши сюртук, брюки и сапоги, бесконечно потягиваясь, улыбаясь, ежась, я запрыгал вокруг чугунной печки, высоко поднимая свои босые ноги… Эти прыжки меня еще более согрели. Оставалось после этого растянуться на диване и уснуть, но тут случился маленький казус. Мой взгляд нечаянно увал на ширмы и… представьте мой ужас! Из-за ширмы глядела на меня женская головка с распущенными волосами, черными глазками и оскаленными зубками. Черные брови ее двигались, на щеках играли хорошенькие ямочки — стало быть, она смеялась. Я сконфузился. Головка, заметив, что я ее увидел, тоже сконфузилась и спряталась. Словно виноватый, потупя взор, я смирнехонько направился к дивану, лег и укрылся шубой. «Какая оказия! — подумал я. — Значит, она видела, как я прыгал! Нехорошо…» И, припоминая черты хорошенького личика, я невольно размечтался. Картины одна другой краше и соблазнительнее затеснились в моем воображении и… и, словно в наказание за грешные мысли, я вдруг почувствовал на своей правой щеке сильную, жгучую боль. Я схватился за щеку, ничего не поймал, но догадался, в чем дело: запахло раздавленным клопом. — Это чёрт знает что такое! — услышал я в то же время женский голосок. — Проклятые клопы, вероятно, хотят съесть меня! Гм!.. Я вспомнил о своей хорошей привычке всегда брать с собой в дорогу персидский порошок. И на сей раз я не изменил этой привычке. Жестянка с порошком была вытащена из чемодана в какую-нибудь секунду. Оставалось теперь предложить хорошенькой головке средство от «энциклопедии» и — знакомство готово. Но как предложить? — Это ужасно! — Сударыня, — сказал я возможно сладеньким голосом. — Насколько я понял ваше последнее восклицание, вас кусают клопы. У меня же есть персидский порошок. Если угодно, то… — Ах, пожалуйста! — В таком случае я сейчас… надену только шубу, — обрадовался я, — и принесу… — Нет, нет… Вы через ширму подайте, а сюда не ходите! — Я и сам знаю, что через ширму. Не пугайтесь: не башибузук какой-нибудь…[50] — А кто вас знает! Народ вы проезжий… — Гм!.. А хоть бы и за ширму… Тут ничего нет особенного… тем более, что я доктор, — солгал я, — а доктора, частные пристава и дамские парикмахеры имеют право вторгаться в частную жизнь. — Вы правду говорите, что вы доктор? Серьезно? — Честное слово. Так позволите принести вам порошок? — Ну, если вы доктор, то пожалуй… Только зачем вам трудиться? Я могу мужа выслать к вам… Федя! — сказала брюнетка, понизив голос. — Федя! Да проснись же, тюлень! Встань и поди за ширму! Доктор так любезен, он предлагает нам персидского порошку. Присутствие за ширмой «Феди» было для меня ошеломляющею новостью. Меня словно обухом ударило… Душу мою наполнило чувство, которое, по всей вероятности, испытывает ружейный курок, когда делает осечку: и совестно, и досадно, и жалко… На душе у меня стало так скверно и таким мерзавцем показался мне этот Федя, когда вышел из-за ширмы, что я едва не закричал караул. Федя изображал из себя высокого жилистого человека лет пятидесяти, с седыми бачками, со стиснутыми чиновничьими губами и с синими жилками, беспорядочно бегавшими по его носу и вискам. Он был в халате и туфлях. — Вы очень любезны, доктор… — сказал он, принимая от меня персидский порошок и поворачивая к себе за ширмы. — Merci… И вас застала пурга? — Да! — проворчал я, ложась на диван и остервенело натягивая на себя шубу. — Да! — Так-с… Зиночка, по твоему носику клопик бежит! Позволь мне снять его! — Можешь, — засмеялась Зиночка. — Не поймал! Статский советник, все тебя боятся, а с клопом справиться не можешь! — Зиночка, при постороннем человеке… (вздох). Вечно ты… Ей-богу… — Свиньи, спать не дают! — проворчал я, сердясь сам не зная чего. Но скоро супруги утихли. Я закрыл глаза, стал ни о чем не думать, чтобы уснуть. Но прошло полчаса, час… и я не спал. В конце концов и соседи мои заворочались и стали шёпотом браниться. — Удивительно, даже персидский порошок ничего не берет! — проворчал Федя. — Так их много, этих клопов! — Доктор! Зиночка просит меня спросить вас: отчего это клопы так мерзко пахнут? Мы разговорились. Поговорили о клопах, погоде, русской зиме, о медицине, в которой я так же мало смыслю, как в астрономии; поговорили об Эдисоне… — Ты, Зиночка, не стесняйся… Ведь он доктор! — услышал я шёпот после разговора об Эдисоне. — Не церемонься и спроси… Бояться нечего. Шервецов не помог, а этот, может быть, и поможет. — Спроси сам! — прошептала Зиночка. — Доктор, — обратился ко мне Федя, — отчего это у моей жены в груди теснение бывает? Кашель, знаете ли… теснит, точно, знаете ли, запеклось что-то… — Это длинный разговор, сразу нельзя сказать… — попытался я увернуться. — Ну, так что ж, что длинный? Время есть… всё одно, не спим… Посмотрите ее, голубчик! Надо вам заметить, лечит ее Шервецов… Человек-то он хороший, но… кто его знает? Не верю я ему! Не верю! Вижу, вам не хочется, но будьте так добры! Вы ее посмотрите, а я тем временем пойду к смотрителю и прикажу самоварчик поставить. Федя зашаркал туфлями и вышел. Я пошел за ширму. Зиночка сидела на широком диване, окруженная множеством подушек, и поддерживала свой кружевной воротничок. — Покажите язык! — начал я, садясь около нее и хмуря брови. Она показала язык и засмеялась. Язык был обыкновенный, красный. Я стал щупать пульс. — Гм!.. — промычал я, не найдя пульса. Не помню, какие еще вопросы задавал я, глядя на ее смеющееся личико, помню только, что под конец моей диагностики я был уже таким дураком и идиотом, что мне было решительно не до вопросов. Наконец, я сидел в компании Феди и Зиночки за самоваром; надо было написать рецепт, и я сочинил его по всем правилам врачебной науки: Rp. Sic transit 0,05 Gloria mundi 1,0[51] Aquae destillatae 0,1 Через два часа по столовой ложке. Г-же Съеловой. Д-р Зайцев. Утром, когда я, совсем уже готовый к отъезду, с чемоданом в руке, прощался навеки с моими новыми знакомыми, Федя держал меня за пуговицу и, подавая десятирублевку, убеждал: — Нет, вы обязаны взять! Я привык платить за всякий честный труд! Вы учились, работали! Ваши знания достались вам потом и кровью! Я понимаю это! Нечего было делать, пришлось взять десятирублевку. Так в общих чертах провел я ночь перед днем суда. Не стану описывать те ощущения, которые я испытывал, когда передо мной отворилась дверь и судебный пристав указал мне на скамью подсудимых. Скажу только, что я побледнел и сконфузился, когда, оглянувшись назад, увидел тысячи смотрящих на меня глаз; и я прочел себе отходную, когда взглянул на серьезные, торжественно-важные физиономии присяжных… Но я не могу описать, а вы представить себе, моего ужаса, когда я, подняв глаза на стол, покрытый красным сукном, увидел на прокурорском месте — кого бы вы думали? — Федю! Он сидел и что-то писал. Глядя на него, я вспомнил клопов, Зиночку, свою диагностику, и не мороз, а целый Ледовитый океан пробежал по моей спине… Покончив с писанием, он поднял на меня глаза. Сначала он меня не узнал, но потом зрачки его расширились, нижняя челюсть слабо отвисла… рука задрожала. Он медленно поднялся и вперил в меня свой оловянный взгляд. Я тоже поднялся, сам не знаю для чего, и впился в него глазами… — Подсудимый, назовите суду ваше имя и проч., — начал председатель. Прокурор сел и выпил стакан воды. Холодный пот выступил у него на лбу. — Ну, быть бане! — подумал я. По всем признакам, прокурор решил упечь меня. Все время он раздражался, копался в свидетельских показаниях, капризничал, брюзжал… Но, однако, пора кончить. Пишу это в здании суда во время обеденного перерыва… Сейчас будет речь прокурора. Что-то будет? Новейший письмовник Что такое письмо? Письмо есть один из способов обмена мыслей и чувств; но так как очень часто письма пишутся людьми бессмысленными и бесчувственными, то это определение не совсем точно. Придется остановиться на определении, данном одним образованным почтовым чиновником: «Письмо есть такое имя существительное, без которого почтовые чиновники сидели бы за штатом, а почтовые марки не были бы продаваемы». Письма бывают открытые и закрытые. Последние должны быть распечатываемы со всею осторожностью и по прочтении вновь тщательно запечатываемы, дабы адресат не мог впасть в сомнение. Чужие письма читать вообще не рекомендуется, хотя, впрочем, польза ближнего и предполагает это прочтение. Родители, жены и старшие, пекущиеся о нашей нравственности, образе мыслей и чистоте убеждений, должны читать чужие письма. Письма надлежит писать отчетливо и с разумением. Вежливость, почтительность и скромность в выражениях служат украшением всякого письма, в письмах же к старшим надлежит помимо того руководствоваться табелью о рангах, предпосылая имени адресата его полный титул, например: «Ваше превосходительство, отец и благодетель, Иван Иванович! Просвещенное внимание Ваше и проч. …» Литераторы, артисты и художники чинов и титулов не имеют, а посему письма к этим лицам начинаются с простого: М. г.! Образцы писем: К начальнику. Ваше превосходительство, милостивый отец и благодетель! Осмеливаюсь почтительнейше донести Вашеству, что помощник бухгалтера Пересекин, будучи вчера на крестинах у Чертоболотова, неоднократно высказывал мысль о необходимости перекраски полов в правлении, покупки нового сукна на столы и проч. Хотя в сей мысли и нет ничего вредоносного, но нельзя не подметить в ней некоторого недовольства существующим порядком. Жаль, что среди нас есть еще люди, которые по легкомыслию не могут оценить благ, получаемых от Вашества! Чего они хотят и что им нужно?! Недоумеваю и скорблю… Вашество! Благодеяния, в коих вы неутомимы, не имеют числа, но довершите, Вашество, благостыню Вашу и исторгните из среды нашей людей, кои и сами гибнут и других влекут к гибели. Примите, Вашество, и проч. … Ваш молитвенник Семен Гнуснов. P. S. Осмелюсь напомнить Вашеству о месте помощника бухгалтера, которое Вы изволили обещать племяннику моему Капитону. Человек хотя необразованный, но почтительный и трезвый. К подчиненному. Третьего дня, подавая мне и жене моей калоши, ты стоял на сквозном ветру и, как говорят, простудился, от каковой причины и не являешься на службу. За такое небрежение к своему здоровью объявляю тебе строгий выговор… Любовное письмо. Милостивая государыня, Марья Еремеевна! Имея крайнюю нужду в деньгах, имею честь предложить Вам руку и сердце. На случай какого-либо сомнения прилагаю при сем полицейское свидетельство о поведении. Любящий М. Тпрунов. Дружеское. Любезный Вася! Не можешь ли ты, голубчик, дать мне взаймы до завтра пять рублей? Твой Ипохондриков. (Отвечать следует так: «Не могу».) Деловое. Ваше сиятельство, княгиня Миликтриса Кирбитьевна! Почтительнейше осмеливаюсь напомнить Вашему сиятельству о карточном должке в размере 1 р. 12 к., кои я имел честь выиграть у Вашего сиятельства третьего года у Белоедова и до сих пор не имел еще чести получить. В ожидании и проч. … Зеленопупов. Вредное и пагубное. Вашество! Вчера я случайно узнал, что наградами, которые я получил к Новому году, я обязан не моим личным заслугам, а моей жене. Служба моя у вас, конечно, уже невозможна, и я прошу о переводе. Примите уверение в моем к вам презрении и проч. Такой-то. Ругательное. М. г.! Вы рецензент! Письмо к литератору. М. г.! Хотя я и не знаком с вами, но не могу, из любви к ближнему и искренно сожалея вас (по всей видимости, вы человек способный), не обратиться к вам с добрым советом: бросьте ваше вредное занятие! Один из ваших доброжелателей. (Подписи следует избегать, в видах возможности компрометации.) У постели больного У постели больного стоят доктора Попов и Миллер и спорят: П о п о в. Я, признаться, плохой приверженец консервативного метода. М и л л е р. Я, коллега, ничего не говорю вам о консерватизме… Дело ваше верить или не верить, признавать и не признавать… Я говорю о режиме, который следовало бы изменить in concreto…[52] Б о л ь н о й. Ох! (Встает через силу с постели, идет к двери и робко заглядывает в соседнюю комнату.) Нынче ведь и стены слышат. П о п о в. Он жалуется, что у него в груди теснит… жмет… душит… Не обойтись без сильного возбуждающего… Больной стонет и робко заглядывает в окно. М и л л е р. Но прежде, чем давать возбуждающее, я просил бы вас обратить внимание на его конституцию… Б о л ь н о й (побледнев). Ах, господа, не говорите так громко! Я человек семейный… служащий… Под окнами люди ходят… у меня прислуга… Ах! (Безнадежно машет рукой.) Картинки из недавнего прошлого В правлении общественного банка, в кабинете директора за приличной закуской сидят сам директор Рыков и господин с седыми бакенами, Анной на шее и с сильным запахом флер-д’оранжа. На бритой физиономии последнего плавает снисходительная улыбка, в движениях мягкость… — Да, — говорит господин, сбрасывая пепел с сигары. — Такие-то дела! Тут роды у жены, потом поездка в Ниццу, там свадьба сестры… по горло! Насилу к вам собрался. Собирался, собирался и наконец таки я у вас, душа моя… Ну? Как живут мои векселя? Чай, скучают? Хе-хе… Срок им был в августе, а теперь уже декабрь. Как вам нравится подобная аккуратность? Хе-хе… Кому-кому, а уж служащему по финансам следовало бы быть аккуратнее… Pardon, извиняюсь! — Что вы… помилуйте-с! Мы и забыли-с!… Хе-хе… — Там по векселям моим приходится, кажется, тысяч триста да процентов… если не вру, тысяч двадцать с хвостом. Так? Векселя, конечно, мы перепишем, душа моя Иван Гаврилыч, а вот как быть с процентами — ей-богу, не знаю… Сейчас уплатить их вам я не могу, так их оставить тоже неудобно. Вы, голубчик, бухгалтерию знаете лучше меня и знаете все эти тонкости… Как быть? — Очень просто-с! Векселя мы заменим новыми, а проценты, ваше —ство, припишем к капитальному долгу… — Вы велики, моншер! Ну-с, теперь вторая просьба… Жена моя купила себе маленькую дачу… этакую ферму, знаете ли… с рассрочкой на три года. Завтра, душа моя, представьте, срок платежа. До зарезу нужно сорок четыре тысячи! Я знаю, вы мне не откажете, дорогой мой, но вот одно только неудобство… здесь в Скопине, кроме вас, никого нет у меня знакомого! Кто надпишет мне бланк? — Это не суть важно, ваше —ство… Мы вам найдем бланконадписателя. Иван, поди сюда! Входит сторож Иван. — Подай чаю, — говорит ему Рыков, — да вот надпиши его —ству бланок![53] Бланк надписывается, и довольный господин презентует Ивана двугривенным. Заседание скопинской думы. Рассматриваются годовые отчеты банка. Рыков сидит рядом с головою.[54] — Нам, господа, нужно выбрать кассира банка, — говорит голова. — Рекомендую Кичкина. Человек честный и порядочный… — Отсутствующие не могут быть избираемы, — говорит Рыков, подозревающий в Кичкине человека «вредного». — А где же Кичкин, братцы? — шепчутся друг с другом гласные, переглядываясь. — Нешто его нет? — Нету… Он так устроил, что Кичкину понадобилось из города уехать, рельсы смотреть, и повестку ему вручили в тот самый раз, когда он на поезд садился…[55] — Хитер, шельма! Афонасова споил[56], Ивана подкупил[57], Егора в кабалу взял… Отчеты эти самые, положим, рассматривать… Да для че их глядеть? Один смех только! Жульничество! — А вы, господин, потише-с! — шипит чуйка с красным носом и в новых сапогах гармонийкой, по всем признакам клеврет Рыкова. — Сами должны, а такие слова говорите! — Не я один должен, все должны ему! — Все и молчите. — Отчеты, господа, я полагаю утвердить без прений, — говорит голова. — В банке всё обстоит благополучно, а ежели газеты и пишут, то сами знаете, газеты на то и созданы духом нечистым, чтоб лжу бесовскую в людей вселять…[58] Нахожу всё верным и обстоятельным.. Никто ничего не желает возразить? Семен, Петр и Иона хотели бы возразить, но каждый из них должен по 30 000. — В таком разе предлагаю, — продолжает голова, — выразить нашу благодарность И. Г. Рыкову за отличное ведение банковых дел! — Благодарим! Благодарим! Рыков кивает головой и уезжает восвояси. Почтовая контора. Почтмейстер Перов, получающий ежемесячно от Рыкова 57 руб.[59], беседует с «просителем» (в Скопине почтмейстер — начальство). — Что вам угодно? — Два месяца тому назад я послал письмо в редакцию «Нового времени», и письмо это оказывается не полученным. Могу ли я узнать о судьбе этого письма? Потом — я не получил 41 № «Вестника»[60], где помещены корреспонденции из Скопина. Клуб тоже не получил этого нумера. — Прошу не облокачиваться! — Третьего дня мой знакомый не получил «Новостей»[61], где тоже есть корреспонденция из Скопина. Потом-с — не можете ли вы объяснить, где то мое письмо, которое я послал в июле в Москву, в редакцию «Курьера»?[62] Оно, представьте, тоже не получено! — Теперь уже 3 часа, и прием всякого рода корреспонденций прекращен! Приходите завтра! Устрицы Мне не нужно слишком напрягать память, чтобы во всех подробностях вспомнить дождливые осенние сумерки, когда я стою с отцом на одной из многолюдных московских улиц и чувствую, как мною постепенно овладевает странная болезнь. Боли нет никакой, но ноги мои подгибаются, слова останавливаются поперек горла, голова бессильно склоняется набок… По-видимому, я сейчас должен упасть и потерять сознание. Попади я в эти минуты в больницу, доктора должны были бы написать на моей доске: Fames[63] — болезнь, которой нет в медицинских учебниках. Возле меня на тротуаре стоит мой родной отец в поношенном летнем пальто и триковой шапочке, из которой торчит белеющий кусочек ваты. На его ногах большие, тяжелые калоши. Суетный человек, боясь, чтобы люди не увидели, что он носит калоши на босую ногу, натянул на голени старые голенища. Этот бедный, глуповатый чудак, которого я люблю тем сильнее, чем оборваннее и грязнее делается его летнее франтоватое пальто, пять месяцев тому назад прибыл в столицу искать должности по письменной части. Все пять месяцев он шатался по городу, просил дела и только сегодня решился выйти на улицу просить милостыню… Против нас большой трехэтажный дом с синей вывеской: «Трактир». Голова моя слабо откинута назад и набок, и я поневоле гляжу вверх, на освещенные окна трактира. В окнах мелькают человеческие фигуры. Виден правый бок оркестриона, две олеографии, висячие лампы… Вглядываясь в одно из окон, я усматриваю белеющее пятно. Пятно это неподвижно и своими прямолинейными контурами резко выделяется из общего темно-коричневого фона. Я напрягаю зрение и в пятне узнаю белую стенную вывеску. На ней что-то написано, но что именно — не видно… Полчаса я не отрываю глаз от вывески. Своею белизною она притягивает мои глаза и словно гипнотизирует мой мозг. Я стараюсь прочесть, но старания мои тщетны. Наконец странная болезнь вступает в свои права. Шум экипажей начинает казаться мне громом, в уличной вони различаю я тысячи запахов, глаза мои в трактирных лампах и уличных фонарях видят ослепительные молнии. Мои пять чувств напряжены и хватают через норму. Я начинаю видеть то, чего не видел ранее. — Устрицы… — разбираю я на вывеске. Странное слово! Прожил я на земле ровно восемь лет и три месяца, но ни разу не слыхал этого слова. Что оно значит? Не есть ли это фамилия хозяина трактира? Но ведь вывески с фамилиями вешаются на дверях, а не на стенах! — Папа, что значит устрицы? — спрашиваю я хриплым голосом, силясь повернуть лицо в сторону отца. Отец мой не слышит. Он всматривается в движения толпы и провожает глазами каждого прохожего… По его глазам я вижу, что он хочет сказать что-то прохожим, но роковое слово тяжелой гирей висит на его дрожащих губах и никак не может сорваться. За одним прохожим он даже шагнул и тронул его за рукав, но когда тот обернулся, он сказал «виноват», сконфузился и попятился назад. — Папа, что значит устрицы? — повторяю я. — Это такое животное… Живет в море… Я мигом представляю себе это неведомое морское животное. Оно должно быть чем-то средним между рыбой и раком. Так как оно морское, то из него приготовляют, конечно, очень вкусную горячую уху с душистым перцем и лавровым листом, кисловатую селянку с хрящиками, раковый соус, холодное с хреном… Я живо воображаю себе, как приносят с рынка это животное, быстро чистят его, быстро суют в горшок… быстро, быстро, потому что всем есть хочется… ужасно хочется! Из кухни несется запах рыбного жаркого и ракового супа. Я чувствую, как этот запах щекочет мое нёбо, ноздри, как он постепенно овладевает всем моим телом… Трактир, отец, белая вывеска, мои рукава — всё пахнет этим запахом, пахнет до того сильно, что я начинаю жевать. Я жую и делаю глотки, словно и в самом деле в моем рту лежит кусок морского животного… Ноги мои гнутся от наслаждения, которое я чувствую, и я, чтобы не упасть, хватаю отца за рукав и припадаю к его мокрому летнему пальто. Отец дрожит и жмется. Ему холодно… — Папа, устрицы постные или скоромные? — спрашиваю я. — Их едят живыми… — говорит отец. — Они в раковинах, как черепахи, но… из двух половинок. Вкусный запах мгновенно перестает щекотать мое тело, и иллюзия пропадает… Теперь я всё понимаю! — Какая гадость, — шепчу я, — какая гадость! Так вот что значит устрицы! Я воображаю себе животное, похожее на лягушку. Лягушка сидит в раковине, глядит оттуда большими блестящими глазами и играет своими отвратительными челюстями. Я представляю себе, как приносят с рынка это животное в раковине, с клешнями, блестящими глазами и со склизкой кожей… Дети все прячутся, а кухарка, брезгливо морщась, берет животное за клешню, кладет его на тарелку и несет в столовую. Взрослые берут его и едят… едят живьем, с глазами, с зубами, с лапками! А оно пищит и старается укусить за губу… Я морщусь, но… но зачем же зубы мои начинают жевать? Животное мерзко, отвратительно, страшно, но я ем его, ем с жадностью, боясь разгадать его вкус и запах. Одно животное съедено, а я уже вижу блестящие глаза другого, третьего… Я ем и этих… Наконец ем салфетку, тарелку, калоши отца, белую вывеску… Ем всё, что только попадется мне на глаза, потому что я чувствую, что только от еды пройдет моя болезнь. Устрицы страшно глядят глазами и отвратительны, я дрожу от мысли о них, но я хочу есть! Есть! — Дайте устриц! Дайте мне устриц! — вырывается из моей груди крик, и я протягиваю вперед руки. — Помогите, господа! — слышу я в это время глухой, придушенный голос отца. — Совестно просить, но — боже мой! — сил не хватает! — Дайте устриц! — кричу я, теребя отца за фалды. — А ты разве ешь устриц? Такой маленький! — слышу я возле себя смех. Перед нами стоят два господина в цилиндрах и со смехом глядят мне в лицо. — Ты, мальчуган, ешь устриц? В самом деле? Это интересно! Как же ты их ешь? Помню, чья-то сильная рука тащит меня к освещенному трактиру. Через минуту собирается вокруг толпа и глядит на меня с любопытством и смехом. Я сижу за столом и ем что-то склизкое, соленое, отдающее сыростью и плесенью. Я ем с жадностью, не жуя, не глядя и не осведомляясь, что я ем. Мне кажется, что если я открою глаза, то непременно увижу блестящие глаза, клешни и острые зубы… Я вдруг начинаю жевать что-то твердое. Слышится хрустенье. — Ха-ха! Он раковины ест! — смеется толпа. — Дурачок, разве это можно есть? Засим я помню страшную жажду. Я лежу на своей постели и не могу уснуть от изжоги и странного вкуса, который я чувствую в своем горячем рту. Отец мой ходит из угла в угол и жестикулирует руками. — Я, кажется, простудился, — бормочет он. — Что-то такое чувствую в голове… Словно сидит в ней кто-то… А может быть, это оттого, что я не… тово… не ел сегодня… Я, право, странный какой-то, глупый… Вижу, что эти господа платят за устриц десять рублей, отчего бы мне не подойти и не попросить у них несколько… взаймы? Наверное бы дали. К утру я засыпаю, и мне снится лягушка с клешнями, сидящая в раковине и играющая глазами. В полдень просыпаюсь от жажды и ищу глазами отца: он всё еще ходит и жестикулирует… Либеральный душка Каждый год на святках чернопупские губернские дамы и чиновники губернского правления дают с благотворительною целью любительский спектакль. Прошлогодний спектакль вышел неудачен, так как распорядительская часть была в руках старшего советника Чушкина, «бурбона», урезавшего наполовину пьесу и не дававшего воли рассказчикам. В этом же году любительский персонал запротестовал. Выбор пьесы дамы взяли на себя, внешняя же часть и выбор рассказчиков, певцов и распорядителей танцев были поручены чиновнику особых поручений Каскадову, человеку молодому, университетскому и либеральному. — Кого же выбрать, господа? — рассуждал в одно декабрьское утро Каскадов, стоя посреди присутствия и подбоченясь. — Распорядителями танцев будут жандармский поручик Подлигайлов, ну… и я, конечно. Из мужчин петь… я, ну и, пожалуй, жандармский поручик Подлигайлов… У него баритон прелестный, но, между нами говоря, грубый… Кто же будет в антрактах рассказывать? — Тлетворского назначьте… — сказал столоначальник Кисляев, чистя спичкой ногти. — В прошлом годе он, шельма, превосходно рассказывал… Одна рожа чего стоит! Пьет, каналья, но… ведь все таланты пьют! И Рафаэль, говорят, пил! — Тлетворский? Ах да, помню… Рассказывает недурно, но манера… манера! Никифор, позови сюда Тлетворского! Вошел высокий, сутуловатый брюнет с всклоченной гривой, большими красными руками и в рыжих панталонах. — Садитесь, Тлетворский! — обратился к нему Каскадов, сморкаясь в раздушенный платок. — У нас, видите ли, опять затевается спектакль… Да вы садитесь! Бросьте вы это, никому не нужное, китайское чинопочитание. Будем людьми! Нуте-с… В антрактах и после спектакля, по примеру прошлого года, предполагается чтение… Нуте-с…, а рассказчиков и чтецов у нас в Чернопупске совсем нет… Я, пожалуй, мог бы прочесть что-нибудь, ну… и жандармский поручик Подлигайлов читает недурно, но нам решительно некогда! Приходится опять к вам обратиться… Не возьметесь ли, голубчик? — Пожалуй, — потупился Тлетворский. — Но ежели, Иван Матвеич, будут стеснять, как и в прошлом году, то выйдет один только смех! — Ни, ни… Свобода полная! Полнейшая, батенька! Читайте что хотите и как хотите! Потому-то я и взял на себя распорядительство, чтобы дать вам свободу! Иначе бы я не согласился… Не стесняйтесь ни выбором, ничем, одним словом! Вы прочтете что-нибудь… расскажете анекдот… стишки, вообще… — Это можно… Из еврейского быта можно будет что-нибудь… — Из еврейского? Превосходно! Прекрасно, душа моя! Впрочем… удобно ли это будет? Дело в том, батенька, что на вечере будет Медхер с дочерями… Выкрест, но все-таки неловко… Обидится… Вы что-нибудь другое… — Ты хорошо про немцев рассказываешь, — пробормотал Кисляев. — Пожалуй… — согласился Каскадов. — Возьмите немецкий быт… Только, тово… и это едва ли будет удобно… Ее превосходительство немка, урожденная баронесса фон Риткарт… Нельзя, милейший! Стеснять себя, конечно, не следует, но все-таки не мешает быть осторожным. Время такое, между нами говоря, всякий любит всё на свой счет принимать… В прошлом году, например, вы рассказали, между прочим, анекдот из армянского быта, где, помните, жители Нахичевани говорят: «Дайте нам ваш кишка, а когда, бог даст, у вас будет пожар, то мы вам два кишка дадим». Что тут обидного? А ведь обиделись! — Страшно обиделись! — подтвердил Кисляев. — «Знаем, говорят, про какой это он Нахичевань рассказывает!» А барышни при слове «кишка» краснели. Разберите вы тут, что прилично и что неприлично! Осторожность и осторожность! Например, хоть русский народный быт взять… горбуновское что-нибудь…[64] Великолепная вещь! Восторг! Но нельзя: его превосходительство находит, что это «издевательство над народом»! Он отчасти прав, но… ужасное время, между нами говоря! Чёрт знает какое время! — Можно будет, знаете ли, прочесть что-нибудь некрасовское… «И на лбу роковые слова:[65] продается с публичного торга!» Отлично! — Ни, ни… ни! — растопырил руки Каскадов. — Вечер будет семейный… дамы, девицы, а вы — роковые слова! Что вы, батенька! И не думайте! И без крайностей можно обойтись! Вы что-нибудь этакое не тенденциозное, нейтральное… этакое что-нибудь легонькое… — Что же легонькое? Нешто толстовскую «Грешницу?» — Тяжеловато, батенька! — поморщился Каскадов. — «Грешница», последний монолог из «Горе от ума»… всё это шаблонно, заезжено и… полемично отчасти… Выберите что-нибудь другое… И, пожалуйста, не стесняйтесь! Выбирайте что хотите… что хотите! Тлетворский поднял вверх глаза и задумался. Кисляев поглядел на него, вздохнул и презрительно покачал головой. — Стало быть, ты безнравственный человек, — проворчал он, — ежели не можешь придумать что-нибудь нравственное!.. — Тут дело не в нравственности, Захар Ильич! — заступился Каскадов. — Тлетворский односторонен — это правда! Тлетворский покраснел и почесал себе глаз. — Зачем же вы меня зовете, ежели я безнравственный и односторонний? — проговорил он, поднимаясь и направляясь к двери. — Я не напрашиваюсь. По уходе Тлетворского Каскадов зашагал. — Не понимаю я таких людей, Захар Ильич! — заговорил он, ероша свою прическу. — Клянусь богом, не понимаю! Я сам не рутинер, не отсталый… либерал даже и страдаю за свой образ мыслей, но не понимаю я таких крайностей, как этот господин! Я, ну и… жандармский поручик Подлигайлов слывем за вольнодумцев… общество косится на нас… Его превосходительство подозревает меня в сочувствии идеям… И я не отказываюсь от своих убеждений! Я либерал! Но… такие люди, как этот Тлетворский… не понимаю! Тут уж крайность, а крайних людей я, грешный человек, не выношу! Сам а не консерватор, но не выношу! Осуждайте меня, называйте рутинером… чем хотите, но не могу я протянуть руки господам a la Тлетворский! Каскадов в изнеможении опустился в кресло в задумался… — Прогнать, вот и всё! — пробормотал Кисляев, прикладывая от нечего делать к манжетке печать. — Про-гнать… вот и… всё!.. вот… и всё! Страшная ночь Иван Петрович Панихидин побледнел, притушил лампу и начал взволнованным голосом: — Темная, беспросветная мгла висела над землей, когда я, в ночь под Рождество 1883 года, возвращался к себе домой от ныне умершего друга, у которого все мы тогда засиделись на спиритическом сеансе. Переулки, по которым я проходил, почему-то не были освещены, и мне приходилось пробираться почти ощупью. Жил я в Москве, у Успения-на-Могильцах, в доме чиновника Трупова, стало быть, в одной из самых глухих местностей Арбата. Мысли мои, когда я шел, были тяжелы, гнетущи… «Жизнь твоя близится к закату… Кайся…»[66] Такова была фраза, сказанная мне на сеансе Спинозой, дух которого нам удалось вызвать. Я просил повторить, и блюдечко не только повторило, но еще и прибавило: «Сегодня ночью». Я не верю в спиритизм, но мысль о смерти, даже намек на нее повергают меня в уныние. Смерть, господа, неизбежна, она обыденна, но, тем не менее, мысль о ней противна природе человека… Теперь же, когда меня окутывал непроницаемый холодный мрак и перед глазами неистово кружились дождевые капли, а над головою жалобно стонал ветер, когда я вокруг себя не видел ни одной живой души, не слышал человеческого звука, душу мою наполнял неопределенный и неизъяснимый страх. Я, человек свободный от предрассудков, торопился, боясь оглянуться, поглядеть в стороны. Мне казалось, что если я оглянусь, то непременно увижу смерть в виде привидения. Панихидин порывисто вздохнул, выпил воды и продолжал: — Этот неопределенный, но понятный вам страх не оставил меня и тогда, когда я, взобравшись на четвертый этаж дома Трупова, отпер дверь и вошел в свою комнату. В моем скромном жилище было темно. В печи плакал ветер и, словно просясь в тепло, постукивал в дверцу отдушника. «Если верить Спинозе, — улыбнулся я, — то под этот плач сегодня ночью мне придется умереть. Жутко, однако!» Я зажег спичку… Неистовый порыв ветра пробежал по кровле дома. Тихий плач обратился в злобный рев. Где-то внизу застучала наполовину сорвавшаяся ставня, а дверца моего отдушника жалобно провизжала о помощи… «Плохо в такую ночь бесприютным», — подумал я. Но не время было предаваться подобным размышлениям. Когда на моей спичке синим огоньком разгоралась сера и я окинул глазами свою комнату, мне представилось зрелище неожиданное и ужасное… Как жаль, что порыв ветра не достиг моей спички! Тогда, быть может, я ничего не увидел бы и волосы мои не стали бы дыбом. Я вскрикнул, сделал шаг к двери и, полный ужаса, отчаяния, изумления, закрыл глаза… Посреди комнаты стоял гроб. Синий огонек горел недолго, но я успел различить контуры гроба… Я видел розовый, мерцающий искорками, глазет, видел золотой, галунный крест на крышке. Есть вещи, господа, которые запечатлеваются в вашей памяти, несмотря даже на то, что вы видели их одно только мгновение. Так и этот гроб. Я видел его одну только секунду, но помню во всех малейших чертах. Это был гроб для человека среднего роста и, судя по розовому цвету, для молодой девушки. Дорогой глазет, ножки, бронзовые ручки — всё говорило за то, что покойник был богат. Опрометью выбежал я из своей комнаты и, не рассуждая, не мысля, а только чувствуя невыразимый страх, понесся вниз по лестнице. В коридоре и на лестнице было темно, ноги мои путались в полах шубы, и как я не слетел и не сломал себе шеи — это удивительно. Очутившись на улице, я прислонился к мокрому фонарному столбу и начал себя успокаивать. Сердце мое страшно билось, дыхание сперло… Одна из слушательниц припустила огня в лампе, придвинулась ближе к рассказчику, и последний продолжал: — Я не удивился бы, если бы застал в своей комнате пожар, вора, бешеную собаку… Я не удивился бы, если бы обвалился потолок, провалился пол, попадали стены… Всё это естественно и понятно. Но как мог попасть в мою комнату гроб? Откуда он взялся? Дорогой, женский, сделанный, очевидно, для молодой аристократки, — как мог он попасть в убогую комнату мелкого чиновника? Пуст он или внутри его — труп? Кто же она, эта безвременно покончившая с жизнью богачка, нанесшая мне такой странный и страшный визит? Мучительная тайна! «Если здесь не чудо, то преступление», — блеснуло в моей голове. Я терялся в догадках. Дверь во время моего отсутствия была заперта и место, где находился ключ, было известно только моим очень близким друзьям. Не друзья же поставили мне гроб. Можно было также предположить, что гроб был принесен ко мне гробовщиками по ошибке. Они могли обознаться, ошибиться этажом или дверью и внести гроб не туда, куда следует. Но кому не известно, что наши гробовщики не выйдут из комнаты, прежде чем не получат за работу или, по крайней мере, на чай? «Духи предсказали мне смерть, — думал я. — Не они ли уже постарались кстати снабдить меня и гробом?» Я, господа, не верю и не верил в спиритизм, но такое совпадение может повергнуть в мистическое настроение даже философа. «Но всё это глупо, и я труслив, как школьник, — решил я. — То был оптический обман — и больше ничего! Идя домой, я был так мрачно настроен, что не мудрено, если мои больные нервы увидели гроб… Конечно, оптический обман! Что же другое?» Дождь хлестал меня по лицу, а ветер сердито трепал мои полы, шапку… Я озяб и страшно промок. Нужно было идти, но… куда? Воротиться к себе — значило бы подвергнуть себя риску увидеть гроб еще раз, а это зрелище было выше моих сил. Я, не видевший вокруг себя ни одной живой души, не слышавший ни одного человеческого звука, оставшись один, наедине с гробом, в котором, быть может, лежало мертвое тело, мог бы лишиться рассудка. Оставаться же на улице под проливным дождем и в холоде было невозможно. Я порешил отправиться ночевать к другу моему Упокоеву, впоследствии, как вам известно, застрелившемуся. Жил он в меблированных комнатах купца Черепова, что в Мертвом переулке. Панихидин вытер холодный пот, выступивший на его бледном лице, и, тяжело вздохнув, продолжал: — Дома я своего друга не застал. Постучавшись к нему в дверь и убедившись, что его нет дома, я нащупал на перекладине ключ, отпер дверь и вошел. Я сбросил с себя на пол мокрую шубу и, нащупав в темноте диван, сел отдохнуть. Было темно… В оконной вентиляции тоскливо жужжал ветер. В печи монотонно насвистывал свою однообразную песню сверчок. В Кремле ударили к рождественской заутрене. Я поспешил зажечь спичку. Но свет не избавил меня от мрачного настроения, а напротив. Страшный, невыразимый ужас овладел мною вновь… Я вскрикнул, пошатнулся и, не чувствуя себя, выбежал из номера… В комнате товарища я увидел то же, что и у себя, — гроб! Гроб товарища был почти вдвое больше моего, и коричневая обивка придавала ему какой-то особенно мрачный колорит. Как он попал сюда? Что это был оптический обман — сомневаться уже было невозможно… Не мог же в каждой комнате быть гроб! Очевидно, то была болезнь моих нервов, была галлюцинация. Куда бы я ни пошел теперь, я всюду увидел бы перед собой страшное жилище смерти. Стало быть, я сходил с ума, заболевал чем-то вроде «гробомании», и причину умопомешательства искать было недолго: стоило только вспомнить спиритический сеанс и слова Спинозы… «Я схожу с ума? — подумал я в ужасе, хватая себя за голову. — Боже мой! Что же делать?!» Голова моя трещала, ноги подкашивались… Дождь лил, как из ведра, ветер пронизывал насквозь, а на мне не было ни шубы, ни шапки. Ворочаться за ними в номер было невозможно, выше сил моих… Страх крепко сжимал меня в своих холодных объятиях. Волосы мои встали дыбом, с лица струился холодный пот, хотя я и верил, что то была галлюцинация. — Что было делать? — продолжал Панихидин. — Я сходил с ума и рисковал страшно простудиться. К счастью, я вспомнил, что недалеко от Мертвого переулка живет мой хороший приятель, недавно только кончивший врач, Погостов, бывший со мной в ту ночь на спиритическом сеансе. Я поспешил к нему… Тогда он еще не был женат на богатой купчихе и жил на пятом этаже дома статского советника Кладбищенского. У Погостова моим нервам суждено было претерпеть еще новую пытку. Взбираясь на пятый этаж, я услышал страшный шум. Наверху кто-то бежал, сильно стуча ногами и хлопая дверьми. — Ко мне! — услышал я раздирающий душу крик. — Ко мне! Дворник! И через мгновение навстречу мне сверху вниз по лестнице неслась темная фигура в шубе и помятом цилиндре… — Погостов! — воскликнул я, узнав друга моего Погостова. — Это вы? Что с вами? Поравнявшись со мной, Погостов остановился и судорожно схватил меня за руку. Он был бледен, тяжело дышал, дрожал. Глаза его беспорядочно блуждали, грудь вздымалась… — Это вы, Панихидин? — спросил он глухим голосом. — Но вы ли это? Вы бледны, словно выходец из могилы… Да полно, не галлюцинация ли вы?.. Боже мой… вы страшны… — Но что с вами? На вас лица нет! — Ох, дайте, голубчик, перевести дух… Я рад, что вас увидел, если это действительно вы, а не оптический обман. Проклятый спиритический сеанс… Он так расстроил мои нервы, что я, представьте, воротившись сейчас домой, увидел у себя в комнате… гроб! Я не верил своим ушам и попросил повторить. — Гроб, настоящий гроб! — сказал доктор, садясь в изнеможении на ступень. — Я не трус, но ведь и сам чёрт испугается, если после спиритического сеанса натолкнется в потемках на гроб! Путаясь и заикаясь, я рассказал доктору про гробы, виденные мною… Минуту глядели мы друг на друга, выпуча глаза и удивленно раскрыв рты. Потом же, чтобы убедиться, что мы не галлюцинируем, мы принялись щипать друг друга. — Нам обоим больно, — сказал доктор, — стало быть, сейчас мы не спим и видим друг друга не во сне. Стало быть, гробы, мой и оба ваши, — не оптический обман, а нечто существующее. Что же теперь, батенька, делать? Простояв битый час на холодной лестнице и теряясь в догадках и предположениях, мы страшно озябли и порешили отбросить малодушный страх и, разбудив коридорного, пойти с ним в комнату доктора. Так мы и сделали. Войдя в номер, зажгли свечу, и в самом деле увидели гроб, обитый белым глазетом, с золотой бахромой и кистями. Коридорный набожно перекрестился. — Теперь можно узнать, — сказал бледный доктор, дрожа всем телом, — пуст этот гроб или же… он обитаем? После долгой, понятной нерешимости доктор нагнулся и, стиснув от страха и ожидания зубы, сорвал с гроба крышку. Мы взглянули в гроб и… Гроб был пуст… Покойника в нем не было, но зато мы нашли в нем письмо такого содержания: «Милый Погостов! Ты знаешь, что дела моего тестя пришли в страшный упадок. Он залез в долги по горло. Завтра или послезавтра явятся описывать его имущество, и это окончательно погубит его семью и мою, погубит нашу честь, что для меня дороже всего. На вчерашнем семейном совете мы решили припрятать всё ценное и дорогое. Так как всё имущество моего тестя заключается в гробах (он, как тебе известно, гробовых дел мастер, лучший в городе), то мы порешили припрятать самые лучшие гробы. Я обращаюсь к тебе, как к другу, помоги мне, спаси наше состояние и нашу честь! В надежде, что ты поможешь нам сохранить наше имущество, посылаю тебе, голубчик, один гроб, который прошу спрятать у себя и хранить впредь до востребования. Без помощи знакомых и друзей мы погибнем. Надеюсь, что ты не откажешь мне, тем более, что гроб простоит у тебя не более недели. Всем, кого я считаю за наших истинных друзей, я послал по гробу и надеюсь на их великодушие и благородство. Любящий тебя Иван Челюстин». После этого я месяца три лечился от расстройства нервов, друг же наш, зять гробовщика, спас и честь свою, и имущество, и уже содержит бюро погребальных процессий и торгует памятниками и надгробными плитами. Дела его идут неважно, и каждый вечер теперь, входя к себе, я всё боюсь, что увижу около своей кровати белый мраморный памятник или катафалк. Елка Высокая, вечно зеленая елка судьбы увешана благами жизни… От низу до верху висят карьеры, счастливые случаи, подходящие партии, выигрыши, кукиши с маслом, щелчки по носу и проч. Вокруг елки толпятся взрослые дети. Судьба раздает им подарки… — Дети, кто из вас желает богатую купчиху? — спрашивает она, снимая с ветки краснощекую купчиху, от головы до пяток усыпанную жемчугом и бриллиантами… — Два дома на Плющихе, три железные лавки, одна портерная и двести тысяч деньгами! Кто хочет? — Мне! Мне! — протягиваются за купчихой сотни рук. — Мне купчиху! — Не толпитесь, дети, и не волнуйтесь… Все будете удовлетворены… Купчиху пусть возьмет себе молодой эскулап.[67] Человек, посвятивший себя науке и записавшийся в благодетели человечества, не может обойтись без пары лошадей, хорошей мебели и проч. Бери, милый доктор! Не за что… Ну-с, теперь следующий сюрприз! Место на Чухломо-Пошехонской железной дороге! Десять тысяч жалованья, столько же наградных, работы три часа в месяц, квартира в тринадцать комнат и проч. … Кто хочет? Ты, Коля? Бери, милый! Далее… Место экономки у одинокого барона Шмаус! Ах, не рвите так, mesdames! Имейте терпение!.. Следующий! Молодая, хорошенькая девушка, дочь бедных, но благородных родителей! Приданого ни гроша, но зато натура честная, чувствующая, поэтическая! Кто хочет? (Пауза.) Никто? — Я бы взял, да кормить нечем! — слышится из угла голос поэта. — Так никто не хочет? — Пожалуй, давайте я возьму… Так и быть уж… — говорит маленький, подагрический старикашка, служащий в духовной консистории. — Пожалуй… — Носовой платок Зориной! Кто хочет? — Ах!.. Мне! Мне!..[68] Ах! Ногу отдавили! Мне! — Следующий сюрприз! Роскошная библиотека, содержащая в себе все сочинения Канта, Шопенгауэра, Гёте, всех русских и иностранных авторов, массу старинных фолиантов и проч. … Кто хочет? — Я-с! — говорит букинист Свинопасов. — Па-жалте-с! Свинопасов берет библиотеку, отбирает себе «Оракул», «Сонник», «Письмовник», «Настольную книгу для холостяков»…, остальное же бросает на пол… — Следующий! Портрет Окрейца! Слышен громкий смех… — Давайте мне… — говорит содержатель музея Винклер.[69] — Пригодится… — Далее! Роскошная рамка от премии «Нови» (пауза). Никто не хочет? В таком случае далее… Порванные сапоги! Сапоги достаются художнику… В конце концов елка обирается и публика расходится… Около елки остается один только сотрудник юмористических журналов… — Мне же что? — спрашивает он судьбу. — Все получили по подарку, а мне хоть бы что. Это свинство с твоей стороны! — Всё разобрали, ничего не осталось… Остался, впрочем, один кукиш с маслом… Хочешь? — Не нужно… Мне и так уж надоели эти кукиши с маслом… Кассы некоторых московских редакций полнехоньки этого добра. Нет ли чего посущественнее? — Возьми эти рамки… — У меня они уже есть… — Вот уздечка, вожжи… Вот красный крест, если хочешь… Зубная боль… Ежовые рукавицы… Месяц тюрьмы за диффамации… — Всё это у меня уже есть… — Оловянный солдатик, ежели хочешь… Карта Севера… Юморист машет рукой и уходит восвояси с надеждой на елку будущего года… Не в духе Становой пристав Семен Ильич Прачкин ходил по своей комнате из угла в угол и старался заглушить в себе неприятное чувство. Вчера он заезжал по делу к воинскому начальнику, сел нечаянно играть в карты и проиграл восемь рублей. Сумма ничтожная, пустяшная, но бес жадности и корыстолюбия сидел в ухе станового и упрекал его в расточительности. — Восемь рублей — экая важность! — заглушал в себе Прачкин этого беса. — Люди и больше проигрывают, да ничего. И к тому же деньги дело наживное… Съездил раз на фабрику или в трактир Рылова, вот тебе и все восемь, даже еще больше! — «Зима… Крестьянин, торжествуя…» — монотонно зубрил в соседней комнате сын станового, Ваня. — «Крестьянин, торжествуя… обновляет путь…» — Да и отыграться можно… Что это там «торжествуя»? — «Крестьянин, торжествуя, обновляет путь… обновляет…» — «Торжествуя…» — продолжал размышлять Прачкин. — Влепить бы ему десяток горячих, так не очень бы торжествовал. Чем торжествовать, лучше бы подати исправно платил… Восемь рублей — экая важность! Не восемь тысяч, всегда отыграться можно… — «Его лошадка, снег почуя… снег почуя, плетется рысью как-нибудь…» — Еще бы она вскачь понеслась! Рысак какой нашелся, скажи на милость! Кляча — кляча и есть… Нерассудительный мужик рад спьяну лошадь гнать, а потом как угодит в прорубь или в овраг, тогда и возись с ним… Поскачи только мне, так я тебе такого скипидару пропишу, что лет пять не забудешь!.. И зачем это я с маленькой пошел? Пойди я с туза треф, не был бы я без двух… — «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая… бразды пушистые взрывая…» — «Взрывая… Бразды взрывая… бразды…» Скажет же этакую штуку! Позволяют же писать, прости господи! А всё десятка, в сущности, наделала! Принесли же ее черти не вовремя! — «Вот бегает дворовый мальчик… дворовый мальчик, в салазки Жучку посадив… посадив…» — Стало быть, наелся, коли бегает да балуется… А у родителей нет того в уме, чтоб мальчишку за дело усадить. Чем собаку-то возить, лучше бы дрова колол или Священное писание читал… И собак тоже развели… ни пройти, ни проехать! Было бы мне после ужина не садиться… Поужинать бы, да и уехать… — «Ему и больно и смешно, а мать грозит… а мать грозит ему в окно…»[70] — Грози, грози… Лень на двор выйти да наказать… Задрала бы ему шубенку да чик-чик! чик-чик! Это лучше, чем пальцем грозить… А то, гляди, выйдет из него пьяница… Кто это сочинил? — спросил громко Прачкин. — Пушкин, папаша. — Пушкин? Гм!.. Должно быть, чудак какой-нибудь. Пишут-пишут, а что пишут — и сами не понимают. Лишь бы написать! — Папаша, мужик муку привез! — крикнул Ваня. — Принять! Но и мука не развеселила Прачкина. Чем более он утешал себя, тем чувствительнее становилась для него потеря. Так было жалко восьми рублей, так жалко, точно он в самом деле проиграл восемь тысяч. Когда Ваня кончил урок и умолк, Прачкин стал у окна и, тоскуя, вперил свой печальный взор в снежные сугробы… Но вид сугробов только растеребил его сердечную рану. Он напомнил ему о вчерашней поездке к воинскому начальнику. Заиграла желчь, подкатило под душу… Потребность излить на чем-нибудь свое горе достигла степеней, не терпящих отлагательства. Он не вынес… — Ваня! — крикнул он. — Иди, я тебя высеку за то, что ты вчера стекло разбил! Предписание (Из захолустной жизни) Ввиду наступления высокоторжественного праздника Рождества Христова и принимая во внимание, что в праздничные дни в приемной бывает большое стечение поздравителей, вменяю вам, милостивый государь, в обязанность строжайше наблюдать, чтобы поздравители, ожидая в приемной, не толпились, не курили табаку и не производили шума, каковой мог бы помешать надлежащему ходу порядка, а также чтобы они не рассыпали крупы, гороха, муки и прочих съестных припасов ни на лестнице, ни в приемной, а также вменяю вам в обязанность внушать поздравителям, по возможности вежливо и учтиво, чтобы имеющаяся при них живность имела мертвый вид, дабы свиниными, гусиными и прочими животными криками поздравители не нарушали надлежащей тишины и спокойствия. Нарушители же сего будут привлекаемы к строгой ответственности по установленному порядку. Коллежский советник и кавалер М. Пауков. Секретарь Ехидов. С подлинным верно: Человек без селезенки. Сон (Святочный рассказ) Бывают погоды, когда зима, словно озлившись на человеческую немощь, призывает к себе на помощь суровую осень и работает с нею сообща. В беспросветном, туманном воздухе кружатся снег и дождь. Ветер, сырой, холодный, пронизывающий, с неистовой злобой стучит в окна и в кровли. Он воет в трубах и плачет в вентиляциях. В темном, как сажа, воздухе висит тоска… Природу мутит… Сыро, холодно и жутко… Точно такая погода была в ночь под Рождество тысяча восемьсот восемьдесят второго года, когда я еще не был в арестантских ротах, а служил оценщиком в ссудной кассе отставного штабс-капитана Тупаева. Было двенадцать часов. Кладовая, в которой я по воле хозяина имел свое ночное местопребывание и изображал из себя сторожевую собаку, слабо освещалась синим лампадным огоньком. Это была большая квадратная комната, заваленная узлами, сундуками, этажерками… На серых деревянных стенах, из щелей которых глядела растрепанная пакля, висели заячьи шубки, поддевки, ружья, картины, бра, гитара… Я, обязанный по ночам сторожить это добро, лежал на большом красном сундуке за витриной с драгоценными вещами и задумчиво глядел на лампадный огонек… Почему-то я чувствовал страх. Вещи, хранящиеся в кладовых ссудных касс, страшны… В ночную пору при тусклом свете лампадки они кажутся живыми… Теперь же, когда за окном роптал дождь, а в печи и над потолком жалобно выл ветер, мне казалось, что они издавали воющие звуки. Все они, прежде чем попасть сюда, должны были пройти через руки оценщика, то есть через мои, а потому я знал о каждой из них всё… Знал, например, что за деньги, вырученные за эту гитару, куплены порошки от чахоточного кашля… Знал, что этим револьвером застрелился один пьяница; жена скрыла револьвер от полиции, заложила его у нас и купила гроб. Браслет, глядящий на меня из витрины, заложен человеком, укравшим его… Две кружевные сорочки, помеченные 178 №, заложены девушкой, которой нужен был рубль для входа в Salon, где она собиралась заработать… Короче говоря, на каждой вещи читал я безвыходное горе, болезнь, преступление, продажный разврат… В ночь под Рождество эти вещи были как-то особенно красноречивы. — Пусти нас домой!.. — плакали они, казалось мне, вместе с ветром. — Пусти! Но не одни вещи возбуждали во мне чувство страха. Когда я высовывал голову из-за витрины и бросал робкий взгляд на темное, вспотевшее окно, мне казалось, что в кладовую с улицы глядели человеческие лица. «Что за чушь! — бодрил я себя. — Какие глупые нежности!» Дело в том, что человека, наделенного от природы нервами оценщика, в ночь под Рождество мучила совесть — событие невероятное и даже фантастическое. Совесть в ссудных кассах имеется только под закладом. Здесь она понимается, как предмет продажи и купли, других же функций за ней не признается… Удивительно, откуда она могла у меня взяться? Я ворочался с боку на бок на своем жестком сундуке и, щуря глаза от мелькавшей лампадки, всеми силами старался заглушить в себе новое, непрошеное чувство. Но старания мои оставались тщетны… Конечно, тут отчасти было виновато физическое и нравственное утомление после тяжкого, целодневного труда. В канун Рождества бедняки ломились в ссудную кассу толпами. В большой праздник и вдобавок еще в злую погоду бедность не порок, но страшное несчастье! В это время утопающий бедняк ищет в ссудной кассе соломинку и получает вместо нее камень… За весь сочельник у нас перебывало столько народу, что три четверти закладов, за неимением места в кладовой, мы принуждены были снести в сарай. От раннего утра до позднего вечера, не переставая ни на минуту, я торговался с оборвышами, выжимал из них гроши и копейки, глядел слезы, выслушивал напрасные мольбы… К концу дня я еле стоял на ногах: изнемогли душа и тело. Немудрено, что я теперь не спал, ворочался с боку на бок и чувствовал себя жутко… Кто-то осторожно постучался в мою дверь… Вслед за стуком я услышал голос хозяина: — Вы спите, Петр Демьяныч? — Нет еще, а что? — Я, знаете ли, думаю, не отворить ли нам завтра рано утречком дверь? Праздник большой, а погода злющая. Беднота нахлынет, как муха на мед. Так вы уж завтра не идите к обедне, а посидите в кассе… Спокойной ночи! «Мне оттого так жутко, — решил я по уходе хозяина, — что лампадка мелькает… Надо ее потушить…» Я встал с постели и пошел к углу, где висела лампадка. Синий огонек, слабо вспыхивая и мелькая, видимо боролся со смертью. Каждое мельканье на мгновение освещало образ, стены, узлы, темное окно… А в окне две бледные физиономии, припав к стеклам, глядели в кладовую. «Никого там нет… — рассудил я. — Это мне представляется». И когда я, потушив лампадку, пробирался ощупью к своей постели, произошел маленький казус, имевший немалое влияние на мое дальнейшее настроение… Над моей головой вдруг, неожиданно раздался громкий, неистово визжащий треск, продолжавшийся не долее секунды. Что-то треснуло и, словно почувствовав страшную боль, громко взвизгнуло. То лопнула на гитаре квинта, я же, охваченный паническим страхом, заткнул уши и, как сумасшедший, спотыкаясь о сундуки и узлы, побежал к постели… Я уткнул голову под подушку и, еле дыша, замирая от страха, стал прислушиваться. — Отпусти нас! — выл ветер вместе с вещами. — Ради праздника отпусти! Ведь ты сам бедняк, понимаешь! Сам испытал голод и холод! Отпусти! Да, я сам был бедняк и знал, что значит голод и холод. Бедность толкнула меня на это проклятое место оценщика, бедность заставила меня ради куска хлеба презирать горе и слезы. Если бы не бедность, разве у меня хватило бы храбрости оценивать в гроши то, что стоит здоровья, тепла, праздничных радостей? За что же винит меня ветер, за что терзает меня моя совесть? Но как ни билось мое сердце, как ни терзали меня страх и угрызения совести, утомление взяло свое. Я уснул. Сон был чуткий… Я слышал, как ко мне еще раз стучался хозяин, как ударили к заутрене… Я слышал, как выл ветер и стучал по кровле дождь. Глаза мои были закрыты, но я видел вещи, витрину, темное окно, образ. Вещи толпились вокруг меня и, мигая, просили отпустить их домой. На гитаре с визгом одна за другой лопались струны, лопались без конца… В окно глядели нищие, старухи, проститутки, ожидая, пока я отопру ссуду и возвращу им их вещи. Слышал я сквозь сон, как что-то заскребло, как мышь. Скребло долго, монотонно. Я заворочался и съежился, потому что на меня сильно подуло холодом и сыростью. Натягивая на себя одеяло, я слышал шорох и человеческий шёпот. «Какой нехороший сон! — думал я. — Как жутко! Проснуться бы». Что-то стеклянное упало и разбилось. За витриной мелькнул огонек, и на потолке заиграл свет. — Не стучи! — послышался шёпот. — Разбудишь того Ирода… Сними сапоги! Кто-то подошел к витрине, взглянул на меня и потрогал висячий замочек. Это был бородатый старик с бледной, испитой физиономией, в порванном солдатском сюртучишке и в опорках. К нему подошел высокий худой парень с ужасно длинными руками, в рубахе навыпуск и в короткой, рваной жакетке. Оба они что-то пошептали и завозились около витрины. «Грабят!» — мелькнуло у меня в голове. Хотя я спал, но помнил, что под моей подушкой всегда лежал револьвер. Я тихо нащупал его и сжал в руке. В витрине звякнуло стекло. — Тише, разбудишь. Тогда уколошматить придется. Далее мне снилось, что я вскрикнул грудным, диким голосом и, испугавшись своего голоса, вскочил. Старик и молодой парень, растопырив руки, набросились на меня, но, увидев револьвер, попятились назад. Помнится, что через минуту они стояли передо мной бледные и, слезливо мигая глазами, умоляли меня отпустить их. В поломанное окно с силою ломил ветер и играл пламенем свечки, которую зажгли воры. — Ваше благородие! — заговорил кто-то под окном плачущим голосом. — Благодетели вы наши! Милостивцы! Я взглянул на окно и увидел старушечью физиономию, бледную, исхудалую, вымокшую на дожде. — Не трожь их! Отпусти! — плакала она, глядя на меня умоляющими глазами. — Бедность ведь! — Бедность! — подтвердил старик. — Бедность! — пропел ветер. У меня сжалось от боли сердце, и я, чтобы проснуться, защипал себя… Но вместо того, чтобы проснуться, я стоял у витрины, вынимал из нее вещи и судорожно пихал их в карманы старика и парня. — Берите, скорей! — задыхался я. — Завтра праздник, а вы нищие! Берите! Набив нищенские карманы, я завязал остальные драгоценности в узел и швырнул их старухе. Подал я в окно старухе шубу, узел с черной парой, кружевные сорочки и кстати уж и гитару. Бывают же такие странные сны! Засим, помню, затрещала дверь. Точно из земли выросши, предстали предо мной хозяин, околоточный, городовые. Хозяин стоит около меня, а я словно не вижу и продолжаю вязать узлы. — Что ты, негодяй, делаешь? — Завтра праздник, — отвечаю я. — Надо им есть. Тут занавес опускается, вновь поднимается, и я вижу новые декорации. Я уже не в кладовой, а где-то в другом месте. Около меня ходит городовой, ставит мне на ночь кружку воды и бормочет: «Ишь ты! Ишь ты! Что под праздник задумал!» Когда я проснулся, было уже светло. Дождь уже не стучал в окно, ветер не выл. На стене весело играло праздничное солнышко. Первый, кто поздравил меня с праздником, был старший городовой. — И с новосельем… — добавил он. Через месяц меня судили. За что? Я уверял судей, что то был сон, что несправедливо судить человека за кошмар. Судите сами, мог ли я отдать ни с того ни с сего чужие вещи ворам и негодяям? Да и где это видано, чтоб отдавать вещи, не получив выкупа? Но суд принял сон за действительность и осудил меня. В арестантских ротах, как видите. Не можете ли вы, ваше благородие, замолвить за меня где-нибудь словечко? Ей-богу, не виноват. Праздничная повинность Был новогодний полдень. Вдова бывшего черногубского вице-губернатора Лягавого-Грызлова, Людмила Семеновна, маленькая шестидесятилетняя старушка, сидела у себя в гостиной и принимала визитеров. Судя по количеству закусок и питий, приготовленных в зале, число визитеров ожидалось громадное, но пока явился поздравить с Новым годом только один — старший советник губернского правления Окуркин, дряхлый человечек с лицом желто-лимонного цвета и с кривым ртом. Он сидел в углу около бочонка с олеандром и, осторожно нюхая табак, рассказывал «благодетельнице» городские новости. — Вчера, матушка, с каланчи чуть было не свалился пьяный солдат, — рассказывал он. — Перевесился, знаете ли, через перилу, а перила — хрусь! Хрустнула, знаете ли… К счастию, в ту пору жена ему на каланчу обед принесла и за фалду удержала. Коли б не жена, свалился бы, шельмец… Ну-с… А третьего дня, матушка, ваше превосходительство, у контролера банка Перцева сборище было… Все чиноши собрались и насчет сегодняшних визитов рассуждали. В один голос порешили, шуты этакие, не делать сегодня визитов. — Ну, уж это ты, батюшка, завираешься, — усмехнулась старуха. — Как же это без визитов обойтись? — Ей-богу-с, ваше превосходительство. Удивительно, но верно… Согласились все заместо визитов собраться сегодня в клубе, поздравить друг дружку и взнести по рублю в пользу бедных. — Не понимаю… — пожала плечами хозяйка. — Диковинное что-то рассказываешь… — Так, матушка, теперь во многих городах делается. Не ходят с поздравлениями. Дадут по рублю и шабаш! Хе-хе-хе. Не нужно ни ездить, ни поздравлять, не нужно на извозчика тратиться… Сходил в клуб и сиди себе дома. — Оно и лучше, — вздохнула старуха. — Пусть не ездиют. Нам же покойнее… Окуркин испустил громкий, трескучий вздох, покачал головой и продолжал: — За предрассудок почитают… Лень старшего почтить, с праздником его поздравить, вот и предрассудок. Нынче ведь старших за людей не считают… Не то, что прежде было. — Что ж? — вздохнула еще раз хозяйка. — Пусть не ездиют! Не хотят — и не нужно. — Прежде, матушка, когда либерализмы этой не было, визиты не считались за предрассудок. Ездили с визитами не то что с принуждением, а с чувством, с удовольствием… Бывало, исходишь все дома, остановишься на тротуаре и думаешь: «Кого бы это еще почтить?» Любили мы, матушка, старших… Страсть как любили! Помню, покойник Пантелей Степаныч, дай бог ему царство небесное, любил, чтоб мы почтительны были… Храни бог, бывало, ежели кто визита не сделает — скрежет зубовный! В одни святки, помню, болен я был тифом! И что ж вы думаете, матушка? Встал с постели, собрал силы свои расслабленные и пошел к Пантелею Степанычу… Прихожу. От меня так и пышет, так и пышет! Хочу сказать «с новым годом», а у меня выходит «флюст бей козырем!» Хе-хе… Бред-с… А то, помню, у Змеищева оспа была. Доктора, конечно, запретили ходить к нему, а нам начхать на докторов: пошли к нему и поздравили. Не считали за предрассудок. Я выпью, матушка, ваше превосходительство… — Выпей, выпей… Всё одно никто не придет, некому пить… Чай, твои-то правленские придут. Окуркин безнадежно махнул рукой и покривил рот в презрительную усмешку. — Хамы… Все одним миром мазаны. — То есть как же это, Ефим Ефимыч? — удивилась старуха. — И Верхушкин, стало быть, не придет? — Не придет… В клубе-с… — Ведь я же ему, разбойнику этакому, крестной матерью прихожусь! Я его к месту пристроила! — Не чувствует-с… Вчера к Перцеву первым явился. — Ну те так и быть уж… Забыли старуху и пусть их, а твоим правленским грех. А Ванька Трухин? Неужто и он не придет? Окуркин безнадежно махнул рукой. — И Подсилкин? Тоже? Ведь я же его, подлеца этакого, из грязи за уши вытянула! А Прорехин? Старуха назвала еще десяток имен, и всякое имя вызывало на губах Окуркина горькую улыбку. — Все, матушка! не чувствуют! — Спасибо… — вздохнула Лягавая-Грызлова, нервно заходив по гостиной. — Спасибо… Ежели им опротивела благодетельница… старуха… ежели я такая скверная, противная, то пусть… Старуха опустилась в кресло. Морщинистые глазки ее замигали. — Я вижу, что я уже больше не нужна им. И не надо… Уйди и ты, Ефим Ефимыч… Я не держу. Все уходите. Хозяйка прижала к лицу платок и захныкала. Окуркин поглядел на нее, испуганно почесал затылок и робко подошел к ней… — Матушка… — сказал он плачущим голосом. — Ваше превосходительство! Благодетельница! — Уйди и ты… Ступай… Все ступайте… — Матушка, ангельчик мой… Не плачьте-с… Голубушка! Я пошутил… Ей-богу, пошутил! Наплюйте мне в лицо, старой морде, если я не шутил… Все придут-с! Матушка! Окуркин стал перед старухой на колени, взял ее жилистую руку и ударил ею себя по лысине. — Бейте, матушка, ангел мой! Не шути, образина! Не шути! По щеке! по щеке! Так тебе, брехуну окаянному! — Нет, не шутил ты, Ефим Ефимыч! Чувствует мое сердце! — Разразись… тресни подо мной земля! Чтоб мне дня не прожить, ежели… Вот увидите-с! А пока прощайте, матушка… Не достоин за свои злые шутки продолжать ласку вашу. Скроюсь… Уйду, а вы воображайте, что прогнали меня, махамета зловредного. Ручечку… поцелую… Окуркин поцеловал взасос старухину руку и быстро вышел… Через пять минут он был около клуба. Чиновники уже поздравили друг друга, взнесли по рублю и выходили из клуба. — Стойте! Вы! — замахал им руками Окуркин. — Что это вы вздумали, умники? Отчего не идете к Людмиле Семеновне? — Нешто вы не знаете? Визитов мы нынче не делаем!.. — Знаю, знаю… Мерси вас… Ну вот что, цивилизованные… Ежели сейчас не пойдете к ведьме, то горе вам… Ревма ревет! Такое на вас молит, что и татарину не пожелаю. Чиновники переглянулись и почесали затылки… — Гм… Да ведь ежели к ней идти, так придется идти ко всем… — Что ж делать, миленькие? И ко всем сходите… Не отвалятся ноги… Впрочем, по мне как знаете, хоть и не ходите… Только вам же хуже будет! — Чёрт знает что! Ведь мы уж и по рублю заплатили! — простонал Яшкин, учитель уездного училища… — Рубль… А место еще не потерял? Чиновники еще раз почесались и, ропща, направились к дому Лягавой-Грызловой. Дело о 1884 годе (От нашего корреспондента) Сегодня уже шестой день, как в N-ской судебной палате слушается дело о не имеющем чина 1884-м годе, обвиняемом в преступлениях по должности. Суд заметно утомлен. Подсудимый плачет и то и дело шепчется со своим защитником. Сегодняшний день начался осмотром вещественных доказательств… Когда, по требованию прокурора, в суде читался «Гражданин» и показывался нумер «Луча» с портретом Окрейца[72], публика была выведена из залы заседания, дабы упомянутые предметы не могли произвести соблазна… За сим начались прения сторон. — Прошу, ваше —ство, — окончил свою речь защитник, — занести в протокол, что во всё время моей речи г. прокурор кашлял, сморкался и стучал графином… П р е д с е д а т е л ь. Подсудимый, ваше последнее слово! П о д с у д и м ы й (плачет). Пожалуй, скажу что-нибудь, хоть и бесполезно, коли заранее порешили меня упечь. Меня обвиняют, во-первых, в бездействии — в том, что я ничего не делал, что при мне ни насколько не поднялось экономическое положение, не повысился курс, засела в тине промышленность и проч. … Не я виноват в этом… Вспомните, что я застал, когда был назначен на новогоднее место… (Рассказывает, что он застал.) П р е д с е д а т е л ь. Это дела не касается! Извольте говорить по существу! П о д с у д и м ы й (испугавшись). Слушаю, ваше —ство! Г-н прокурор обвиняет меня в том, что время мое растрачено на пустяки, на переливание из пустого в порожнее… Правда, в бытность мою на земле не было сделано ничего путного. Выпускали ярлыки нового образца для бутылок, клали латки на лохмотья, заставляли дураков богу молиться, а они лбы разбивали… П р е д с е д а т е л ь. Подсудимый, если вы будете касаться личностей, то я вас лишу слова. П о д с у д и м ы й. О чем же мне говорить? (Задумывается.) Хорошо, перейду к печати… Говорят, что все журналы были пусты, бессодержательны, что в печати преобладал кукиш в кармане, что таланты словно в воду канули… Что же я мог поделать, если… П р е д с е д а т е л ь. Г-н судебный пристав! Вывести подсудимого из залы! По выводе обвиняемого из залы заседания, присяжным был вручен вопросный лист. Суд приговорил: не имеющего чина 1884 года, лишив всех прав состояния, сослать в Лету на поселение навсегда. Масленичные правила дисциплины §. Масленица получила свое название от русского слова «масло», которое в изобилии употребляется во время блинов, как чухонское, и после блинов, как oleum ricini[73]. §. По мнению Гатцука, Суворина и других календаристов[74], она начинается 28-го января и кончается 3-го февраля. Замоскворецкие же пупсики и железнодорожные бонзы начинают ее 1-го января и кончают 31-го декабря. §. Перед масленицей сходи к мастеру и полуди свой желудок. §. Всю неделю помни, что ты невменяем и родства не помнящий, а посему остерегай себя от совершения великих дел, дабы не впасть в великие ошибки. Истребляй блины, интригуй вдову Попову[75], сокрушай Ланина[76], сбивай с окружающих тебя предметов зеленых чёртиков, но не выбирай городских голов, не женись, не строй железных дорог, не пиши книг нравственного содержания и прочее. §. Тратясь на муку, водку и зернистую икру, не забывай, что тебе предстоит еще ведаться с аптекарской таксой. §. Если тебе ведением или неведением друзья твои или враги наставят фонарь, то не ходи в городскую управу и не предлагай там услуг в качестве уличного фонаря, а ложись спать и проспись. §. Не всё коту масленица, придет и великий пост. Если ты кот, то имей это в виду. Капитанский мундир Восходящее солнце хмурилось на уездный город, петухи еще только потягивались, а между тем в кабаке дяди Рылкина уже были посетители. Их было трое: портной Меркулов, городовой Жратва и казначейский рассыльный Смехунов. Все трое были выпивши. — Не говори! И не говори! — рассуждал Меркулов, держа городового за пуговицу. — Чин гражданского ведомства, ежели взять которого повыше, в портняжном смысле завсегда утрет нос генералу. Взять таперича хотя камергера… Что это за человек? Какого звания? А ты считай… Четыре аршина сукна наилучшего фабрики Прюнделя с сыновьями, пуговки, золотой воротник, штаны белые с золотым лампасом, все груди в золоте, на вороте, на рукавах и на клапанах блеск! Таперича ежели шить на господ гофмейстеров, шталмейстеров, церемониймейстеров и прочих министерий… Ты как понимаешь? Помню это, шили мы на гофмейстера графа Андрея Семеныча Вонляревского. Мундир — не подходи! Берешься за него руками, а в жилках пульса — цик! цик! Настоящие господа ежели шьют, то не смей их беспокоить. Снял мерку и шей, а ходить примеривать да прифасониваться никак невозможно. Ежели ты стоющий портной, то сразу по мерке сделай… С колокольни спрыгни, в сапоги попади — во как! А около нас был, братец ты мой, как теперь помню, жандармский корпус… Хозяин наш Осип Яклич и выбирал из жандармов, которые подходящие, чтоб заказчику под корпус подходили, для примерки. Ну-с, это самое… выбрали мы, братец ты мой, для графского мундира одного подходящего жандармика. Позвали… Надевай, харя, и чувствуй!.. Потеха! Надел он, это самое, мундир таперя, поглядел на груди — и что ж! Обомлел, знаешь, затрепетал, без чувств… — А на исправников шили? — осведомился Смехунов. — Эко-ся, важная птица! В Петербурге исправников этих, как собак нерезаных… Тут перед ними шапку ломают, а там — «посторонись, чево прешь!» Шили мы на господ военных да на особ первых четырех классов. Особа особе рознь… Ежели ты, положим, пятого класса, то ты — пустяки… Приходи через неделю и всё готово — потому, окромя воротника и нарукавников, ничего… А ежели который четвертого класса, или третьего, или, положим, второго, тут уж хозяин всем в зубы, и беги в жандармский корпус. Шили мы раз, братец ты мой, на персидского консула. Нашили мы ему на грудях и на спине золотых кренделей на полторы тыщи. Думали, что не отдаст; ан нет, заплатил… В Петербурге даже и в татарах благородство есть. Долго рассказывал Меркулов. В девятом часу он, под влиянием воспоминаний, заплакал и стал горько жаловаться на судьбу, загнавшую его в городишко, наполненный одними только купцами и мещанами. Городовой отвел уже двоих в полицию, рассыльный уходил два раза на почту и в казначейство и опять приходил, а он всё жаловался. В полдень он стоял перед дьячком, бил себя кулаком по груди и роптал: — Не желаю я на хамов шить! Не согласен! В Петербурге я самолично на барона Шпуцеля и на господ офицеров шил! Отойди от меня, длиннополая кутья, чтоб я тебя не видел своими глазами! Отойди! — Возмечтали вы о себе высоко, Трифон Пантелеич, — убеждал портного дьячок. — Хоть вы и артист в своем цехе, но бога и религию не должны забывать. Арий возмечтал, вроде как вы, и помер[77] поносной смертью. Ой, помрете и вы! — И помру! Пущай лучше помру, чем зипуны шить! — Мой анафема здесь? — послышался вдруг за дверью бабий голос, и в кабак вошла жена Меркулова Аксинья, пожилая баба с подсученными рукавами и перетянутым животом. — Где он, идол? — окинула она негодующим взором посетителей. — Иди домой, чтоб тебя разорвало, там тебя какой-то офицер спрашивает! — Какой офицер? — удивился Меркулов. — А шут его знает! Сказывает, заказать пришел. Меркулов почесал всей пятерней свой большой нос, что он делал всякий раз, когда хотел выразить крайнее изумление, и пробормотал: — Белены баба объелась… Пятнадцать годов не видал лица благородного и вдруг нынче, в постный день — офицер с заказом! Гм!.. Пойти поглядеть… Меркулов вышел из кабака и, спотыкаясь, побрел домой… Жена не обманула его. У порога своей избы он увидел капитана Урчаева, делопроизводителя местного воинского начальника. — Ты где это шатаешься? — встретил его капитан. — Целый час жду… Можешь мне мундир сшить? — Ваше благор… Господи! — забормотал Меркулов, захлебываясь и срывая со своей головы шапку вместе с клочком волос. — Ваше благородие! Да нешто вперв — Ну-с… Твое сукно и чтоб через неделю было готово… Сколько возьмешь? — Помилуйте, ваше благородие… Что вы-с, — усмехнулся Меркулов. — Я не купец какой-нибудь. Мы ведь понимаем, как с господами… Когда на консула персидского шили, и то без слов… Снявши с капитана мерку и проводив его, Меркулов целый час стоял посреди избы и с отупением глядел на жену. Ему не верилось… — Ведь этакая, скажи на милость, оказия! — проворчал он наконец. — Где же я денег возьму на сукно? Аксинья, дай-ка, братец ты мой, мне в кредит те деньги, что за корову выручили! Аксинья показала ему кукиш и плюнула. Немного погодя она работала кочергой, била на мужниной голове горшки, таскала его за бороду, выбегала на улицу и кричала: «Ратуйте, кто в бога верует! Убил!..», но ни к чему не привели эти протесты. На другое утро она лежала в постели и прятала от подмастерий свои синяки, а Меркулов ходил по лавкам и, ругаясь с купцами, выбирал подходящее сукно. Для портного наступила новая эра. Просыпаясь утром и обводя мутными глазами свой маленький мирок, он уже не плевал с остервенением… А что диковиннее всего, он перестал ходить в кабак и занялся работой. Тихо помолившись, он надевал большие стальные очки, хмурился и священнодейственно раскладывал на столе сукно. Через неделю мундир был готов. Выгладив его, Меркулов вышел на улицу, повесил на плетень и занялся чисткой; снимет пушинку, отойдет на сажень, щурится долго на мундир и опять снимет пушинку — и этак часа два. — Беда с этими господами! — говорил он прохожим. — Нет уж больше моей возможности, замучился! Образованные, деликатные — поди-кась угоди! На другой день после чистки Меркулов помазал голову маслом, причесался, завернул мундир в новый коленкор и отправился к капитану. — Некогда мне с тобой, остолопом, разговаривать! — останавливал он каждого встречного. — Нешто не видишь, что мундир к капитану несу? Через полчаса он воротился от капитана. — С получением вас, Трифон Пантелеич! — встретила его Аксинья, широко ухмыляясь и застыдившись. — Ну и дура! — ответил ей муж. — Нешто настоящие господа платят сразу? Это не купец какой-нибудь — взял да тебе сразу и вывалил! Дура… Два дня Меркулов лежал на печи, не пил, не ел и предавался чувству самоудовлетворения, точь-в-точь как Геркулес по совершении всех своих подвигов. На третий он отправился за получкой. — Их благородие вставши? — прошептал он, вползая в переднюю и обращаясь к денщику. И, получив отрицательный ответ, он стал столбом у косяка и принялся ждать. — Гони в шею! Скажи, что в субботу! — услышал он, после продолжительного ожидания, хрипенье капитана. То же самое услышал он в субботу, в одну, потом в другую… Целый месяц ходил он к капитану, высиживал долгие часы в передней, и вместо денег получал приглашение убираться к чёрту и прийти в субботу. Но он не унывал, не роптал, а напротив… Он даже пополнел. Ему нравилось долгое ожидание в передней, «гони в шею» звучало в его ушах сладкой мелодией. — Сейчас узнаешь благородного! — восторгался он всякий раз, возвращаясь от капитана домой. — У нас в Питере все такие были… До конца дней своих согласился бы Меркулов ходить к капитану и ждать в передней, если бы не Аксинья, требовавшая обратно деньги, вырученные за корову. — Принес деньги? — встречала она его каждый раз. — Нет? Что же ты со мной делаешь, пес лютый? А?.. Митька, где кочерга? Однажды под вечер Меркулов шел с рынка и тащил на спине куль с углем. За ним торопилась Аксинья. — Ужо будет тебе дома на орехи! Погоди! — бормотала она, думая о деньгах, вырученных за корову. Вдруг Меркулов остановился как вкопанный и радостно вскрикнул. Из трактира «Веселие», мимо которого они шли, опрометью выбежал какой-то господин в цилиндре, с красным лицом и пьяными глазами. За ним гнался капитан Урчаев с кием в руке, без шапки, растрепанный, разлохмаченный. Новый мундир его был весь в мелу, одна погона глядела в сторону. — Я заставлю тебя играть, шулер! — кричал капитан, неистово махая кием и утирая со лба пот. — Я научу тебя, протобестия, как играть с порядочными людьми! — Погляди-кась, дура! — зашептал Меркулов, толкая жену под локоть и хихикая. — Сейчас видать благородного. Купец ежели что сошьет для своего мужицкого рыла, так и сносу нет, лет десять таскает, а этот уж истрепал мундир! Хоть новый шей! — Поди попроси у него деньги! — сказала Аксинья. — Поди! — Что ты, дура! На улице? И ни-ни… Как ни противился Меркулов, но жена заставила его подойти к рассвирепевшему капитану и заговорить о деньгах. — Пошел вон! — ответил ему капитан. — Ты мне надоел! — Я, ваше благородие, понимаю-с… Я ничего-с… но жена… неразумная тварь… Сами знаете, какой ум в голове у ихнего бабьего звания… — Ты мне надоел, говорят тебе! — взревел капитан, тараща на него пьяные, мутные глаза. — Пошел прочь! — Понимаю, ваще благородие! Но я касательно бабы, потому, изволите знать, деньги-то коровьи… Отцу Иуде корову продали… — Ааа… ты еще разговаривать, тля! Капитан размахнулся и — трах! Со спины Меркулова посыпался уголь, из глаз — искры, из рук выпала шапка… Аксинья обомлела. Минуту стояла она неподвижно, как Лотова жена, обращенная в соляной столб[78], потом зашла вперед и робко взглянула на лицо мужа… К ее великому удивлению, на лице Меркулова плавала блаженная улыбка, на смеющихся глазах блестели слезы… — Сейчас видать настоящих господ! — бормотал он. — Люди деликатные, образованные… Точь-в-точь, бывало… по самому этому месту, когда носил шубу к барону Шпуцелю, Эдуарду Карлычу… Размахнулись и — трах! И господин подпоручик Зембулатов тоже… Пришел к ним, а они вскочили и изо всей мочи… Эх, прошло, жена, мое время! Не понимаешь ты ничего! Прошло мое время! Меркулов махнул рукой и, собрав уголь, побрел домой. У предводительши Первого февраля каждого года, в день св. мученика Трифона, в имении вдовы бывшего уездного предводителя Трифона Львовича Завзятова бывает необычайное движение. В этот день вдова предводителя Любовь Петровна служит по усопшем имениннике панихиду, а после панихиды — благодарственное господу богу молебствие. На панихиду съезжается весь уезд. Тут вы увидите теперешнего предводителя Хрумова, председателя земской управы Марфуткина, непременного члена Потрашкова, обоих участковых мировых, исправника Кринолинова, двух становых, земского врача Дворнягина, пахнущего иодоформом, всех помещиков, больших и малых, и проч. Всего набирается человек около пятидесяти. Ровно в 12 часов дня гости, вытянув физиономии, пробираются из всех комнат в залу. На полу ковры, и шаги бесшумны, но торжественность случая заставляет инстинктивно подниматься на цыпочки и балансировать при ходьбе руками. В зале уже всё готово. Отец Евмений, маленький старичок, в высокой полинявшей камилавке, надевает черные ризы. Диакон Конкордиев, красный как рак и уже облаченный, бесшумно перелистывает требник и закладывает в него бумажки. У двери, ведущей в переднюю, дьячок Лука, надув широко щеки и выпучив глаза, раздувает кадило. Зала постепенно наполняется синеватым, прозрачным дымком и запахом ладана. Народный учитель Геликонский, молодой человек, в новом мешковатом сюртуке и с большими угрями на испуганном лице, разносит на мельхиоровом подносе восковые свечи. Хозяйка Любовь Петровна стоит впереди около столика с кутьей и заранее прикладывает к лицу платок. Кругом тишина, изредка прерываемая вздохами. Лица у всех натянутые, торжественные… Панихида начинается. Из кадила струится синий дымок и играет в косом солнечном луче, зажженные свечи слабо потрескивают. Пение, сначала резкое и оглушительное, вскоре, когда певчие мало-помалу приспособляются к акустическим условиям комнат, делается тихим, стройным… Мотивы всё печальные, заунывные… Гости мало-помалу настраиваются на меланхолический лад и задумываются. В головы их лезут мысли о краткости жизни человеческой, о бренности, суете мирской… Припоминается покойный Завзятов, плотный, краснощекий, выпивавший залпом бутылку шампанского и разбивавший лбом зеркала. А когда поют «Со святыми упокой» и слышатся всхлипыванья хозяйки, гости начинают тоскливо переминаться с ноги на ногу. У более чувствительных начинает почесываться в горле и около век. Председатель земской управы Марфуткин, желая заглушить неприятное чувство, нагибается к уху исправника и шепчет: — Вчера я был у Ивана Федорыча… С Петром Петровичем большой шлем на без козырях взяли… Ей-богу… Ольга Андреевна до того взбеленилась, что у нее изо рта искусственный зуб выпал. Но вот поется «Вечная память». Геликонский почтительно отбирает свечи, и панихида кончается. За сим следуют минутная суматоха, перемена риз и молебен. После молебна, пока отец Евмений разоблачается, гости потирают руки и кашляют, а хозяйка рассказывает о доброте покойного Трифона Львовича. — Прошу, господа, закусить! — оканчивает она свой рассказ, вздыхая. Гости, стараясь не толкаться и не наступать друг другу на ноги, спешат в столовую… Тут ожидает их завтрак. Этот завтрак до того роскошен, что дьякон Конкордиев ежегодно, при взгляде на него, считает своею обязанностью развести руками, покачать в изумлении головой и сказать: — Сверхъестественно! Это, отец Евмений, не столько похоже на пищу человеков, сколько на жертвы, приносимые богам. Завтрак, действительно, необыкновенен. На столе есть всё, что только могут дать флора и фауна, сверхъестественного же в нем разве только одно: на столе есть всё, кроме… спиртных напитков. Любовь Петровна дала обет не держать в доме карт и спиртных напитков — двух вещей, погубивших ее мужа. И на столе стоят только бутылки с уксусом и маслом, словно на смех и в наказание завтракающим, всплошную состоящим из отчаянных пропойц и выпивох. — Кушайте, господа! — приглашает предводительша. — Только, извините, водки у меня нет… Не держу… Гости приближаются к столу и нерешительно приступают к пирогу. Но еда не клеится. В тыканье вилками, в резанье, в жевании видна какая-то лень, апатия… Видимо, чего-то не хватает. — Чувствую, словно потерял что-то… — шепчет один мировой другому. — Такое же чувство было у меня, когда жена с инженером бежала… Не могу есть! Марфуткин, прежде чем начать есть, долго роется в карманах и ищет носовой платок. — Да ведь платок в шубе! А я-то ищу, — вспоминает он громогласно и идет в переднюю, где повешены шубы. Из передней возвращается он с маслеными глазками и тотчас же аппетитно набрасывается на пирог. — Что, небось противно всухомятку трескать? — шепчет он отцу Евмению. — Ступай, батя, в переднюю, там у меня в шубе бутылка есть… Только смотри, поосторожней, бутылкой не звякни! Отец Евмений вспоминает, что ему нужно приказать что-то Луке, и семенит в переднюю. — Батюшка! два слова… по секрету! — догоняет его Дворнягин. — А какую я себе шубу купил, господа, по случаю! — хвастает Хрумов. — Стоит тысячу, а я дал… вы не поверите… двести пятьдесят! Только! Во всякое другое время гости встретили бы это известие равнодушно, но теперь они выражают удивление и не верят. В конце концов все валят толпой в переднюю глядеть на шубу, и глядят до тех пор, пока докторский Микешка не выносит тайком из передней пять пустых бутылок… Когда подают разварного осетра, Марфуткин вспоминает, что он забыл свой портсигар в санях, и идет в конюшню. Чтобы одному не скучно было идти, он берет с собою диакона, которому кстати же нужно поглядеть на лошадь… Вечером того же дня Любовь Петровна сидит у себя в кабинете и пишет старинной петербургской подруге письмо: «Сегодня, по примеру прошлых лет, — пишет она между прочим, — у меня была панихида по покойном. Были на панихиде все мои соседи. Народ грубый, простой, но какие сердца! Угостила я их на славу, но, конечно, как и в те годы, горячих напитков — ни капли. С тех пор, как он умер от излишества, я дала себе клятву водворить в нашем уезде трезвость и этим самым искупить его грехи. Проповедь трезвости я начала со своего дома. Отец Евмений в восторге от моей задачи и помогает мне словом и делом. Ах, ma ch[79], если б ты знала, как любят меня мои медведи! Председатель земской управы Марфуткин после завтрака припал к моей руке, долго держал ее у своих губ и, смешно замотав головой, заплакал: много чувства, но нет слов! Отец Евмений, этот чудный старикашечка, подсел ко мне и, слезливо глядя на меня, лепетал долго что-то, как дитя. Я не поняла его слов, но понять искреннее чувство я умею. Исправник, тот красивый мужчина, о котором я тебе писала, стал передо мной на колени, хотел прочесть стихи своего сочинения (он у нас поэт), но… не хватило сил… покачнулся и упал… С великаном сделалась истерика… Можешь представить мой восторг! Не обошлось, впрочем, и без неприятностей. Бедный председатель мирового съезда Алалыкин, человек полный и апоплексический, почувствовал себя дурно и пролежал на диване в бессознательном состоянии два часа. Пришлось отливать его водой… Спасибо доктору Дворнягину: принес из своей аптеки бутылку коньяку и помочил ему виски, отчего тот скоро пришел в себя и был увезен…» Живая хронология. Гостиная статского советника Шарамыкина окутана приятным полумраком. Большая бронзовая лампа с зеленым абажуром красит в зелень [80], мебель, лица… Изредка в потухающем камине вспыхивает тлеющее полено и на мгновение заливает лица цветом пожарного зарева; но это не портит общей световой гармонии. Общий тон, как говорят художники, выдержан. Перед камином в кресле, в позе только что пообедавшего человека, сидит сам Шарамыкин, пожилой господин с седыми чиновничьими бакенами и с кроткими голубыми глазами. По лицу его разлита нежность, губы сложены в грустную улыбку. У его ног, протянув к камину ноги и лениво потягиваясь, сидит на скамеечке вице-губернатор Лопнев, бравый мужчина, лет сорока. Около пианино возятся дети Шарамыкина: Нина, Коля, Надя и Ваня. Из слегка отворенной двери, ведущей в кабинет г-жи Шарамыкиной, робко пробивается свет. Там за дверью, за своим письменным столом сидит жена Шарамыкина, Анна Павловна, председательница местного дамского комитета, живая и пикантная дамочка, лет тридцати с хвостиком. Ее черные бойкие глазки бегают сквозь пенсне по страницам французского романа. Под романом лежит растрепанный комитетский отчет за прошлый год. — Прежде наш город в этом отношении был счастливее, — говорит Шарамыкин, щуря свои кроткие глаза на тлеющие уголья. — Ни одной зимы не проходило без того, чтобы не приезжала какая-нибудь звезда. Бывали и знаменитые актеры и певцы, а нынче… чёрт знает что! — кроме фокусников да шарманщиков никто не наезжает. Никакого эстетического удовольствия… Живем, как в лесу. Да-с… А помните, ваше превосходительство, того итальянского трагика… как его?.. еще такой брюнет, высокий… Дай бог память… Ах, да! Луиджи Эрнесто де Руджиеро… Талант замечательный… Сила! Одно слово скажет, бывало, и театр ходором ходит. Моя Анюточка принимала большое участие в его таланте. Она ему и театр выхлопотала и билеты на десять спектаклей распродала… Он ее за это декламации и мимике учил. Душа человек! Приезжал он сюда… чтоб не соврать… лет двенадцать тому назад… Нет, вру… Меньше, лет десять… Анюточка, сколько нашей Нине лет? — Десятый год! — кричит из своего кабинета Анна Павловна. — А что? — Ничего, мамочка, это я так… И певцы хорошие приезжали, бывало… Помните вы tenore di grazia[81] Прилипчина? Что за душа человек! Что за наружность! Блондин… лицо этакое выразительное, манеры парижские… А что за голос, ваше превосходительство! Одна только беда: некоторые ноты желудком пел и «ре» фистулой брал, а то всё хорошо. У Тамберлика, говорил, учился… Мы с Анюточкой выхлопотали ему залу в общественном собрании, и в благодарность за это он, бывало, нам целые дни и ночи распевал… Анюточку петь учил… Приезжал он, как теперь помню, в Великом посту, лет… лет двенадцать тому назад. Нет, больше… Вот память, прости господи! Анюточка, сколько нашей Надечке лет? — Двенадцать! — Двенадцать… ежели прибавить десять месяцев… Ну, так и есть… тринадцать!.. Прежде у нас в городе как-то и жизни больше было… Взять к примеру хоть благотворительные вечера. Какие прекрасные бывали у нас прежде вечера. Что за прелесть! И поют, и играют, и читают… После войны, помню, когда здесь пленные турки стояли[82], Анюточка делала вечер в пользу раненых. Собрали тысячу сто рублей… Турки-офицеры, помню, без ума были от Анюточкина голоса, и всё ей руку целовали. Хе, хе… Хоть и азиаты, а признательная нация. Вечер до того удался, что я, верите ли, в дневник записал. Это было, как теперь помню, в… семьдесят шестом… нет! в семьдесят седьмом… Нет! Позвольте, когда у нас турки стояли? Анюточка, сколько нашему Колечке лет? — Мне, папа, семь лет! — говорит Коля, черномазый мальчуган с смуглым лицом и черными, как уголь, волосами. — Да, постарели, и энергии той уж нет!.. — соглашается Лопнев, вздыхая. — Вот где причина… Старость, батенька! Новых инициаторов нет, а старые состарились… Нет уж того огня. Я, когда был помоложе, не любил, чтоб общество скучало… Я был первым помощником вашей Анны Павловны… Вечер ли с благотворительною целью устроить, лотерею ли, приезжую ли знаменитость поддержать — всё бросал и начинал хлопотать. Одну зиму, помню, я до того захлопотался и набегался, что даже заболел… Не забыть мне этой зимы!.. Помните, какой спектакль сочинили мы с вашей Анной Павловной в пользу погорельцев? — Да это в каком году было? — Не очень давно… В семьдесят девятом… Нет, в восьмидесятом, кажется! Позвольте, сколько вашему Ване лет? — Пять! — кричит из кабинета Анна Павловна. — Ну, стало быть, это было шесть лет тому назад… Да-с, батенька, были дела! Теперь уж не то! Нет того огня! Лопнев и Шарамыкин задумываются. Тлеющее полено вспыхивает в последний раз и подергивается пеплом. Служебные пометки. В книге «входящих» под литерой Д, № 8, год 80—81, на полях и пустых местах имеются карандашные пометки, сделанные разными почерками. Так как все они носят печать мудрости и полны высокого значения, то надо думать, что они принадлежат лицам начальствующим. Выбираю самые лучшие и характерные: «Так и быть. Дать отсрочку на 2 месяца и сказать ему, чтобы он в другой раз не смел входить в присутствие в калошах». «На прошение губернского секретаря Осетрова об единовременном пособии могу ответить указанием на Римскую империю, погибшую от роскоши. Роскошь и излишества ведут к растлению нравов; а я желаю, чтобы все были нравственны. Впрочем, пусть Осетров сходит в вицмундире к купцу Хихикину и скажет ему, что его дело близится к концу». «Птица узнается по перьям, хороший проситель по благодарности». «Хотя по точному смыслу ст. 64, п. 1 Уст. о герб. сборе прошения о выдаче свидетельств о бедности не подлежат гербовому сбору, но, тем не менее, объявить вдове Вониной, что в неприлеплении ею шестидесятикопеечной марки я усматриваю не столько понимание духа законов, сколько желание действовать самовольно помимо указаний надлежащего начальства. Если действительно не нужна была бы марка, то отлепили бы мы ее сами, она же распоряжаться не может. Отказать». «Делицын, расписывайся поразборчивее! Ты не тайный советник…» «Хотя в этом прошении и нет точных указаний на чувство благодарности, но, тем не менее, из некоторых пунктов явствует, что к нему было кое-что приложено… Где деньги?» Под этой фразой другим почерком написано: «Честь имею донести вашему высокородию, что деньги в количестве 75 руб. во время вашего отсутствия были отнесены Смирновым супруге вашей Евдокии Трифоновне. Лягавов». На бумаге с заголовком «Совершенно секретно» написано: «Надписи вроде „секретно“ и „совершенно секретно“ мне не понятны. К чему из сих поучительных фактов делать тайну? Пусть бы все читали и казнились…» «Сему рапорту о болезни не верю. Шулябин пишет, что он болен, а между тем мне известно, что он сидит теперь дома и под видом геморроя пишет мещанам прошения. Чтоб был завтра на службе!» В бане — Эй, ты, фигура! — крикнул толстый белотелый господин, завидев в тумане высокого и тощего человека с жиденькой бородкой и с большим медным крестом на груди. — Поддай пару! — Я, ваше высокородие, не банщик, я цирульник-с. Не мое дело пар поддавать. Не прикажете ли кровососные баночки поставить? Толстый господин погладил себя по багровым бедрам, подумал и сказал: — Банки? Пожалуй, поставь. Спешить мне некуда. Цирульник сбегал в предбанник за инструментом, и через какие-нибудь пять минут на груди и спине толстого господина уже темнели десять банок. — Я вас помню, ваше благородие, — начал цирульник, ставя одиннадцатую банку. — Вы у нас в прошлую субботу изволили мыться, и тогда же еще я вам мозоли срезывал. Я цирульник Михайло… Помните-с? Тогда же вы еще изволили меня насчет невест расспрашивать. — Ага… Так что же? — Ничего-с… Говею я теперь и грех мне осуждать, ваше благородие, но не могу не выразить вам по совести. Пущай меня бог простит за осуждения мои, но невеста нынче пошла всё непутящая, несмысленная… Прежняя невеста желала выйтить за человека, который солидный, строгий, с капиталом, который всё обсудить может, религию помнит, а нынешняя льстится на образованность. Подавай ей образованного, а господина чиновника или кого из купечества и не показывай — осмеет! Образованность разная бывает… Иной образованный, конечно, до высокого чина дослужится, а другой весь век в писцах просидит, похоронить не на что. Мало ли их нынче таких? К нам сюда ходит один… образованный. Из телеграфистов… Всё превзошел, депеши выдумывать может, а без мыла моется. Смотреть жалко! — Беден, да честен! — донесся с верхней полки хриплый бас. — Такими людьми гордиться нужно. Образованность, соединенная с бедностью, свидетельствует о высоких качествах души. Невежа! Михайло искоса поглядел на верхнюю полку… Там сидел и бил себя по животу веником тощий человек с костистыми выступами на всем теле и состоящий, как казалось, из одних только кожи да ребер. Лица его не было видно, потому что всё оно было покрыто свесившимися вниз длинными волосами. Видны были только два глаза, полные злобы и презрения, устремленные на Михайлу. — Из энтих… из длинноволосых! — мигнул глазом Михайло. — С идеями… Страсть сколько развелось нынче такого народу! Не переловишь всех… Ишь, патлы распустил, шкилет! Всякий христианский разговор ему противен, всё равно, как нечистому ладан. За образованность вступился! Таких вот и любит нынешняя невеста. Именно вот таких, ваше высокородие! Нешто не противно? Осенью зовет меня к себе одна священникова дочка. — «Найди, говорит, мне, Мишель», — меня в домах Мишелем зовут, потому, я дам завиваю, — «найди, говорит, мне, Мишель, жениха, чтоб был из писателей». А у меня, на ее счастье, был такой… Ходил он в трактир к Порфирию Емельянычу и всё стращал в газетах пропечатать. Подойдет к нему человек за водку деньги спрашивать, а он сейчас по уху… «Как? С меня деньги? Да знаешь ты, кто я такой? Да знаешь ты, что я могу в газетах пропечатать, что ты душу загубил?» Плюгавый такой, оборванный. Прельстил я его поповскими деньгами, показал барышнин портрет и сводил. Костюмчик ему напрокат достал… Не понравился барышне! «Меланхолии, говорит, в лице мало». И сама не знает, какого ей лешего нужно! — Это клевета на печать! — послышался хриплый бас с той же полки. — Дрянь! — Это я-то дрянь? Гм!.. Счастье ваше, господин, что я в эту неделю говею, а то бы я вам за «дрянь» сказал бы слово… Вы, стало быть, тоже из писателей? — Я хотя и не писатель, но не смей говорить о том, чего не понимаешь. Писатели были в России многие и пользу принесшие. Они просветили землю, и за это самое мы должны относиться к ним не с поруганием, а с честью. Говорю я о писателях как светских, так равно и духовных. — Духовные особы не станут такими делами заниматься. — Тебе, невеже, не понять. Димитрий Ростовский, Иннокентий Херсонский, Филарет Московский и прочие другие святители церкви своими творениями достаточно способствовали просвещению. Михайло покосился на своего противника, покрутил головой и крякнул. — Ну, уж это вы что-то тово, сударь… — пробормотал он, почесав затылок. — Что-то умственное… Недаром на вас и волосья такие. Недаром! Мы всё это очень хорошо понимаем и сейчас вам покажем, какой вы человек есть. Пущай, ваше благородие, баночки на вас постоят, а я сейчас… Схожу только. Михайло, подтягивая на ходу свои мокрые брюки и громко шлепая босыми ногами, вышел в предбанник. — Сейчас выйдет из бани длинноволосый, — обратился он к малому, стоявшему за конторкой и продававшему мыло, — так ты, тово… погляди за ним. Народ смущает… С идеями… За Назаром Захарычем сбегать бы… — Ты скажи мальчикам. — Сейчас выйдет сюда длинноволосый, — зашептал Михайло, обращаясь к мальчикам, стоявшим около одежи. — Народ смущает. Поглядите за ним да сбегайте к хозяйке, чтоб за Назаром Захарычем послали — протокол составить. Слова разные произносит… С идеями… — Какой же это длинноволосый? — встревожились мальчики. — Тут никто из таких не раздевался. Всех раздевалось шестеро. Тут вот два татара, тут господин раздевшись, тут из купцов двое, тут дьякон… а больше и никого… Ты, знать, отца дьякона за длинноволосого принял? — Выдумываете, черти! Знаю, что говорю! Михайло посмотрел на одежу дьякона, потрогал рукой ряску и пожал плечами… По лицу его разлилось крайнее недоумение. — А какой он из себе? — Худенький такой, белобрысенький… Бородка чуть-чуть… Всё кашляет. — Гм!.. — пробормотал Михайло. — Гм!.. Это я, значит, духовную особу облаял… Комиссия отца Денисия! Вот грех-то! Вот грех! А ведь я говею, братцы! Как я теперь исповедаться буду, ежели я духовное лицо обидел? Господи, прости меня, грешного! Пойду прощения просить… Михайло почесал затылок и, состроив печальное лицо, отправился в баню. Отца дьякона на верхней полке уже не было. Он стоял внизу у кранов и, сильно раскорячив ноги, наливал себе в шайку воды. — Отец дьякон! — обратился к нему Михайло плачущим голосом. — Простите меня, Христа ради, окаянного! — За что такое? Михайло глубоко вздохнул и поклонился дьякону в ноги. — За то, что я подумал, что у вас в голове есть идеи! — Удивляюсь я, как это ваша дочь, при всей своей красоте и невинном поведении, не вышла до сих пор замуж! — сказал Никодим Егорыч Потычкин, полезая на верхнюю полку. Никодим Егорыч был гол, как и всякий голый человек, но на его лысой голове была фуражка. Боясь прилива к голове и апоплексического удара, он всегда парился в фуражке. Его собеседник Макар Тарасыч Пешкин, маленький старичок с тонкими синими ножками, в ответ на его вопрос пожал плечами и сказал: — А потому она не вышла, что характером меня бог обидел. Смирен я и кроток очень, Никодим Егорыч, а нынче кротостью ничего не возьмешь. Жених нынче лютый — с ним и обходиться нужно сообразно. — То есть, как же лютый? С какой это вы точки? — Балованный жених… С ним как надо? Строгость нужна, Никодим Егорыч. Стесняться с ним не следовает, Никодим Егорыч. К мировому, по мордасам, за городовым послать — вот как надо! Негодный народ. Пустяковый народ. Приятели легли рядом на верхней полке и заработали вениками. — Пустяковый… — продолжал Макар Тарасыч. — Натерпелся я от их, каналиев. Будь я характером посолиднее, моя Даша давно бы уже была замужем и деток рожала. Да-с… Старых девок теперь, в женском поле, сударь мой, ежели по чистой совести, половина на половину, пятьдесят процентов. И заметьте, Никодим Егорыч, каждая из этих самых девок в молодых годах женихов имела. А почему, спрашивается, не вышла? По какой причине? А потому, что удержать его, жениха-то, родители не смогли, дали ему отвертеться. — Это верно-с. — Мужчина нынче балованный, глупый, вольнодумствующий. Любит он всё это на шерамыжку да с выгодой. Задаром он тебе и шагу не ступит. Ты ему удовольствие, а он с тебя же деньги требует. Ну, и женится тоже не без мыслей. Женюсь, мол, так деньгу зашибу. Это бы еще ничего, куда ни шло — ешь, лопай, бери мои деньги, только женись на моем дите, сделай такую милость, но бывает, что и с деньгами наплачешься, натерпишься горя-гореванского. Иной сватается-сватается, а как дойдет до самой точки, до венца, то и назад оглобли, к другой идет свататься. Женихом хорошо быть, одно удовольствие. Его и накормят, и напоят, и денег взаймы дадут — чем не жизнь? Ну, и строит из себя жениха до старости лет, покуда смерть — и жениться ему не нужно. И уж лысина во всю голову, и седой весь, и колени гнутся, а он всё жених. А то бывают, которые не женятся по глупости… Глупый человек сам не знает, что ему надобно, ну и перебирает: то ему нехорошо, другое неладно. Ходит-ходит, сватается-сватается, а потом вдруг ни с того ни с сего: «Не могу, говорит, и не желаю». Да вот хоть взять, к примеру, господина Катавасова, первого Дашиного жениха. Учитель гимназии, титулярный тоже советник… Науки все выучил, по-французски, по-немецки… математик, а на поверку вышел болван, глупый человек — и больше ничего. Вы спите, Никодим Егорыч? — Нет, зачем же-с? Это я закрыл глаза от удовольствия… — Ну, вот… Начал он около моей Даши ходить. А надо вам заметить, Даше тогда и двадцати годочков еще не было. Такая была девица, что просто всем на удивление. Финик! Полнота, формалистика в теле и прочее. Статский советник Цицеронов-Гравианский — по духовному ведомству служит — на коленях ползал, чтоб к нему в гувернантки пошла — не захотела! Начал Катавасов ходить к нам. Ходит каждый день и до полночи сидит, всё с ней про разные науки там и физики… Книжки ей носит, музыку ее слушает… Всё больше на книжки напирает. Даша-то моя сама ученая, книги ей вовсе не надобны, баловство одно только, а он — то прочти, другое прочти; надоел до смерти. Полюбил ее, вижу. И она, заметно, ничего. «Не нравится, говорит, он мне за то, что он, папаша, не военный». Не военный, а все-таки ничего. Чин есть, благородный, сытый, трезвый — чего же тут еще? Посватался. Благословили.. Про приданое не спросил даже. Молчок… Словно он не человек, а дух бесплотный, и без приданого может. Назначили и день, когда венчать. И что же вы думаете? А? За три дня до свадьбы приходит ко мне в лавку этот самый Катавасов. Глаза красные, личность бледная, словно с перепугу, весь дрожит. Что угодно-с? — «Извините, говорит, Макар Тарасыч, но я жениться на Дарье Макаровне не могу. Я, говорит, ошибся. Я, говорит, взирая на ее цветущую молодость и наивность, думал найти в ней почву, так сказать, свежесть, говорит, душевную, а она уже успела приобрести склонности, говорит. Она наклонна, говорит, к мишуре, не знает труда, с молоком матери всосала…» И не помню, что она там всосала… Говорит, а сам плачет. А я? Я, сударь мой, побранился только, отпустил его. И к мировому не сходил и начальству его не жаловался, по городу не срамил. Пойди я к мировому, так, небось, испугался бы срама, женился бы. Начальство, небось, не поглядело бы, что она там всосала. Коли смутил девку, так и женись. Купец вон Клякин, — слышали? — даром что мужик, а поди-кася какую штуку того… У него жених тоже упорствовать стал, в приданом заметил что-то как будто не то, так он, Клякин-то, завел его в кладовую, заперся, вынул, знаете ли, из кармана большой револьвер с пулями, как следует заряженный, и говорит: «Побожись, говорит, перед образом, что женишься, а то, говорит, убью сию минуту, подлец этакой. Сию минуту!» Побожился и женился молодчик. Вот видите. А я бы так не способен. И драться даже не того… Увидал мою Дашу консисторский чиновник, хохол Брюзденко. Тоже из духовного ведомства. Увидал и влюбился. Ходит за ней красный как рак, бормочет разные слова, и изо рта у него жар пышет. Днем у нас сидит, а ночью под окнами ходит. И Даша его полюбила. Глаза его хохлацкие ей понравились. В них, говорит, огонь и черная ночь. Ходил-ходил хохол и посватался. Даша, можно сказать, в восторге и восхищении, дала свое согласие. — «Я, говорит, папаша, понимаю, это не военный, но всё же из духовного ведомства, а это всё равно, что интендантство, и поэтому я его очень люблю». Девица, а тоже поди разбирает нынче: интендантство! Осмотрел хохол приданое, поторговался со мной и только носом покрутил — на всё согласен, свадьбу бы только поскорей; но в тот самый день, как обручать, поглядел на гостей да как схватит себя за голову. «Батюшки, говорит, сколько у них родни! Не согласен! Не могу! Не желаю!» И пошел и пошел… Я уж и так и этак… Да ты, говорю, ваше высокородие, с ума сошел, что ли? Ведь больше чести, ежели родни много! Не соглашается! Взял шапку да и был таков. Был и такой случай. Посватал мою Дашу лесничий Аляляев. Полюбил ее за ум и поведение… Ну и Даша его полюбила. Характер его положительный ей нравился. Человек он, действительно, хороший, благородный. Посватался и всё, этак, обстоятельно. Приданое всё до тонкостей осмотрел, все сундуки перерыл, Матрену поругал за то, что та салопа от моли не уберегла. И мне реестрик своего имущества доставил. Благородный человек, грех про него что худое сказать. Нравился он мне, признаться, до чрезвычайности. Торговался он со мной два месяца. Я ему восемь тысяч даю, а он просит восемь с половиной. Торговались-торговались; бывало, сядем чай пить, выпьем по пятнадцати стаканов, и всё торгуемся. Я ему двести накинул — не хочет! Так и разошлись из-за трехсот рублей. Уходил, бедный, и плакал… Уж больно любил Дашу! Ругаю теперь себя, грешный человек, истинно ругаю. Было б мне отдать ему триста или же попугать, на весь город посрамить, или завести бы в темную комнатку да по мордасам. Прогадал я, вижу теперь, что прогадал, дурака сломал. Ничего не поделаешь, Никодим Егорыч: характер у меня тихий! — Смирны очень. Это верно-с. Ну, я пойду, пора… Голова тяжела стала… Никодим Егорыч в последний раз ударил себя веником и спустился вниз. Макар Тарасыч вздохнул и еще усерднее замахал веником. Разговор человека с собакой Была лунная морозная ночь. Алексей Иваныч Романсов сбил с рукава зеленого чёртика, отворил осторожно калитку и вошел во двор. — Человек, — философствовал он, обходя помойную яму и балансируя, — есть прах, мираж, пепел… Павел Николаич губернатор, но и он пепел. Видимое величие его — мечта, дым… Дунуть раз и — нет его! — Рррр… — донеслось до ушей философа. Романсов взглянул в сторону и в двух шагах от себя увидел громадную черную собаку из породы степных овчарок и ростом с доброго волка. Она сидела около дворницкой будки и позвякивала цепью. Романсов поглядел на нее, подумал и изобразил на своем лице удивление. Затем он пожал плечами, покачал головой и грустно улыбнулся. — Рррр… — повторила собака. — Нне понимаю! — развел руками Романсов. — И ты… ты можешь рычать на человека? А? Первый раз в жизни слышу. Побей бог… Да нешто тебе не известно, что человек есть венец мироздания? Ты погляди… Я подойду к тебе… Гляди вот… Ведь я человек? Как, по-твоему? Человек я или не человек? Объясняй! — Рррр… Гав! — Лапу! — протянул Романсов собаке руку. — Ллапу! Не даете? Не желаете? И не нужно. Так и запишем. А пока позвольте вас по морде… Я любя… — Гав! Гав! Ррр… гав! Авав! — Аааа… ты кусаться? Очень хорошо, ладно. Так и будем помнить. Значит, тебе плевать на то, что человек есть венец мироздания… царь животных? Значит, из этого следует, что и Павла Николаича ты укусить можешь? Да? Перед Павлом Николаичем все ниц падают, а тебе что он, что другой предмет — всё равно? Так ли я тебя понимаю? Ааа… Так, стало быть, ты социалист? Постой, ты мне отвечай… Ты социалист? — Ррр… гав! гав! — Постой, не кусайся… О чем, бишь, я?.. Ах, да, насчет пепла. Дунуть и — нет его! Пфф! А для чего живем, спрашивается? Родимся в болезнях матери, едим, пьем, науки проходим, помираем… а для чего всё это? Пепел! Ничего не стоит человек! Ты вот собака и ничего не понимаешь, а ежели бы ты могла… залезть в душу! Ежели бы ты могла в психологию проникнуть! Романсов покрутил головой и сплюнул. — Грязь… Тебе кажется, что я, Романсов, коллежский секретарь… царь природы… Ошибаешься! Я тунеядец, взяточник, лицемер!.. Я гад! Алексей Иваныч ударил кулаком себя по груди и заплакал. — Наушник, шептун… Ты думаешь, что Егорку Корнюшкина не через меня прогнали? А? А кто, позвольте вас спросить, комитетские двести рублей зажилил да на Сургучова свалил? Нешто не я? Гад, фарисей… Иуда! Подлипала, лихоимец… сволочь! Романсов вытер рукавом слезы и зарыдал. — Кусай! Ешь! Никто отродясь мне путного слова не сказал… Все только в душе подлецом считают, а в глаза кроме хвалений да улыбок — ни-ни! Хоть бы раз кто по морде съездил да выругал! Ешь, пес! Кусай! Рррви анафему! Лопай предателя! Романсов покачнулся и упал на собаку. — Так, именно так! Рви мордализацию! Не жалко! Хоть и больно, а не щади. На, и руки кусай! Ага, кровь течет! Так тебе и нужно, шмерцу! Так! Мерси, Жучка.. или как тебя? Мерси… Рви и шубу. Всё одно, взятка… Продал ближнего и купил на вырученные деньги шубу… И фуражка с кокардой тоже… Однако о чем, бишь, я?.. Пора идти… Прощай, собачечка… шельмочка… — Рррр. Романсов погладил собаку и, дав ей еще раз укусить себя за икру, запахнулся в шубу и, пошатываясь, побрел к своей двери… Проснувшись на другой день в полдень, Романсов увидел нечто необычайное. Голова, руки и ноги его были в повязках. Около кровати стояли заплаканная жена и озабоченный доктор. О марте. Об апреле. О мае. Об июне и июле. Об августе. (Филологические заметки) Месяц март получил свое название от Марса, который, если верить учебнику Иловайского[83], был богом войны. Формулярный список этого душки-военного затерян, а посему о личности его почти ничего не известно. Судя по характеру его амурных предприятий и кредиту, которым пользовался он у Бахуса, следует думать, что он, занимая должность бога войны, был причислен к армейской пехоте и имел чин не ниже штабс-капитана. Визитная карточка его была, вероятно, такова: «Штабс-капитан Марс, бог войны». Стало быть, март есть месяц военных и всех тех, кои к военному ведомству прикосновенность имеют: интендантов, военных врачей, батальных художников, институток и проч. Числится в штате о рангах третьим месяцем в году и имеет с дозволения начальства 31 день. Римляне в этом месяце праздновали так называемые Гилярии — торжество в честь Никиты Гилярова-Платонова и богини Цибеллы.[84] Цибеллой называлась богиня земли. Из ее метрической выписи явствует, что она была дочкой Солнца, женою Сатурна, матерью Юпитера, — одним словом, особой астрономической, имеющей право на казенную квартиру в Пулковской обсерватории. Изобрела тамбур, тромбон, свирель и ветеринарное искусство. Была, стало быть, и музыкантшей и коновалом — комбинация, современным музыкантшам неизвестная. В этом же месяце римляне праздновали и именины Венеры, богини любви, брака (законного и незаконного), красоты, турнюров и ртутных мазей. Родилась эта Венера из пены морской таким же образом, как наши барышни родятся из кисеи. Была женою хромого Вулкана, чеканившего для богов фальшивую монету и делавшего тонкие сети для ловли храбрых любовников. Состояла на содержании у всех богов и бескорыстно любила одного только Марса. Когда ей надоедали боги, она сходила на землю и заводила здесь интрижки с чиновниками гражданского ведомства: Энеем, Адонисом и другими. Покровительствует дамским парикмахерам, учителям словесности и доктору Тарновскому. В мартовский праздник ей приносили в жертву котов и гимназистов, начинающих влюбляться обыкновенно с марта. У наших предков март назывался Березозолом. Карамзин думал, что наши предки жгли в марте березовый уголь, откуда, по его мнению, и произошло прозвище Березозол. Люди же, которых много секли, знают, что это слово происходит от слова «береза» и «зла»[85], ибо никогда береза не работает так зло и энергично, как перед экзаменами. У нашего Нестора март был первым месяцем в году. У римлян тоже. Апрель получил свое название от латинского глагола 4-го спряжения aperire, что значит открывать, разверзать, ибо в этом месяце земля разверзается для того, чтобы выпустить из себя растения. Так у юноши разверзается подбородок, чтобы дать беспрепятственный пропуск желающей расти бороде. В царствование Нерона этот месяц был назван Neroneus за заслуги, оказанные Нероном отечеству, но потом, по недосмотру римской полиции и по охлаждении римского патриотизма, утерял это прозвище. Имеет 30 дней по числу иудиных сребреников.[86] На памятниках древности этот месяц изображается брандахлыстом, пляшущим, подмигивающим левым глазом и с поднятыми фалдами. В руках его кастаньеты, у ног свирель, из кармана глядит полуштоф. Очевидно, был пьяницей, знал много скабрезных анекдотов и жил на неопределенные средства. Обыкновенно перед его изображением ставилась статуя Венеры. На подножии этой статуи юный читатель мог бы усмотреть немало геометрических фигур, относящихся к подобию треугольников и к учению о пределах. Как Апрель, так и Венера в геометрии ничего не смыслили, а посему здесь следует усматривать аллегорию: для наслаждений любви можно попрать ногами даже геометрию — смысл, если принять во внимание близость экзаменов, губительный! Предки наши именовали апрель кветенем, или цветенем, в честь цветов, которые цветут в этом месяце в цветочных горшках Петербургской стороны и на физиономиях юнкеров. Обычай надувать ближних в первый день апреля существует всюду, даже на берегу Маклая.[87] О происхождении этого обычая толкуют различно. Одни говорят, что он получил свое начало в Ост-Индии, где индусы в этот день занимаются невинным надувательством: посылают друг друга в разные места под вымышленными предлогами и потом хохочут над обманутыми. Другие же ставят этот обычай в связь с отчетами, которые в древности изготовляли чиновники консисторий к первому апреля. Ввиду того, что взаимное надувательство стало в наше время явлением обыденным, обычай этот утерял свою соль и стал постепенно стушевываться; в старину же, когда меньше врали, он был в большой моде. Рассказывают, что в один из первых апрелей труппа немецких актеров, дававших представления в Петербурге во времена Петра, пообещала «блистательное представление» и, когда в театр припожаловала публика, вывесила на занавесе транспарант с надписью «Первое апреля». Спектакля не было. Петр не рассердился на эту шутку[88] и только, выходя из театра, проговорил: «Вольность комедьянтов!» Если эта труппа не забыла собрать перед спектаклем с публики деньги, то нужно пожалеть, что не все наши актеры-современники знакомы с этим историческим анекдотом. Месяц любви, сирени и белых ночей. Месяц, когда поэты обвиняют соловьев в незаконном сожительстве с розами и когда даже отставные, заржавленные фельдфебеля поддаются нежной страсти. Получил он свое название по приказанию Ромула от majores — старшин, или сенаторов[89], которые за старостью лет заседали в римском сенате и посыпали песком деловые бумаги. Другие же говорят, что он назван в честь плеяды Майи, родившейся от Атланта. Маленький, но щекотливый вопрос: как мог Атлант стать отцом, если он должен был день и ночь, не отдыхая ни секунды, держать на плечах своды небесные? Оставляю этот вопрос открытым… Сама Майя родила биржевого зайца и гешефтмахера Меркурия.[90] У древних май был посвящен старости, и в этом месяце строжайше запрещалось вступать в брак.[91] Всякого, женившегося в этом месяце, называли азинусом, стультусом и тряпкой. «Май — месяц любви, но не брака, — пишет Корнелий Непот. — Не раскисайте же, граждане, и не попадайте на удочку! Знайте, что майская любовь кончается в начале июня и то, что в мае казалось вашей разгоряченной фантазии эфиром, в июне будет казаться бревном» (XXVI, 7). По мнению россиян, кто женится в мае, тот будет весь век маяться — и это справедливо. У астрономов май занимает в эклиптике третье место и солнце вступает в знак близнецов, у дачниц же он занимает первое место, так как военные выступают в лагери. Если лагери находятся близко к дачам, то знак близнецов может служить предостережением: не увлекайтесь в мае, чтобы зимою не иметь дела с двойнями! В мае родятся майские жуки, майоры и поэты la Майков. В мае и в августе русские люди ходят в шубах и щелкают зубами; следовательно, русское лето состоит только из июня и июля. Среди дачных бурь и штилей, в вихре Цукк и Монбазонш[92], эти два месяца проходят так быстро, что пора уже считать их за один месяц, тем более, что оба они начинаются с ию, стоят в календаре рядышком и оба потогонны… Соединение двух месяцев в один повело бы за собой уменьшение расходов: 20-е число случилось бы однажды, а не дважды. Июнь получил свое название от слова junior, что значит юноша, гимназист, ибо в этом месяце гимназисты созревают и хотя, созревши, плода не дают, но тем не менее получают аттестаты зрелости. Месяц всякого рода плодов. Поселянин собирает в житницы плоды своего годового труда и кладет зубы на полку. Кабатчики получают долги, кулаки почивают от дел. Изобилие плодов земных поражает иностранца в такой степени, что у него делаются схватки: среднее яблоко стоит 50 коп., груша — рубль, а покупка арбуза влечет за собою карманную чахотку. Барыни едут ради виноградного лечения в Ялту, где виноград только вдвое дороже, чем в Гельсингфорсе… Август плодовит во всех отношениях. Тот ненастный вечер, в который дева шла в пустынных местах и держала в трепетных руках плод, был именно в августе.[100] Плоды же злонравия поспевают у нас ежемесячно. У римлян август был шестым в году и назывался sextilis’ом, у нас же он восьмой и называется августом в честь римского императора Августа[101], основавшего, как известно, августинский орден и сочинившего романс «Ах, мейн либер Августин».[102] В этом месяце солнце вступает в знак Девы, отчего природа приобретает вид томный, кислый, меланхолический. Всё, что веселило взор летом, в августе наводит уныние. Листья желтеют, трава ржавеет, дачники чумеют и бегут с дач в города, где поедаются живьем домовладельцами. Дни становятся короче, точно дневной свет поступает в ведение интендантского ведомства, печенки, ревматизмы и злые жены разыгрываются, как неподмазанные двери во время сквозного ветра. Светлые брюки, соломенные шляпы, пикейные жилетки, кители, крылатки — всё это посыпается от моли вонючим нафталином и прячется на чертовски долгое время в мамашины или бабушкины сундуки. Одетые в чиновничьи капюшоны на вате, идут театральный, учебный и свадебный сезоны. Кто летом ленился, шалил и родителей не слушался, тот в августе учись или женись… Умнее всех оказываются в августе птицы и медведи. Первые собираются толпами и стараются улететь как можно подальше от зимы с ее увеселениями, рецензиями, единицами, сугробами, вторые же берут лапы в зубы, безмятежно засыпают и будут спать, несмотря ни на что; даже если Цукки согласится остаться на всю зиму в России, и тогда они не проснутся. В августе начинается так называемое «бабье лето», когда природа — совершенная баба: то улыбается, то куксит. У наших предков август назывался серпенем. «В первых числах сего серпения, — писали предки, — секретарь Обдиранский купно с делопроизводителем Облупанским заткнули за пояс Мамая»… Не тлетворные мысли Хотите, чтобы на Северном полюсе произрастали финики и ананасы? Пошлите туда секретарей духовных консисторий и письмоводителей врачебных управ. Лучше их никто не сумеет нагреть место. Всё в природе целесообразно. Преображая человека под конец его жизни в песочницу, природа тем самым засыпает чернильные кляксы, произведенные им в продолжение всей его жизни… И дальние родственники суть наши ближние. Люби их. Не место красит человека, а человек место. Посему не театр красит городового, стоящего у театрального подъезда, а городовой красит театр. Лучше развратная канарейка, чем благочестивый волк. Если жена твоя часто плачет, то употребляй промокательную бумагу. Не остроумно, но зато практично. Оба лучше — Непременно же, mes enfants[103], заезжайте к баронессе Шепплинг (через два «п»)… — повторила в десятый раз теща, усаживая меня и мою молодую жену в карету. — Баронесса моя старинная приятельница… Навестите кстати и генеральшу Жеребчикову… Она обидится, если вы не сделаете ей визита… Мы сели в карету и поехали делать послесвадебные визиты. Физиономия моей жены, казалось мне, приняла торжественное выражение, я же повесил нос и впал в меланхолию… Много несходств было между мной и женой, но ни одно из них не причиняло мне столько душевных терзаний, как несходство наших знакомств и связей. В списке жениных знакомых пестрели полковницы, генеральши, баронесса Шепплинг (через два «п»), граф Дерзай-Чертовщинов и целая куча институтских подруг-аристократок; с моей же стороны было одно сплошное моветонство: дядюшка, отставной тюремный смотритель, кузина, содержащая модную мастерскую, чиновники-сослуживцы — все горькие пьяницы и забулдыги, из которых ни один не был выше титулярного, купец Плевков и проч. Мне было совестно… Чтобы избегнуть срама, следовало бы вовсе не ехать к моим знакомым, но не поехать значило бы навлечь на себя множество нареканий и неприятностей. Кузину еще, пожалуй, можно было похерить, визиты же к дяде и Плевкову были неизбежны. У дяди я брал деньги на свадебные расходы, Плевкову был должен за мебель. — Сейчас, душончик, — стал я подъезжать к своей супруге, — мы приедем к моему дяде Пупкину. Человек старинного, дворянского рода… дядя у него викарием в какой-то епархии, но оригинал и живет по-свински; т. е. не викарий живет по-свински, а он сам, Пупкин… Везу тебя, чтобы дать тебе случай посмеяться… Болван ужасный… Карета остановилась около маленького, трехоконного домика с серыми, заржавленными ставнями. Мы вышли из кареты и позвонили… Послышался громкий собачий лай, за лаем внушительное «цыц, проклятая!», визг, возня за дверью… После долгой возни дверь отворилась, и мы вошли в переднюю… Нас встретила моя кузина Маша, маленькая девочка в материнской кофте и с запачканным носом. Я сделал вид, что не узнал ее, и пошел к вешалке, на которой рядом с дядюшкиной лисьей шубой висели чьи-то панталоны и накрахмаленная юбка. Снимая калоши, я робко заглянул в залу. Там за столом сидел мой дядюшка в халате и в туфлях на босую ногу. Надежда не застать его дома обратилась во прах… Прищурив глаза и сопя на весь дом, он вынимал проволокой из водочного графина апельсиновые корки. Вид имел он озабоченный и сосредоточенный, словно телефон выдумывал. Мы вошли… Увидав нас, Пупкин застыдился, выронил из рук проволоку и, подобрав полы халата, опрометью выбежал из залы… — Я сейчас! — крикнул он. — Ударился в бегство… — засмеялся я, сгорая со стыда и боясь взглянуть на жену. — Не правда ли, Соня, смешно? Оригинал страшный… А погляди, какая мебель! Стол о трех ножках, параличное фортепиано, часы с кукушкой… Можно подумать, что здесь не люди живут, а мамонты… — Это что нарисовано? — спросила жена, рассматривая картины, висевшие вперемежку с фотографическими карточками. — Это старец Серафим в Саровской пустыни медведя кормит…[104] А это портрет викария, когда он еще был инспектором семинарии… Видишь, «Анну» имеет… Личность почтенная… Я… (я высморкался). Но ничего мне не было так совестно, как запаха… Пахло водкой, прокисшими апельсинами, скипидаром, которым дядя спасался от моли, кофейной гущей, что в общем давало пронзительную кислятину… Вошел мой кузен Митя, маленький гимназистик с большими оттопыренными ушами, и шаркнул ножкой… Подобрав апельсинные корки, он взял с дивана подушку, смахнул рукавом пыль с фортепиано и вышел… Очевидно, его прислали «прибрать»… — А вот и я! — заговорил наконец дядя, входя и застегивая жилетку. — А вот и я! Очень рад… весьма! Садитесь, пожалуйста! Только не садитесь на диван: задняя ножка сломана. Садись, Сеня! Мы сели… Наступило молчание, во время которого Пупкин поглаживал себя по колену, а я старался не глядеть на жену и конфузился. — Мда… — начал дядя, закуривая сигару (при гостях он всегда курит сигары). — Женился ты, стало быть… Так-с… С одной стороны, это хорошо… Милое существо около, любовь, романсы; с другой же стороны, как пойдут дети, так пуще волка взвоешь! Одному сапоги, другому штанишки, за третьего в гимназию платить надо… и не приведи бог! У меня, слава богу, жена половину мертвых рожала. — Как ваше здоровье? — спросил я, желая переменить разговор. — Плохо, брат! Намедни весь день провалялся… Грудь ломит, озноб, жар… Жена говорит: прими хинины и не раздражайся… А как тут не раздражаться? С утра приказал почистить снег у крыльца, и хоть бы тебе кто! Ни одна шельма ни с места… Не могу же я сам чистить! Я человек болезненный, слабый… Во мне скрытый геморрой ходит. Я сконфузился и начал громко сморкаться. — Или, может быть, у меня это от бани… — продолжал дядя, задумчиво глядя на окно. — Может быть! Был я, знаешь, в четверг в бане… часа три парился. А от пару геморрой еще пуще разыгрывается… Доктора говорят, что баня для здоровья нехорошо… Это, сударыня, неправильно… Я сызмальства привык, потому — у меня отец в Киеве на Крещатике баню держал… Бывало, целый день паришься… Благо не платить… Мне стало невыносимо совестно. Я поднялся и, заикаясь, начал прощаться. — Куда же это так? — удивился дядя, хватая меня за рукав. — Сейчас тетка выйдет! Закусим, чем бог послал, наливочки выпьем!.. Солонинка есть, Митя за колбасой побежал… Экие вы, право, церемонные! Загордился, Сеня! Нехорошо! Венчальное платье не у Глаши заказал! Моя дочь, сударыня, белошвейную держит… Шила вам, я знаю, мадам Степанид, да нешто Степанидка с нами сравняется! Мы бы и дешевле взяли… Не помню, как я простился с дядей, как добрался до кареты… Я чувствовал, что я уничтожен, оплеван, и ждал каждое мгновение услышать презрительный смех институтки-жены… «А какой мове-жанр ждет нас у Плевкова! — думал я, леденея от ужаса. — Хоть бы скорее отделаться, чёрт бы их взял совсем! И на мое несчастье — ни одного знакомого генерала! Есть один знакомый полковник в отставке, да и тот портерную держит! Ведь этакий я несчастный!» — Ты, Сонечка, — обратился я к жене плачущим голосом, — извини, что я возил тебя сейчас в тот хлев… Думал дать тебе случай посмеяться, понаблюдать типы… Не моя вина, что вышло так пошло, мерзко… Извиняюсь… Я робко взглянул на жену и увидал больше, чем мог ожидать при всей моей мнительности. Глаза жены были налиты слезами, на щеках горел румянец не то стыда, не то гнева, руки судорожно щипали бахрому у каретного окна.. Меня бросило в жар и передернуло… «Ну, начинается мой срам!» — подумал я, чувствуя, как наливаются свинцом мои руки и ноги. — Но не виноват же я, Соня! — вырвался у меня вопль. — Как, право, глупо с твоей стороны! Свиньи они, моветоны, но ведь не я же произвел их в свои родичи! — Если тебе не нравятся твои простяки, — всхлипнула Соня, глядя на меня умоляющими глазами, — то мои и подавно не понравятся… Мне совестно, и я никак не решусь тебе высказать… Голубчик, миленький… Сейчас баронесса Шепплинг начнет тебе рассказывать, что мама служила у нее в экономках и что мы с мамой неблагодарные, не благодарим ее за прошлые благодеяния теперь, когда она впала в бедность… Но ты не верь ей, пожалуйста! Эта нахалка любит врать… Клянусь тебе, что к каждому празднику мы посылаем ей голову сахару и фунт чаю! — Да ты шутишь, Соня! — удивился я, чувствуя, как свинец оставляет мои члены и как по всему телу разливается живительная легкость. — Баронессе голову сахару и фунт чаю!.. Ах! — А когда увидишь генеральшу Жеребчикову, то не смейся над ней, голубчик! Она такая несчастная! Если она постоянно плачет и заговаривается, то это оттого, что ее обобрал граф Дерзай-Чертовщинов. Она будет жаловаться на свою судьбу и попросит у тебя взаймы; но ты… тово… не давай… Хорошо бы, если б она на себя потратила, а то всё равно графу отдаст! — Мамочка… ангел! — принялся я от восторга обнимать жену. — Зюмбумбунчик мой! Да ведь это сюрприз! Скажи ты мне, что твоя баронесса Шепплинг (через два «п») нагишом по улице ходит, то ты бы меня еще больше разодолжила! Ручку! И мне вдруг стало жаль, что я отказался у дяди от солонины, не побренчал на его параличном фортепиано, не выпил наливочки… Но тут мне вспомнилось, что у Плевкова подают хороший коньяк и поросенка с хреном. — Валяй к Плевкову! — крикнул я во всё горло вознице. Тост прозаиков — Проза остается прозой даже тогда, когда кружится голова и вальсируют чувства. Как бы ни накалили вы кремень, а из него не сделать вам кружев; каким бы веселящим нектаром вы ни напоили прозаика, а из него не выжать вам легкого, веселящего экспромта! Не моя вина, если требуемый от меня тост заставит вас нахмуриться и если мой веселый сосед потянет меня за рукав и призовет к порядку. Я смущен, коллеги, и невесело мне! Если бы не было обычая на юбилейных обедах смеяться, то я пригласил бы вас плакать… Если человек прожил двадцать лет, то он еще так молод, что ему запрещают жениться; если же журнал перевалил через двадцать, то его ставят в пример долговечности. Это раз… Во-вторых, журнал прожил двадцать лет, а среди нашей обедающей братии нет ни одного, который имел бы право назвать себя ветераном «Будильника», нет, кажется, ни одного, который мог бы сказать, что он работал в нашем журнале более десяти лет. Я лично числюсь в штате прозаиков пять-шесть лет, не больше, а между тем три четверти из вас — мои младшие коллеги, и все вы величаете меня старым сотрудником. Хорош старик, у которого нет еще порядочных усов и из которого бьет таким ключом самая настоящая молодость! Журналы недолговечны, пишущие же еще недолговечнее… Прожил «Будильник» только двадцать лет, а попал уже в старики и пережил чуть ли не двадцать поколений сотрудников. Словно индейские племена исчезали одно за другим эти поколения… Родится и, не расцвев, увядает… Смешно: по «Будильнику» мы имеем предков! Где же они? Одни умерли… Каждый год, и почему-то непременно осенью, нам приходится хоронить кого-либо из коллег… Сбежишь не только в частные поверенные или нотариусы, но и подальше: в кондуктора, в почтальоны, в литографы! Я видел третьих, которые просто сознавались мне, что они отупели… И все эти смерти, дезертирства, отупения и прочие метаморфозы происходят в удивительно короткий срок. Право, можно подумать, что судьба принимает толпу пишущих за коробку спичек! Не стану я объяснять этой недолговечности, но ею берусь объяснить многое. Объясняю я ею такое печальное явление, как отсутствие окрепших, сформировавшихся и определившихся талантов. Объясняю отсутствие школ и руководящих традиций. В ней же вижу причину мрачного взгляда, установившегося в некоторых на журнальные судьбы. Но что наиболее всего смущает меня, так это то, что та же самая недолговечность является симптомом жизни тяжелой, нездоровой. Если, коллеги, этот порядок, тянувшийся в течение двадцати лет, естественен и имеет своим конечным пунктом благо, то пусть он и остается. Если же он явление болезненное и указывает только на нашу слабость и неуменье выходить из борьбы целым, то пусть он уступит свое место другому порядку. За новый порядок, за нашу целость! Женский тост — Господа! После тоста иностранного не трудно перейти к тостам странным, но я уберегусь от этой опасности и провозглашу — женский тост! Жалею, что, идя сюда на обед, я не захватил с собой крупповской пушки, чтобы салютовать в честь женщин. Женщина по Шекспиру ничтожество, а по-моему она — всё! (Крики: довольно! садитесь!) Без нее мир был бы то же, что скрипач без скрипки, что без пистолета прицел и без кларнета клапан. (Не остро! садитесь!) Лично же для нас женщину не может заменить никакой аванс. Скажите вы мне, поэты, кто вдохновлял вас и вливал в ваши холодные жилы огонь, когда вы в прекрасные лунные ночи, возвратившись из rendez-vous, садились за стол и писали стихотворения, которые частью вам возвращались редакцией, частью же, за недостатком материала, печатались, претерпев значительное сокращение? А вы, юмористы-прозаики, неужели не согласитесь с тем, что ваши рассказы утеряли бы девять десятых своей смехотворности, если бы в них отсутствовала женщина? Не самые ли лучшие те анекдоты, соль которых прячется в длинных шлейфах и турнюрах? Вам, художникам, нет надобности напоминать, что многие из вас сидят здесь только потому, что умеют изображать женщин. Научившись рисовать женщину с ее хаосом лифов, оборок, тюников, фестончиков, переживя карандашом все капризы ее юродствующей моды, вы прошли такую тяжелую школу, после которой изобразить вам какую-нибудь «Вальпургиеву ночь» или «Последний день Помпеи» — раз плюнуть! Господа, кто разрешает от бремени наши карманы, кто нас любит, пилит, прощает, обирает? Кто услаждает и отравляет наше существование? (Старо! будет!) Кто украшает своим присутствием нашу сегодняшнюю трапезу? Ах! Немного спустя и выйдя отсюда, мы будем слабы, беззащитны… Расшатанные, сядем мы на извозчиков и, клюя носом, забыв адресы наших квартир, поедем странствовать во тьме. И кто же, какая светлая звезда встретит нас в конечном пункте нашего странствования? Всё та же женщина! Уррррааа! Правила для начинающих авторов (Юбилейный подарок — вместо почтового ящика) Всякого только что родившегося младенца следует старательно омыть и, давши ему отдохнуть от первых впечатлений, сильно высечь со словами: «Не пиши! Не пиши! Не будь писателем!» Если же, несмотря на такую экзекуцию, оный младенец станет проявлять писательские наклонности, то следует попробовать ласку. Если же и ласка не поможет, то махните на младенца рукой и пишите «пропало». Писательский зуд неизлечим. Путь пишущего от начала до конца усыпан тернием, гвоздями и крапивой, а потому здравомыслящий человек всячески должен отстранять себя от писательства. Если же неумолимый рок, несмотря на все предостережения, толкнет кого-нибудь на путь авторства, то для смягчения своей участи такой несчастный должен руководствоваться следующими правилами: 1) Следует помнить, что случайное авторство и авторство а propos лучше постоянного писательства. Кондуктору, пишущему стихи, живется лучше, чем стихотворцу, не служащему в кондукторах. 2) Следует также зарубить себе на носу, что неудача на литературном поприще в тысячу раз лучше удачи. Первая наказуется только разочарованием да обидною откровенностью почтового ящика, вторая же влечет за собою томительное хождение за гонораром, получение гонорара купонами 1899 года, «последствия» и новые попытки. 3) Писанье как «искусство для искусства» выгоднее, чем творчество за презренный металл. Пишущие домов не покупают, в купе первого класса не ездят, в рулетку не играют и стерляжьей ухи не едят. Пища их — мед и акриды приготовления Саврасенкова[105], жилище меблированные комнаты, способ передвижения — пешее хождение. 4) Слава есть яркая заплата на ветхом рубище певца[106], литературная же известность мыслима только в тех странах, где за уразумением слова «литератор» не лезут в «Словарь 30 000 иностранных слов».[107] 5) Пытаться писать могут все без различия званий, вероисповеданий, возрастов, полов, образовательных цензов и семейных положений. Не запрещается писать даже безумным, любителям сценического искусства и лишенным всех прав. Желательно, впрочем, чтобы карабкающиеся на Парнас были по возможности люди зрелые, знающие, что слова «ехать» и «хлеб» пишутся через «ять». 6) Желательно, чтобы они по возможности были не юнкера и не гимназисты. 7) Предполагается, что пишущий, кроме обыкновенных умственных способностей, должен иметь за собою опыт. Самый высший гонорар получают люди, прошедшие огонь, воду и медные трубы, самый же низший — натуры нетронутые и неиспорченные. К первым относятся: женившиеся в третий раз, неудавшиеся самоубийцы, проигравшиеся в пух и прах, дравшиеся на дуэли, бежавшие от долгов и проч. Ко вторым: не имеющие долгов, женихи, непьющие, институтки и проч. 8) Стать писателем очень нетрудно. Нет того урода, который не нашел бы себе пары, и нет той чепухи, которая не нашла бы себе подходящего читателя. А посему не робей… Клади перед собой бумагу, бери в руки перо и, раздражив пленную мысль[108], строчи. Строчи о чем хочешь: о черносливе, погоде, говоровском квасе[109], Великом океане, часовой стрелке, прошлогоднем снеге… Настрочивши, бери в руки рукопись и, чувствуя в жилах священный трепет, иди в редакцию. Снявши в передней калоши и справившись: «Тут ли г. редактор?», входи в святилище и, полный надежд, отдавай свое творение… После этого неделю лежи дома на диване, плюй в потолок и услаждай себя мечтами, через неделю же иди в редакцию и получай свою рукопись обратно. За сим следует обивание порогов в других редакциях… Когда все редакции уже обойдены и нигде рукопись не принята, печатай свое произведение отдельным изданием. Читатели найдутся. 9) Стать же писателем, которого печатают и читают, очень трудно. Для этого: будь безусловно грамотен и имей талант величиною хотя бы с чечевичное зерно. За отсутствием больших талантов, дороги и маленькие. 10) Будь порядочен. Не выдавай краденого за свое, не печатай одного и того же в двух изданиях зараз, не выдавай себя за Курочкина и Курочкина за себя, иностранное не называй оригинальным и т. д. Вообще помни десять заповедей. 11) В печатном мире существуют приличия. Здесь так же, как и в жизни, не рекомендуется наступать на любимые мозоли, сморкаться в чужой платок, запускать пятерню в чужую тарелку и т. д. 12) Если хочешь писать, то поступай так. Избери сначала тему. Тут дана тебе полная свобода. Можешь употребить произвол и даже самоуправство. Но, дабы не открыть во второй раз Америки и не изобрести вторично пороха, избегай тем, которые давным-давно уже заезжены. 13) Избрав тему, бери в руки незаржавленное перо и разборчивым, не каракулистым почерком пиши желаемое на одной стороне листа, оставляя нетронутой другую. Последнее желательно не столько ради увеличения доходов бумажных фабрикантов, сколько ввиду иных, высших соображений. 14) Давая волю фантазии, приудержи руку. Не давай ей гнаться за количеством строк. Чем короче и реже ты пишешь, тем больше и чаще тебя печатают. Краткость вообще не портит дела. Растянутая резинка стирает карандаш нисколько не лучше нерастянутой. 15) Написавши, подписывайся. Если не гонишься за известностью и боишься, чтобы тебя не побили, употреби псевдоним. Но памятуй, что какое бы забрало ни скрывало тебя от публики, твоя фамилия и твой адрес должны быть известны редакции. Это необходимо на случай, ежели редактор захочет тебя с Новым годом поздравить. 16) Гонорар получай тотчас же по напечатании. Авансов избегай. Аванс — это заедание будущего. 17) Получивши гонорар, делай с ним, что хочешь: купи себе пароход, осуши болото, снимись в фотографии, закажи Финляндскому колокол[110], увеличь женин турнюр в три раза… одним словом, что хочешь. Редакция, давая гонорар, дает и полную свободу действий. Впрочем, ежели сотрудник пожелает доставить редакции счет, из которого будет видно, как и куда истратил он свой гонорар, то редакция ничего не будет иметь против. 18) В заключение прочти еще раз первые строки этих «Правил». Мелюзга «Милостивый государь, отец и благодетель!» — сочинял начерно чиновник Невыразимов поздравительное письмо. «Желаю как сей Светлый день, так и многие предбудущие провести в добром здравии и благополучии. А также и семейству жел…» Лампа, в которой керосин был уже на исходе, коптила и воняла гарью. По столу, около пишущей руки Невыразимова, бегал встревоженно заблудившийся таракан. Через две комнаты от дежурной швейцар Парамон чистил уже в третий раз свои парадные сапоги, и с такой энергией, что его плевки и шум ваксельной щетки были слышны во всех комнатах. «Что бы еще такое ему, подлецу, написать?» — задумался Невыразимов, поднимая глаза на закопченный потолок. На потолке увидел он темный круг — тень от абажура. Ниже были запыленные карнизы, еще ниже — стены, выкрашенные во время оно в сине-бурую краску. И дежурная комната показалась ему такой пустыней, что стало жалко не только себя, но даже таракана… «Я-то отдежурю и выйду отсюда, а он весь свой тараканий век здесь продежурит, — подумал он, потягиваясь. — Тоска! Сапоги себе почистить, что ли?» И, еще раз потянувшись, Невыразимов лениво поплелся в швейцарскую. Парамон уже не чистил сапог… Держа в одной руке щетку, а другой крестясь, он стоял у открытой форточки и слушал… — Звонют-с! — шепнул он Невыразимову, глядя на него неподвижными, широко раскрытыми глазами. — Уже-с! Невыразимов подставил ухо к форточке и прислушался. В форточку, вместе со свежим весенним воздухом, рвался в комнату пасхальный звон. Рев колоколов мешался с шумом экипажей, и из звукового хаоса выделялся только бойкий теноровый звон ближайшей церкви да чей-то громкий, визгливый смех. — Народу-то сколько! — вздохнул Невыразимов, поглядев вниз на улицу, где около зажженных плошек мелькали одна за другой человеческие тени. — Все к заутрене бегут… Наши-то теперь, небось, выпили и по городу шатаются. Смеху-то этого сколько, разговору! Один только я несчастный такой, что должен здесь сидеть в этакий день. И каждый год мне это приходится! — А кто вам велит наниматься? Ведь вы не дежурный сегодня, а Заступов вас за себя нанял. Как людям гулять, так вы и нанимаетесь… Жадность! — Какой чёрт жадность? Не из чего и жадничать: всего два рубля денег да галстук на придачу… Нужда, а не жадность! А хорошо бы теперь, знаешь, пойти с компанией к заутрене, а потом разговляться… Выпить бы этак, закусить да и спать завалиться… Сидишь ты за столом, свяченый кулич, а тут самовар шипит и сбоку какая-нибудь этакая обжешка…[111] Рюмочку выпил и за подбородочек подержал, а оно и чувствительно… человеком себя чувствуешь… Эхх… пропала жизнь! Вон какая-то шельма в коляске проехала, а ты тут сиди да мысли думай… — Всякому свое, Иван Данилыч. Бог даст, и вы дослужитесь, в колясках ездить будете. — Я-то? Ну, нет, брат, шалишь. Мне дальше титулярного не пойти, хоть тресни… Я необразованный. — Наш генерал тоже без всякого образования, одначе… — Ну, генерал, прежде чем этого достигнуть, сто тысяч украл. И осанка, брат, у него не та, что у меня… С моей осанкой недалеко уйдешь! И фамилия преподлейшая: Невыразимов! Одним словом, брат, положение безвыходное. Хочешь — так живи, а не хочешь — вешайся… Невыразимов отошел от форточки и в тоске зашагал по комнатам. Рев колоколов становился всё сильнее и сильнее. Чтобы слышать его, не было уже надобности стоять у окна. И чем явственнее слышался звон, чем громче стучали экипажи, тем темнее казались бурые стены и законченные карнизы, тем сильнее коптила лампа. «Нешто удрать с дежурства?» — подумал Невыразимов. Но бегство это не обещало ничего путного… Выйдя из правления и пошатавшись по городу, Невыразимов отправился бы к себе на квартиру, а на квартире у него было еще серее и хуже, чем в дежурной комнате… Допустим, что этот день он провел бы хорошо, с комфортом, но что же дальше? Всё те же серые стены, всё те же дежурства по найму и поздравительные письма… Невыразимов остановился посреди дежурной комнаты и задумался. Потребность новой, лучшей жизни невыносимо больно защемила его за сердце. Ему страстно захотелось очутиться вдруг на улице, слиться с живой толпой, быть участником торжества, ради которого ревели все эти колокола и гремели экипажи. Ему захотелось того, что переживал он когда-то в детстве: семейный кружок, торжественные физиономии близких, белая скатерть, свет, тепло… Вспомнил он коляску, в которой только что проехала барыня, пальто, в котором щеголяет экзекутор, золотую цепочку, украшающую грудь секретаря… Вспомнил теплую постель, Станислава, новые сапоги, виц-мундир без протертых локтей… вспомнил потому, что всего этого у него не было… «Украсть нешто? — подумал он. — Украсть-то, положим, не трудно, но вот спрятать-то мудрено… В Америку, говорят, с краденым бегают, а чёрт ее знает, где эта самая Америка! Для того, чтобы украсть, тоже ведь надо образование иметь». Звон утих. Слышался только отдаленный шум экипажей да кашель Парамона, а грусть и злоба Невыразимова становились всё сильнее, невыносимей. В присутствии часы пробили половину первого. «Донос написать, что ли? Прошкин донес, и в гору пошёл…» Невыразимов сел за свой стол и задумался. Лампа, в которой керосин совсем уже выгорел, сильно коптила и грозила потухнуть. Заблудившийся таракан всё еще сновал по столу и не находил пристанища… «Донести-то можно, да как его сочинишь! Надо со всеми экивоками, с подходцами, как Прошкин… А куда мне! Такое сочиню, что мне же потом и влетит. Бестолочь, чёрт возьми меня совсем!» И Невыразимов, ломая голову над способами, как выйти из безвыходного положения, уставился на написанное им черновое письмо. Письмо это было писано к человеку, которого он ненавидел всей душой и боялся, от которого десять лет уже добивался перевода с шестнадцатирублевого места на восемнадцатирублевое… — А… бегаешь тут, чёрт! — хлопнул он со злобой ладонью по таракану, имевшему несчастье попасться ему на глаза. — Гадость этакая! Таракан упал на спину и отчаянно замотал ногами… Невыразимов взял его за одну ножку и бросил в стекло. В стекле вспыхнуло и затрещало… И Невыразимову стало легче. Праздничные (Из записок провинциального хапуги) Описываю по порядку: Дом № 113. В квартире № 2 встретились с человеком образованным и по всем видимостям благонамеренным, но весьма странным. Давая нам праздничные, он сказал: — Будучи состоятелен, я даю с удовольствием; но будучи в то же время человеком науки и привыкши понимать предметы и поступки чрез изучение причин и корней, я желал бы знать, существует ли нравственное право, по которому вы ходите по домам и берете праздничные, или же тут права нет и вы действуете а vol d’oiseau?[112] Усматривая в сем вопросе полезную любознательность, я сел около стола с закуской и объяснил: — Благодарность есть качество, свойственное душам возвышенным и благородным. Это качество человеку врождено и на нашей обязанности лежит всячески поддерживать его в обывателях и не давать ему заглохнуть. Обыватель, давая праздничные, тем самым упражняет себя в чувстве благодарности. Упражнять вас в этом чувстве мы по-настоящему должны всегда, в будень и в праздник, но так как на нас лежит много других обязанностей и помимо взимания праздничных, то обыватель должен довольствоваться несколькими днями в году, уповая, что в будущем с упрощением человеческих отношений праздничные будут взиматься ежедневно. Дом № 114. Домовладелец Швеин, давая десять рублей, сладко улыбался и пожимал горячо руку. Должно полагать, у канальи двор не чист или кто-нибудь без паспорта живет. Дом № 115. Титулярная советница Перехудова, когда я вошел в гостиную, обиделась, что на мне грязные калоши. Впрочем, дала три рубля. Жилец Брюханский, на мое требование исполнить гражданский долг, отказался, ссылаясь на неимение денег. Тогда я объяснил ему: — Каждый обыватель накануне праздника, прежде чем делать обычные затраты на предметы роскоши, обдумывает, кому сколько дать, и совещается на сей случай с членами своего семейства, после чего берет деньги и делит их на части, соответственно числу получателей. Если же у него денег нет, то он делает заем; ежели же сделать займа почему-либо нельзя, то берет свое семейство и бежит в Египет… Удивляюсь я, как это вы можете еще со мной говорить! Записал его фамилию. Дом № 116. Генерал Брындин, живущий в квартире № 3, вынося нам 5 руб., сказал: — Когда-то в своей губернии я боролся с этим злом и пострадал: в конце концов, мне дали по шапке. Непоборимое, знать, зло!.. Нате, берите! Чёрт с вами… Генерал, а какие странные понятия о гражданском долге! Красная горка Так называется у нас Фомина неделя, у древних же россиян это имя носил праздник в честь весны, совпадавший по времени как раз с Фоминой неделей. Весна не чиновная особа и чествовать ее не за что, но древляне, кривичи, мерь и прочие наши прародители, не имея среди себя заслуженных статских советников и полицеймейстеров, поневоле должны были чествовать не людей, а времена года и другие отвлеченности. Так как от невежества мы ушли, но к цивилизации, слава богу, еще не дошли, а обретаемся на золотой середине, то этот языческий праздник сохранился и до нашего времени во всей своей полноте. Празднуется он на горах и пригорках, где прежде всего тает снег и показывается зеленая травка — отсюда и название праздника. Следовало бы по-настоящему назвать его зеленой горкой, но предки наши уродились в наших современников: придавать всему выдающемуся красную окраску было их страстью. Девицы, весна, лучшие площади, самая вкусная рыба — всё это называлось красным и находилось под подозрением. В наше время Красная горка празднуется таким образом. Парни и девки с лицами, усыпанными в честь весны веснушками, собравшись где-нибудь на пригорке, устраивают хороводы и поют песни. Песни поются всякие, без разбора и без всякой системы. Одни поют: «А-ах ты, пташка тинарейка», другие же, послужившие в городе в коридорных или горничных, лупят «Наш Китай страна свободы» или «Когда супруг захочет вдруг»[113] — смесь языческих воззрений с гуманитарными… Вперемежку с песнями дубасят в честь весны друг друга в спину, вспоминают после каждого слова родителей и говорят о недоимках. Дело кончается тем, что подъезжает к толпе урядник и, попрекнув невежеством, приглашает публику сдать назад. В древности же Красная горка праздновалась с разумением. Кавалеры и барышни, сомкнувшись в тесный grand-rond[114], начинали чинно и благородно петь песни — «веснянки», в которых воспевались Сварог, И. С. Аксаков, гром, весенний дождь и проч. Всякий, затягивавший шансонетку или начинавший играть на губах, с позором изгонялся. Содержание «веснянок» тогда могло считаться вполне цензурным: солнце, олицетворенное под видом князя, едет к светлой княгине-весне, истребляя на пути ледяные препятствия; в конце концов, когда препятствия обойдены, солнце заключает в свои объятия освобожденную весну — и капитала нет и невинность не соблюдена, но тем не менее трогательно… Теперь же, когда гражданские браки запечатлены презрением всех благомыслящих людей, когда за присвоение не принадлежащего княжеского титула виновные наказуются по всей строгости законов, подобные песни ни печатаемы, ни распеваемы быть не могут. В наше время на Красной горке обыватели идут на погосты и под видом поминовения родственников устраивают там целые пикники. Поминовения сопровождаются возлияниями и щедрой раздачей куличей, что весьма нравится сверхштатным дьяконам и вдовым псаломщикам, не знающим, «где главу преклонити» и где оскорбленному есть чувству уголок. Но ничем другим не угодила так россиянам Красная горка, как свадебным зудом. После восьминедельного запрещения обыватели входят в такой мариажный азарт, что девицы едва успевают ловить момент, а папаши — отсчитывать прилагательное… Выходят замуж все, в розницу и оптом, и попадают в число мудрых дев не только достойные, но даже бракованные и уцелевшие после пожаров и наводнений… Такую свадебную эпидемию можно объяснить только атмосферными влияниями и долгим постом… Странно, у нас в пост жениться нельзя, а после Пасхи можно, у евреев же наоборот, в пост можно, после Пасхи нельзя; стало быть, евреи смотрят на брак, как на нечто постное. В 20 верстах от Кронштадта есть возвышенность, усыпанная красным песком и именуемая Красной горкой. На ней была построена телеграфная станция, и на этой Красной горке женятся одни только телеграфисты. Кстати анекдот. Один немец, член нашей Академии наук, переводя что-то с русского на немецкий, фразу: «он женился на Красной горке», перевел таким образом: «Er heiratete die m-lle Krasnaja Gorka».[115] ‹Донесение› Его благородию г. Приставу 2-го стана Донесение. Честь имею донести вашему благородию, что в Михалковской роще близ Старой балки, перейдя мостик, усмотрен мною без всяких признаков жизни повесившийся труп мертвого человека, назвавшийся, как видно из его бумаг, отставным рядовым Степаном Максимовым Качаговым 51 года. Из сумы и прочих рубищ явствует, что он нищий. Кроме веревки никаких последствий на теле не оказалось, вещи же полностию при нем. Причины такого самоубийства мною не обнаружены, но всё от водки. Жабровские мужики видали, как он выходил из кабака. Прикажете протокол писать или вашего благородия дожидаться? Урядник Денис Ч. Сообщил Человек без селезенки. Безнадежный (Эскиз) Председатель земской управы Егор Федорыч Шмахин стоял у окна и со злобой барабанил по стеклу пальцами. Медленность, с которой часы и минуты уходили в вечность, приводила его в злобное отчаяние… Два раза ложился он спать и просыпался, раза два принимался обедать, пил раз шесть чай, а день всё еще только клонился к вечеру. Вид, расстилавшийся перед глазами председателя, казался ему серым и скучным. Сквозь голые деревья запущенного сада виднелся крутой глинистый берег… На пол-аршина ниже его бежала выпущенная на волю река. Она спешила и рвалась, словно боялась, чтобы ее не вернули назад и не заключили опять в ледяные оковы. Изредка на глаза Шмахина попадалась запоздавшая белая льдинка, тоже спешившая без оглядки. — Сесть бы на эту льдину да куда-нибудь… к чёрту… По берегу, понурив голову, широко шагал сторож Андриан с длинной острогой в руках и, то и дело останавливаясь, устремлял свой скучный взор на реку. Около деревьев ходила черная корова и обнюхивала прошлогодние листья… Вся эта маленькая картина вместе с Шмахиным и его усадьбой была покрыта, как большой мохнатой шапкой, тяжелыми, неподвижными облаками, но от нее так и веяло весной… Шмахину же было скучно и душно. Стоял он перед окном, глядел на постылую картину и вспоминал, что под вечер у непременного члена Ряблова составляется винт, что у Марьи Николаевны в этот день празднуется рождение ее Петечки… Поезжай он в одно из этих мест, он и не заметил бы, как прошло бы скучное время… Но как было ехать, если разлившаяся река затопила все дороги и если усадьба была окружена цепью зажор и оврагов, полных воды? Шмахин чувствовал себя, как в тюрьме… Долго стоял он перед окном… Наконец мысль, что у Ряблова сели уже без него винтить и что у Марьи Николаевны уже сидят за чаем и толкуют про холеру и Герат, стала невыносимой. — Тьфу! — послал он по адресу погоды, отошел от окна и сел за круглый стол. На столе около лампы и пепельницы лежал альбом. Шмахин миллион раз уже видел этот альбом, но от скуки притянул его к себе и в миллион первый раз стал рассматривать карточки. Пред его глазами замелькали сестрицы, полинявшие тетеньки, офицер с тонкой талией, бабушка в белом чепце, отец Ефимий с матушкой, какая-то актриса в трико, он сам, покойница-жена с болонкой на руках… Взор его на минуту остановился на жене… приподнятые брови, удивленные глаза, тяжелый шиньон, брошка на груди — всё это вызвало в нем воспоминания… — Тьфу! Часы пробили половину седьмого. Шмахин поднялся с дивана, прошелся из угла в угол и без всякой цели остановился посреди комнаты. «На станции ежели сидишь и ждешь, — подумал он, — то все-таки надеешься, что вот-вот поезд придет и ты поедешь, а тут и ждать нечего… без конца… хоть вешайся, чёррт… Поужинать, что ли? Нет, рано еще, и трескать не хочется… Покурю покуда…» Идя к жестянке с табаком, он взглянул в угол и на круглом столике заметил шашечную доску. — Нешто в шашки поиграть? А? Расставив на доске черные и белые костяшки, Шмахин сел у круглого столика и стал играть сам с собой. Партнерами были правая и левая руки. — Ты так пошел… Гм… Постой, братец… А я этак! Лладно-с… увидим-с… Но левая рука знала, чего хочет правая, и скоро сам Шмахин потерял счет в руках и запутался. — Илюшка! — крикнул он. Вошел высокий, худой малый в потертом, засаленном сюртуке и в рваных сапогах с барскими голенищами. — Ты что там делаешь? — спросил барин. — Ничего-с… на сундуке сижу… — Поди в шашки партию сыграем! Садись! — Что вы-с?.. — ухмылялся Илюшка. — Нешто можно-с?.. — Поди, болван! садись! — Ничего, мы постоим-с… — Говорят — садись, ну, и садись! Ты думаешь, мне приятно, ежели ты будешь дубиной торчать? Илюшка нерешительно и продолжая ухмыляться сел на край стула и застенчиво замигал глазами. — Ходи! Илюшка подумал и сделал мизинцем первый ход. — Вы так пошли… — задумался Шмахин, прикрывая рукой подбородок. — Так-с… Ну, а я этак! Ходи, тля! Илюшка сделал другой ход. — Тэк-с… Понимаем, куда ты, харя, лезешь… Понимаем… Как, однако, от тебя луком воняет! Ты этак, а я… этак! Игра затянулась… Шмахину повезло на первых же порах… он брал шашку за шашкой и лез уже в дамки, но соображать и вникать в игру мешала ему одна неотступная мысль… «Приятно вести борьбу и победить человека равного, — думал он, — человека, который в общественном смысле стоит с тобой на одной точке… А какой мне интерес Илюшку побеждать? Победишь его или не победишь — один чёрт: никакого удовольствия… О, взял шашку и улыбается! Приятно барина обыгрывать! Еще бы! Луком воняет, а небось рад старшему напакостить!» — Пошел вон! — крикнул Шмахин. — Чево-с? — Пошел вон!! — крикнул Шмахин, багровея. — Расселся тут, тварь этакая! Илюшка выронил из рук шашку, удивленно поглядел на барина и, пятясь назад, вышел из гостиной. Шмахин взглянул на часы: было только без десяти семь… До ужина и до ночи оставалось еще часов пять… В окна застучали крупные дождевые капли… В саду хрипло и тоскливо промычала черная корова, а шум бегущей реки был так же монотонен и меланхоличен, как и час тому назад. Шмахин махнул рукой и, толкаясь о дверные косяки, поплелся без всякой цели в свой кабинет. «Боже мой! — думал он. — Другие, ежели скучно, выпиливают, спиритизмом занимаются, мужиков касторкой лечат, дневники пишут, а один я такой несчастный, что у меня нет никакого таланта… Ну, что мне сейчас делать? Что? Председатель я земской управы, почетный мировой судья, сельский хозяин и… все-таки не найду, чем убить время… Разве почитать что-нибудь?» Шмахин подошел к этажерке, заваленной книжным хламом. Тут были всевозможные судебные указатели, путеводители, растрепанный, но не обрезанный еще журнал «Садоводство», поваренная книга, проповеди, старые журналы… Шмахин нерешительно потянул к себе нумер «Современника» 1859 года и начал его перелистывать… — «Дворянское гнездо»…[116] Чье это? Ага! Тургенева! Читал… Помню… Забыл, в чем тут дело, стало быть, еще раз можно почитать… Тургенев отлично пишет… мда… Шмахин разлегся на софе и стал читать… И его тоскующая душа нашла успокоение в великом писателе. Через десять минут в кабинет вошел на цыпочках Илюшка, подложил под голову барина подушку и снял с его груди раскрытую книгу… Барин храпел… Упразднили! Недавно, во время половодья, помещик, отставной прапорщик Вывертов, угощал заехавшего к нему землемера Катавасова. Выпивали, закусывали и говорили о новостях. Катавасов, как городской житель, обо всем знал: о холере, о войне и даже об увеличении акциза в размере одной копейки на градус. Он говорил, а Вывертов слушал, ахал и каждую новость встречал восклицаниями: «Скажите, однако! Ишь ты ведь! Ааа»… — А отчего вы нынче без погончиков, Семен Антипыч? — полюбопытствовал он между прочим. Землемер не сразу ответил. Он помолчал, выпил рюмку водки, махнул рукой и тогда уже сказал: — Упразднили! — Ишь ты! Ааа… Я газет-то не читаю и ничего про это не знаю. Стало быть, нынче гражданское ведомство не носит уже погонов? Скажите, однако! А это, знаете ли, отчасти хорошо: солдатики не будут вас с господами офицерами смешивать и честь вам отдавать. Отчасти же, признаться, и нехорошо. Нет уже у вас того вида, сановитости! Нет того благородства! — Ну, да что! — сказал землемер и махнул рукой. — Внешний вид наружности не составляет важного предмета. В погонах ты или без погонов — это всё равно, было бы в тебе звание сохранено. Мы нисколько не обижаемся. А вот вас так действительно обидели, Павел Игнатьич! Могу посочувствовать. — То есть как-с? — спросил Вывертов. — Кто же меня может обидеть? — Я насчет того факта, что вас упразднили. Прапорщик хоть и маленький чин, хоть и ни то ни сё, но всё же он слуга отечества, офицер… кровь проливал… За что его упразднять? — То есть… извините, я вас не совсем понимаю-с… — залепетал Вывертов, бледнея и делая большие глаза. — Кто же меня упразднял? — Да разве вы не слыхали? Был такой указ, чтоб прапорщиков вовсе не было. Чтоб ни одного прапорщика! Чтоб и духу их не было! Да разве вы не слыхали? Всех служащих прапорщиков велено в подпоручики произвести, а вы, отставные, как знаете. Хотите, будьте прапорщиками, а не хотите, так и не надо. — Гм… Кто же я теперь такой есть? — А бог вас знает, кто вы. Вы теперь — ничего, недоумение, эфир! Теперь вы и сами не разберете, кто вы такой. Вывертов хотел спросить что-то, но не смог. Под ложечкой у него похолодело, колени подогнулись, язык не поворачивался. Как жевал колбасу, так она и осталась у него во рту не разжеванной. — Нехорошо с вами поступили, что и говорить! — сказал землемер и вздохнул. — Всё хорошо, но этого мероприятия одобрить не могу. То-то, небось, теперь в иностранных газетах! А? — Опять-таки я не понимаю… — выговорил Вывертов. — Ежели я теперь не прапорщик, то кто же я такой? Никто? Нуль? Стало быть, ежели я вас понимаю, мне может теперь всякий сгрубить, может на меня тыкнуть? — Этого уж я не знаю. Нас же принимают теперь за кондукторов! Намедни начальник движения на здешней дороге идет, знаете ли, в своей инженерной шинели, по-нынешнему без погонов, а какой-то генерал и кричит: «Кондуктор, скоро ли поезд пойдет?» Вцепились! Скандал! Об этом в газетах нельзя писать, но ведь… всем известно! Шила в мешке не утаишь! Вывертов, ошеломленный новостью, уж больше не пил и не ел. Раз попробовал он выпить холодного квасу, чтобы прийти в чувство, но квас остановился поперек горла и — назад. Проводив землемера, упраздненный прапорщик заходил по всем комнатам и стал думать. Думал, думал и ничего не надумал. Ночью он лежал в постели, вздыхал и тоже думал. — Да будет тебе мурлыкать! — сказала жена Арина Матвеевна и толкнула его локтем. — Стонет, словно родить собирается! Может быть, это еще и неправда. Ты завтра съезди к кому-нибудь и спроси. Тряпка! — А вот как останешься без звания и титула, тогда тебе и будет тряпка. Развалилась тут, как белуга, и — тряпка! Не ты, небось, кровь проливала! На другой день, утром, всю ночь не спавший Вывертов запряг своего каурого в бричку и поехал наводить справки. Решил он заехать к кому-нибудь из соседей, а ежели представится надобность, то и к самому предводителю. Проезжая через Ипатьево, он встретился там с протоиереем Пафнутием Амаликитянским. Отец протоиерей шел от церкви к дому и, сердито помахивая жезлом, то и дело оборачивался к шедшему за ним дьячку и бормотал: «Да и дурак же ты, братец! Вот дурак!» Вывертов вылез из брички и подошел под благословение. — С праздником вас, отец протоиерей! — поздравил он, целуя руку. — Обедню изволили служить-с? — Да, литургию. — Так-с… У всякого свое дело! Вы стадо духовное пасете, мы землю удобряем по мере сил… А отчего вы сегодня без орденов? Батюшка вместо ответа нахмурился, махнул рукой и зашагал дальше. — Им запретили! — пояснил дьячок шёпотом. Вывертов проводил глазами сердито шагавшего протоиерея, и сердце его сжалось от горького предчувствия: сообщение, сделанное землемером, казалось теперь близким к истине! Прежде всего заехал он к соседу майору Ижице, и когда его бричка въезжала в майорский двор, он увидел картину. Ижица в халате и турецкой феске стоял посреди двора, сердито топал ногами и размахивал руками. Мимо него взад и вперед кучер Филька водил хромавшую лошадь. — Негодяй! — кипятился майор. — Мошенник! Каналья! Повесить тебя мало, анафему! Афганец! Ах, мое вам почтение! — сказал он, увидев Вывертова. — Очень рад вас видеть. Как вам это нравится? Неделя уж, как ссадил лошади ногу, и молчит, мошенник! Ни слова! Не догляди я сам, пропало бы к чёрту копыто! А? Каков народец? И его не бить по морде? Не бить? Не бить, я вас спрашиваю? — Лошадка славная, — сказал Вывертов, подходя к Ижице. — Жалко! Вы, майор, за коновалом пошлите. У меня, майор, на деревне есть отличный коновал! — Майор… — проворчал Ижица, презрительно улыбаясь. — Майор!.. Не до шуток мне! У меня лошадь заболела, а вы: майор! майор! Точно галка: крр!.. крр! — Я вас, майор, не понимаю. Нешто можно благородного человека с галкой сравнивать? — Да какой же я майор? Нешто я майор? — Кто же вы? — А чёрт меня знает, кто я! — сказал Ижица. — Уж больше года, как майоров нет.[117] Да вы что же это? Вчера только родились, что ли? Вывертов с ужасом поглядел на Ижицу и стал отирать с лица пот, предчувствуя что-то очень недоброе. — Однако позвольте же… — сказал он. — Я вас все-таки не понимаю… Майор ведь чин значительный! — Да-с!! — Так как же это? И вы… ничего? Майор только махнул рукой и начал рассказывать ему, как подлец Филька сшиб лошади копыто, рассказывал длинно и в конце концов даже к самому лицу его поднес больное копыто с гноящейся ссадиной и навозным пластырем, но Вывертов не понимал, не чувствовал и глядел на всё, как сквозь решетку. Бессознательно он простился, влез в свою бричку и крикнул с отчаянием: — К предводителю! Живо! Лупи кнутом! Предводитель, действительный статский советник Ягодышев, жил недалеко. Через какой-нибудь час Вывертов входил к нему в кабинет и кланялся. Предводитель сидел на софе и читал «Новое время». Увидев входящего, он кивнул головой и указал на кресло. — Я, ваше превосходительство, — начал Вывертов, — должен был сначала представиться вам, но, находясь в неведении касательно своего звания, осмеливаюсь прибегнуть к вашему превосходительству за разъяснением… — Позвольте-с, почтеннейший, — перебил его предводитель. — Прежде всего не называйте меня превосходительством. Прошу-с! — Что вы-с… Мы люди маленькие… — Не в том дело-с! Пишут вот… (предводитель ткнул в «Новое время» и проткнул его пальцем) пишут вот, что мы, действительные статские советники, не будем уж более превосходительствами. За достоверное сообщают-с! Что ж? И не нужно, милостивый государь! Не нужно! Не называйте! И не надо! Ягодышев встал и гордо прошелся по кабинету… Вывертов испустил вздох и уронил на пол фуражку. «Уж ежели до них добрались, — подумал он, — то о прапорщиках да о майорах и спрашивать нечего. Уйду лучше…» Вывертов пробормотал что-то и вышел, забыв в кабинете предводителя фуражку. Через два часа он приехал к себе домой бледный, без шапки, с тупым выражением ужаса на лице. Вылезая из брички, он робко взглянул на небо: не упразднили ли уж и солнца? Жена, пораженная его видом, забросала его вопросами, но на все вопросы он отвечал только маханием руки… Неделю он не пил, не ел, не спал, а как шальной ходил из угла в угол и думал. Лицо его осунулось, взоры потускнели… Ни с кем он не заговаривал, ни к кому ни за чем не обращался, а когда Арина Матвеевна приставала к нему с вопросами, он только отмахивался рукой и — ни звука… Уж чего только с ним не делали, чтобы привести его в чувство! Поили его бузиной, давали «на внутрь» масла из лампадки, сажали на горячий кирпич, но ничто не помогало, он хирел и отмахивался. Позвали, наконец, для вразумления отца Пафнутия. Протоиерей полдня бился, объясняя ему, что всё теперь клонится не к уничижению, а к возвеличению, но доброе семя его упало на неблагодарную почву. Взял пятерку за труды, да так и уехал, ничего не добившись. Помолчав неделю, Вывертов как будто бы заговорил. — Что ж ты молчишь, харя? — набросился он внезапно на казачка Илюшку. — Груби! Издевайся! Тыкай на уничтоженного! Торжествуй! Сказал это, заплакал и опять замолчал на неделю. Арина Матвеевна решила пустить ему кровь. Приехал фельдшер, выпустил из него две тарелки крови, и от этого словно бы полегчало. На другой день после кровопролития Вывертов подошел к кровати, на которой лежала жена, и сказал: — Я, Арина, этого так не оставлю. Теперь я на всё решился… Чин я свой заслужил, и никто не имеет полного права на него посягать. Я вот что надумал: напишу какому-нибудь высокопоставленному лицу прошение и подпишусь: прапорщик такой-то… пра-пор-щик… Понимаешь? Назло! Пра-пор-щик… Пускай! Назло! И эта мысль так понравилась Вывертову, что он просиял и даже попросил есть. Теперь он, озаренный новым решением, ходит по комнатам, язвительно улыбается и мечтает: — Пра-пор-щик… Назло! В номерах — Послушайте, милейший! — набросилась на хозяина багровая и брызжущая жилица 47-го номера, полковница Нашатырина. — Или дайте мне другой номер, или же я совсем уеду из ваших проклятых номеров! Это вертеп! Помилуйте, у меня дочери взрослые, а тут день и ночь одни только мерзости слышишь! На что это похоже? День и ночь! Иной раз он такое выпалит, что просто уши вянут! Просто как извозчик! Хорошо еще, что мои бедные девочки ничего не понимают, а то хоть на улицу с ними беги… Он и сейчас что-то говорит! Вы послушайте! — Я, братец ты мой, еще лучше случай знаю, — донесся хриплый бас из соседнего номера. — Помнишь ты поручика Дружкова? Так вот этот самый Дружков делает однажды клопштосом желтого в угол и по обыкновению, знаешь, высоко ногу задрал… Вдруг что-то: тррресь! Думали сначала, что он на бильярде сукно порвал, а как поглядели, братец ты мой, у него Соединенные Штаты по всем швам! Так высоко задрал, бестия, ногу, что ни одного шва не осталось… Ха-ха-ха. А тут в это время дамы были… между прочим, жена этой слюни — подпоручика Окурина… Окурин взбеленился… Как он, мол, смеет вести себя неприлично при его жене? Слово за слово… знаешь, ведь, наших!.. Посылает Окурин к Дружкову секундантов, а Дружков не будь глуп и скажи… ха-ха-ха… и скажи: «Пусть он посылает не ко мне, а к портному, который шил мне эти штаны. Он ведь виноват!» — Ха-ха-ха… Ха-ха-ха! Лиля и Мила, дочки полковницы, сидевшие у окна и подпиравшие кулаками пухлые щеки, потупили заплывшие глазки и вспыхнули. — Теперь вы слышали? — продолжала Нашатырина, обращаясь к хозяину. — И это, по-вашему, ничего? Я, милостивый государь, полковница! Муж мой воинским начальником! Я не позволю, чтобы почти в моем присутствии какой-нибудь извозчик говорил такие мерзости! — Он, сударыня, не извозчик, а штабс-капитан Кикин… Из благородных-с. — Если он забыл свое благородство до такой степени, что выражается, как извозчик, то он заслуживает еще большего презрения! Одним словом, не рассуждайте, а извольте принять меры! — Но что же я могу сделать, сударыня? Не вы одни жалуетесь, все жалуются, — да что же я с ним сделаю? Придешь к нему в номер и начнешь стыдить: «Ганнибал Иваныч! Бога побойтесь! Совестно!», а он сейчас к лицу с кулаками и разные слова: «На-кося выкуси» и прочее. Безобразие! Проснется утром и давай ходить по коридору в одном, извините, нижнем. А то вот возьмет револьвер в пьяном виде и давай садить пули в стену. Днем винище трескает, ночью в карты режется… А после карт драка… От жильцов совестно! — Что же вы не откажете этому негодяю? — Да нешто выкуришь этакого? Задолжал за три месяца, уж мы и денег не просим, уходи только, сделай милость… Мировой присудил ему номер очистить, а он и на апелляцию и на кассацию, да так и тянет… Горе да и только! Господи, а человек-то какой! Молодой, красивый, умственный… Когда не выпивши, лучше и человека не надо. Намедни пьян не был и весь день родителям письма писал. — Бедные родители! — вздохнула полковница. — Известно, бедные! Нешто приятно иметь такого лодыря? И ругают его, и из номеров гонят, и нет того дня, чтоб за скандалы не судился. Горе! — Бедная, несчастная жена! — вздохнула полковница. — Он, сударыня, не женат. Где уж ему! Была бы цела одна голова — и за то благодарить бога… Полковница прошлась из угла в угол. — Не женатый, вы говорите? — спросила она. — Никак нет, сударыня. Полковница опять прошлась из угла в угол и подумала немного. — Гм!.. Не женат… — проговорила она в раздумье. — Гм!.. Лиля и Мила, не сидите у окна — сквозит! Как жаль! Молодой человек и так себя распустил! А всё отчего? Влияния хорошего нет! Нет матери, которая бы… Не женат? Ну, вот… так и есть… Пожалуйста, будьте так добры, — продолжала полковница мягко, подумав, — сходите к нему и от моего имени попросите, чтобы он… воздержался от выражений… Скажите: полковница Нашатырина просила… С дочерями, скажите, в 47-м номере живет… из своего имения приехала… — Слушаю-с. — Так и скажите: полковница с дочерями. Пусть хоть придет извиниться… Мы после обеда всегда дома. Ах, Мила, закрой окно! — Ну, на что вам, мама, сдался этот… забулдыга? — протянула Лиля по уходе хозяина. — Нашли кого приглашать! Пьяница, буян, оборванец! — Ах, не говори, ma chиre!..[118] Вы вечно так говорите, ну и… сидите вот! Что ж? Какой бы он ни был, а все же пренебрегать не следует… Всяк злак на пользу человека. Кто знает? — вздохнула полковница, заботливо оглядывая дочерей. — Может быть, тут ваша судьба. Оденьтесь же на всякий случай… Канитель На клиросе стоит дьячок Отлукавин и держит между вытянутыми жирными пальцами огрызенное гусиное перо. Маленький лоб его собрался в морщины, на носу играют пятна всех цветов, начиная от розового и кончая темно-синим. Перед ним на рыжем переплете Цветной триоди[119] лежат две бумажки. На одной из них написано «о здравии», на другой — «за упокой», и под обоими заглавиями по ряду имен… Около клироса стоит маленькая старушонка с озабоченным лицом и с котомкой на спине. Она задумалась. — Дальше кого? — спрашивает дьячок, лениво почесывая за ухом. — Скорей, убогая, думай, а то мне некогда. Сейчас часы читать стану. — Сейчас, батюшка… Ну, пиши… О здравии рабов божиих: Андрея и Дарьи со чады… Митрия, опять Андрея, Антипа, Марьи… — Постой, не шибко… Не за зайцем скачешь, успеешь. — Написал Марию? Ну, таперя Кирилла, Гордея, младенца новопреставленного Герасима, Пантелея… Записал усопшего Пантелея? — Постой… Пантелей помер? — Помер… — вздыхает старуха. — Так как же ты велишь о здравии записывать? — сердится дьячок, зачеркивая Пантелея и перенося его на другую бумажку. — Вот тоже еще… Ты говори толком, а не путай. Кого еще за упокой? — За упокой? Сейчас… постой… Ну, пиши… Ивана, Авдотью, еще Дарью, Егора… Запиши… воина Захара… Как пошел на службу в четвертом годе, так с той поры и не слыхать… — Стало быть, он помер? — А кто ж его знает? Может, помер, а может, и жив… Ты пиши… — Куда же я его запишу? Ежели, скажем, помер, то за упокой, коли жив, то о здравии… Пойми вот вашего брата! — Гм!.. Ты, родименький, его на обе записочки запиши, а там видно будет. Да ему всё равно, как его ни записывай: непутящий человек… пропащий… Записал? Таперя за упокой Марка, Левонтия, Арину… ну, и Кузьму с Анной… болящую Федосью… — Болящую-то Федосью за упокой? Тю! — Это меня-то за упокой? Ошалел, что ли? — Тьфу! Ты, кочерыжка, меня запутала! Не померла еще, так и говори, что не померла, а нечего в за упокой лезть! Путаешь тут! Изволь вот теперь Федосью херить и в другое место писать… всю бумагу изгадил! Ну, слушай, я тебе прочту… О здравии Андрея, Дарьи со чады, паки Андрея, Антипия, Марии, Кирилла, новопреставленного младенца Гер… Постой, как же сюда этот Герасим попал? Новопреставленный, и вдруг — о здравии! Нет, запутала ты меня, убогая! Бог с тобой, совсем запутала! Дьячок крутит головой, зачеркивает Герасима и переносит его в заупокойный отдел. — Слушай! О здравии Марии, Кирилла, воина Захарии… Кого еще? — Авдотью записал? — Авдотью? Гм… Авдотью… Евдокию… — пересматривает дьячок обе бумажки. — Помню, записывал ее, а теперь шут ее знает… никак не найдешь… Вот она! За упокой записана! — Авдотью-то за упокой? — удивляется старуха. — Году еще нет, как замуж вышла, а ты на нее уж смерть накликаешь!.. Сам вот, сердешный, путаешь, а на меня злобишься. Ты с молитвой пиши, а коли будешь в сердце злобу иметь, то бесу радость. Это тебя бес хороводит да путает… — Постой, не мешай… Дьячок хмурится и, подумав, медленно зачеркивает на заупокойном листе Авдотью. Перо на букве «д» взвизгивает и дает большую кляксу. Дьячок конфузится и чешет затылок. — Авдотью, стало быть, долой отсюда… — бормочет он смущенно, — а записать ее туда… Так? Постой… Ежели ее туда, то будет о здравии, ежели же сюда, то за упокой… Совсем запутала баба! И этот еще воин Захария встрял сюда… Шут его принес… Ничего не разберу! Надо сызнова… Дьячок лезет в шкапчик и достает оттуда осьмушку чистой бумаги. — Выкинь Захарию, коли так… — говорит старуха. — Уж бог с ним, выкинь… — Молчи! Дьячок макает медленно перо и списывает с обеих бумажек имена на новый листок. — Я их всех гуртом запишу, — говорит он, — а ты неси к отцу дьякону… Пущай дьякон разберет, кто здесь живой, кто мертвый; он в семинарии обучался, а я этих самых делов… хоть убей, ничего не понимаю. Старуха берет бумажку, подает дьячку старинные полторы копейки и семенит к алтарю. Жизнь прекрасна! (Покушающимся на самоубийство) Жизнь пренеприятная штука, но сделать ее прекрасной очень нетрудно. Для этого недостаточно выиграть 200 000, получить Белого Орла, жениться на хорошенькой, прослыть благонамеренным — все эти блага тленны и поддаются привычке. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали, нужно: а) уметь довольствоваться настоящим и б) радоваться сознанию, что «могло бы быть и хуже». А это нетрудно: Когда у тебя в кармане загораются спички, то радуйся и благодари небо, что у тебя в кармане не пороховой погреб. Когда к тебе на дачу приезжают бедные родственники, то не бледней, а торжествуя восклицай: «Хорошо, что это не городовые!» Когда в твой палец попадает заноза, радуйся: «Хорошо, что не в глаз!» Если твоя жена или свояченица играет гаммы, то не выходи из себя, а не находи себе места от радости, что ты слушаешь игру, а не вой шакалов или кошачий концерт. Радуйся, что ты не лошадь конножелезки, не коховская «запятая»[120], не трихина, не свинья, не осел, не медведь, которого водят цыгане, не клоп… Радуйся, что ты не хромой, не слепой, не глухой, не немой, не холерный… Радуйся, что в данную минуту ты не сидишь на скамье подсудимых, не видишь пред собой кредитора и не беседуешь о гонораре с Турбой. Если ты живешь в не столь отдаленных местах, то разве нельзя быть счастливым от мысли, что тебя не угораздило попасть в столь отдаленные? Если у тебя болит один зуб, то ликуй, что у тебя болят не все зубы. Радуйся, что ты имеешь возможность не читать «Гражданина», не сидеть на ассенизационной бочке, не быть женатым сразу на трех… Когда ведут тебя в участок, то прыгай от восторга, что тебя ведут не в геенну огненную. Если тебя секут березой, то дрыгай ногами и восклицай: «Как я счастлив, что меня секут не крапивой!» Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству. И так далее… Последуй, человече, моему совету, и жизнь твоя будет состоять из сплошного ликования. На гулянье в Сокольниках День 1 мая клонился к вечеру. Шёпот сокольницких сосен и пение птиц заглушены шумом экипажей, говором и музыкой. Гулянье в разгаре. За одним из чайных столов Старого Гулянья сидит парочка: мужчина в лоснящемся цилиндре и дама в голубой шляпке. Пред ними на столе кипящий самовар, пустая водочная бутылка, чашки, рюмки, порезанная колбаса, апельсинные корки и проч. Мужчина пьян жестоко… Он сосредоточенно глядит на апельсинную корку и бессмысленно улыбается. — Натрескался, идол! — бормочет дама сердито, конфузливо озираясь. — Ты бы, прежде чем пить, рассудил бы, бесстыжие твои глаза. Мало того, что людям противно на тебя глядеть, ты и себе самому всякое удовольствие испортил. Пьешь, например, чай, а какой у тебя теперь вкус? Для тебя теперь что мармелад, что колбаса — всё равно… А я-то старалась, брала чего бы получше… Бессмысленная улыбка на лице мужчины сменяется выражением крайней скорби. — М-маша, куда это людей ведут? — Никуда их не ведут, а они сами гуляют. — А зачем городовой идет? — Городовой? Для порядка, а может быть, и гуляет… Эка, до чего допился, уж ничего и не смыслит! — Я… я ничего… Я художник… жанрист… — Молчи! Натрескался, ну и молчи… Ты, чем бормотать, рассуди лучше… Кругом деревья зеленые, травка, птички на разные голоса… А ты без внимания, словно тебя и нет тут… Глядишь и как в тумане… Художники норовят теперь природу подмечать, а ты — как зюзя… — Природа… — говорит мужчина и крутит головой. — Пр-рирода… Птички поют… крокодилы ползают… львы… тигры… — Мели, мели… Все люди как люди… под ручку гуляют, музыку слушают, один ты в безобразии. И когда это ты успел? Как это я недоглядела? — М-маша, — бормочет цилиндр, бледнея. — Скорей… — Чего тебе? — Домой желаю… Скорей… — Погоди… Потемнеет, тогда и пойдем, а теперь совестно идти: качаться будешь… Люди смеяться станут… Сиди и жди… — Н-не могу! Я… я домой… Мужчина быстро поднимается и, качаясь, выходит из-за стола. Публика, сидящая на других столах, начинает посмеиваться… Дама конфузится… — Убей меня бог, ежели еще хоть раз с тобой пойду, — бормочет она, поддерживая мужчину. — Один срам только… Добро бы законный был, а то так… с ветру… — М-маша, где мы? — Молчи! Постыдился бы, все люди пальцами показывают. Тебе-то, как с гуся вода, а мне-то каково? Добро бы законный был, а то… так… Даст рубль и месяц попрекает: «Я тебя кормлю! Я тебя содержу!» Очень мне нужно! Да плевать я хотела на твои деньги! Возьму и уйду к Павлу Иванычу… — М-маша… домой… Извозчика найми… — Ну, иди… Ступай по аллее прямо, а я пойду в сторонке… Мне с тобой совестно идти… Иди прямо! Дама ставит своего «незаконного» лицом к выходу и дает ему легкий толчок в спину. Мужчина подается вперед и, покачиваясь, толкаясь о проходящих и скамьи, спешит вперед… Дама идет позади и следит за его движениями. Она сконфужена и встревожена. — Палочек, сударь, не желаете ли? — обращается к шагающему мужчине человек с вязанкой палок и тростей. — Самые лучшие… перцовые… бамбук-с… Мужчина глупо глядит на продавца палок, потом поворачивает назад и мчится в противоположную сторону. На лице у него выражение ужаса. — Куда это тебя нелегкая несет? — останавливает его дама, хватая за рукав. — Ну, куда? — Где Маша?.. М-маша ушла… — А я-то кто? Дама берет под руку мужчину и ведет его к выходу. Ей совестно. — Убей меня бог, ежели хоть еще раз с тобой пойду… — бормочет она, вся красная от стыда. — Последний раз терплю такой срам… Накажи меня бог… Завтра же уйду к Павлу Иванычу! Дама робко поднимает глаза на публику, в ожидании увидеть на лицах насмешливые улыбки. Но видит она одни только пьяные лица. Все качаются и клюют носами. И ей становится легче. Женщина с точки зрения пьяницы Женщина есть опьяняющий продукт, который до сих пор еще не догадались обложить акцизным сбором. На случай, если когда-нибудь догадаются, предлагаю смету крепости означенного продукта в различные периоды его существования, беря в основу не количество градусов, а сравнение его с более или менее известными напитками: Женщина до 16 лет — дистиллированная вода. 16 лет — ланинская фруктовая. От 17 до 20 — шабли и шато д’икем. От 20 до 23 — токайское. От 23 до 26 — шампанское. 26 и 27 лет — мадера и херес. 28 — коньяк с лимоном. 29, 30, 31, 32 — ликеры. От 32 до 35 — пиво завода «Вена». От 35 до 40 — квас. От 40 до 100 лет — сивушное масло. Если же единицей меры взять не возраст, а семейное положение, то: Жена — зельтерская вода. Теща — огуречный рассол. Прелестная незнакомка — рюмка водки перед завтраком. Вдовушка от 23 до 28 лет — мускат-люнель и марсала. Вдовушка от 28 и далее — портер. Старая дева — лимон без коньяка. Невеста — розовая вода. Тетенька — уксус. Все женщины, взятые вместе — подкисленное, подсахаренное, подкрашенное суриком и сильно разбавленное «кахетинское» братьев Елисеевых. Драма на охоте (Истинное происшествие) В один из апрельских полудней 1880 года в мой кабинет вошел сторож Андрей и таинственно доложил мне, что в редакцию явился какой-то господин и убедительно просит свидания с редактором. — Должно быть, чиновник-с, — добавил Андрей, — с кокардой… — Попроси его прийти в другое время, — сказал я. — Сегодня я занят. Скажи, что редактор принимает только по субботам. — Он и третьего дня приходил, вас спрашивал. Говорит, что дело большое. Просит и чуть не плачет. В субботу, говорит, ему несвободно… Прикажете принять? Я вздохнул, положил перо и принялся ждать господина с кокардой. Начинающие писатели и вообще люди, не посвященные в редакционные тайны, приходящие при слове «редакция» в священный трепет, заставляют ждать себя немалое время. Они, после редакторского «проси», долго кашляют, долго сморкаются, медленно отворяют дверь, еще медленнее входят и этим отнимают немало времени. Господин же с кокардой не заставил ждать себя. Не успела за Андреем затвориться дверь, как я увидел в своем кабинете высокого широкоплечего мужчину, державшего в одной руке бумажный сверток, а в другой — фуражку с кокардой. Человек, так добивавшийся свидания со мной, играет в моей повести очень видную роль. Необходимо описать его наружность. Он, как я уже сказал, высок, широкоплеч и плотен, как хорошая рабочая лошадь. Всё его тело дышит здоровьем и силой. Лицо розовое, руки велики, грудь широкая, мускулистая, волосы густы, как у здорового мальчика. Ему под сорок. Одет он со вкусом и по последней моде в новенький, недавно сшитый триковый костюм. На груди большая золотая цепь с брелоками, на мизинце мелькает крошечными яркими звездочками бриллиантовый перстень. Но, что главнее всего и что так немаловажно для всякого мало-мальски порядочного героя романа или повести, — он чрезвычайно красив. Я не женщина и не художник. Мало я смыслю в мужской красоте, но господин с кокардой своею наружностью произвел на меня впечатление. Его большое мускулистое лицо осталось навсегда в моей памяти. На этом лице вы увидите настоящий греческий нос с горбинкой, тонкие губы и хорошие голубые глаза, в которых светятся доброта и еще что-то, чему трудно подобрать подходящее название. Это «что-то» можно подметить в глазах маленьких животных, когда они тоскуют или когда им больно. Что-то умоляющее, детское, безропотно терпящее… У хитрых и очень умных людей не бывает таких глаз. От всего лица так и веет простотой, широкой, простецкой натурой, правдой… Если не ложь, что лицо есть зеркало души, то в первый день свидания с господином с кокардой я мог бы дать честное слово, что он не умеет лгать. Я мог бы даже держать пари. Проиграл бы я пари или нет — читатель увидит далее. Каштановые волосы и борода густы и мягки, как шёлк. Говорят, что мягкие волосы служат признаком мягкой, нежной, «шёлковой» души… Преступники и злые, упрямые характеры имеют, в большинстве случаев, жесткие волосы. Правда это или нет — читатель опять-таки увидит далее… Ни выражение лица, ни борода — ничто так не мягко и не нежно в господине с кокардой, как движения его большого, тяжелого тела. В этих движениях сквозят воспитанность, легкость, грация и даже — простите за выражение — некоторая женственность. Не много нужно усилий моему герою, чтобы согнуть подкову или сплющить в кулаке коробку из-под сардинок, а между тем ни одно его движение не выдает в нем физически сильного. За дверную ручку или за шляпу он берется, как за бабочку: нежно, осторожно, слегка касаясь пальцами. Шаги его бесшумны, рукопожатия слабы. Глядя на него, забываешь, что он могуч, как Голиаф, что одной рукой может поднять он то, чего не поднять пяти редакционным Андреям. Глядя на его легкие движения, не верится, что он силен и тяжел. Спенсер мог бы назвать его образцом грации.[121] Войдя ко мне в кабинет, он сконфузился. Его нежную, чуткую натуру, вероятно, шокировал мой нахмуренный, недовольный вид. — Извините, ради бога! — начал он мягким, сочным баритоном. — Я врываюсь к вам не в урочное время и заставляю вас делать для меня исключение. Вы так заняты! Но видите ли, в чем дело, г. редактор: я завтра уезжаю в Одессу по одному очень важному делу… Имей я возможность отложить эту поездку до субботы, то, верьте, я не просил бы вас делать для меня исключение. Я преклоняюсь перед правилами, потому что люблю порядок… «Как, однако, он много говорит!» — подумал я, протягивая руку к перу и тем давая знать, что мне некогда. (Уж больно надоели мне тогда посетители!) — Я отниму у вас одну только минуту! — продолжал мой герой извиняющимся голосом. — Но прежде всего позвольте представиться… Кандидат прав Иван Петрович Камышев, бывший судебный следователь… К пишущим людям не имею чести принадлежать, но, тем не менее, явился к вам с чисто писательскими целями. Перед вами стоит желающий попасть в начинающие, несмотря на свои под сорок. Но лучше поздно, чем никогда. — Очень рад… Чем могу быть полезен? Желающий попасть в начинающие сел и продолжал, глядя на пол своими умоляющими глазами: — Я притащил к вам маленькую повесть, которую мне хотелось бы напечатать в вашей газете. Я вам откровенно скажу, г. редактор: написал я свою повесть не для авторской славы и не для звуков сладких…[122] Для этих хороших вещей я уже постарел. Вступаю же на путь авторский просто из меркантильных побуждений… Заработать хочется… Я теперь решительно никаких не имею занятий. Был, знаете ли, судебным следователем в С—м уезде, прослужил пять с лишком лет, но ни капитала не нажил, ни невинности не сохранил… Камышев вскинул на меня своими добрыми глазами и тихо засмеялся. — Надоедная служба… Служил-служил, махнул рукой и бросил. Занятий у меня теперь нет, есть почти нечего… И если вы, минуя достоинства, напечатаете мою повесть, то сделаете мне больше, чем одолжение… Вы поможете мне… Газета не богадельня, не странно-приимный дом… Я это знаю, но… уж вы будьте так добры… «Лжешь»! — подумал я. Брелоки и перстень на мизинце плохо вязались с письмом ради куска хлеба, да и по лицу Камышева пробежала чуть заметная, уловимая опытным глазом тучка, которую можно видеть на лицах только редко лгущих людей. — Какой сюжет вашей повести? — спросил я. — Сюжет… Как бы вам сказать? Сюжет не новый… Любовь, убийство… Да вы прочтете, увидите… «Из записок судебного следователя»… Я, вероятно, поморщился, потому что Камышев сконфуженно замигал глазами, встрепенулся и проговорил быстро: — Повесть моя написана по шаблону бывших судебных следователей, но… в ней вы найдете быль, правду… Всё, что в ней изображено, всё от крышки до крышки происходило на моих глазах… Я был и очевидцем и даже действующим лицом. — Дело не в правде… Не нужно непременно видеть, чтоб описать… Это не важно. Дело в том, что наша бедная публика давно уже набила оскомину на Габорио и Шкляревском. Ей надоели все эти таинственные[123] убийства, хитросплетения сыщиков и необыкновенная находчивость допрашивающих следователей. Публика, конечно, разная бывает, но я говорю о той публике, которая читает мою газету. Как называется ваша повесть? — «Драма на охоте». — Гм… Несерьезно, знаете ли… Да и, откровенно говоря, у меня накопилась такая масса материала, что решительно нет возможности принимать новые вещи, даже при несомненных их достоинствах… — А уж мою-то вещь примите, пожалуйста… Вы говорите, что несерьезно, но… трудно ведь назвать вещь, не видавши ее… И неужели вы не можете допустить, что и судебные следователи могут писать серьезно? Всё это проговорил Камышев заикаясь, вертя между пальцами карандаш и глядя себе ноги. Кончил он тем, что сильно сконфузился и замигал глазами. Мне стало жаль его. — Хорошо, оставьте — сказал я. — Только не обещаю вам, что ваша повесть будет прочтена в скором времени. Вам придется подождать… — Долго? — Не знаю… Зайдите месяца… этак через два, через три… — Долгонько… Но не смею настаивать… Пусть будет по-вашему… Камышев поднялся и взялся за фуражку. — Спасибо за аудиенцию, — сказал он. — Пойду теперь домой и буду питать себя надеждами. Три месяца надежд! Но, однако, я вам надоел. Честь имею кланяться! — Позвольте, одно только слово, — сказал я, перелистывая его толстую, исписанную мелким почерком тетрадь. — Вы пишете здесь от первого лица… Вы, стало быть, под судебным следователем разумеете здесь себя? — Да, но под другой фамилией. Роль моя в этой повести несколько скандальна… Неловко же под своей фамилией… Так через три месяца? — Да, пожалуй, не ранее… — Будьте здоровехоньки! Бывший судебный следователь галантно раскланялся, осторожно взялся за дверную ручку и исчез, оставив на моем столе свое произведение. Я взял тетрадь и спрятал ее в стол. Повесть красавца Камышева покоилась в моем столе два месяца. Однажды, уезжая из редакции на дачу, я вспомнил о ней и взял ее с собою. Сидя в вагоне, я открыл тетрадь и начал читать из середины. Середина заинтересовала меня. В тот же день вечером я, несмотря на отсутствие досуга, прочел всю повесть от начала до слова «Конец», написанного размашистым почерком. Ночью я еще раз прочел эту повесть, а на заре ходил по террасе из угла в угол и тер себе виски, словно хотел вытереть из головы новую, внезапно набежавшую, мучительную мысль… А мысль была действительно мучительная, невыносимо острая… Мне казалось, что я, не судебный следователь и еще того менее не присяжный психолог, открыл страшную тайну одного человека, тайну, до которой мне не было никакого дела… Я ходил по террасе и убеждал себя не верить своему открытию… Повесть Камышева не попала в мою газету по причинам, изложенным в конце моей беседы с читателем. С читателем я встречусь еще раз. Теперь же, надолго расставаясь с ним, я предлагаю на его прочтение повесть Камышева. Эта повесть не выделяется из ряда вон. В ней много длиннот, немало шероховатостей… Автор питает слабость к эффектам и сильным фразам… Видно, что он пишет первый раз в жизни, рукой непривычной, невоспитанной… Но все-таки повесть его читается легко. Фабула есть, смысл тоже, и, что важнее всего, она оригинальна, очень характерна и то, что называется, sui generis.[124] Есть в ней и кое-какие литературные достоинства. Прочесть ее стоит… Вот она: ДРАМА НА ОХОТЕ (Из записок судебного следователя) Глава I — Муж убил свою жену! Ах, как вы глупы! Дайте же мне наконец сахару! Этот крик разбудил меня. Я потянулся и почувствовал во всех своих членах тяжесть, недомогание… Можно отлежать себе руку и ногу, но на этот раз мне казалось, что я отлежал себе всё тело от головы до пяток. Не укрепляющим, а расслабляющим образом действует послеобеденный сон в душной, сушащей атмосфере, под жужжанье мух и комаров. Разбитый и облитый потом, я поднялся и пошел к окну. Был шестой час вечера. Солнце стояло еще высоко и жгло с таким же усердием, как и три часа тому назад. До захода и прохлады оставалось еще много времени. — Муж убил свою жену! — Полно тебе врать, Иван Демьяныч! — сказал я, давая легкий щелчок носу Ивана Демьяныча. — Мужья убивают жен только в романах да под тропиками, где кипят африканские страсти, голубчик. С нас же довольно и таких ужасов, как кражи со взломом или проживательство по чужому виду. — Кражи со взломом… — процедил сквозь свой крючковатый нос Иван Демьяныч. — Ах, как вы глупы! — Но что же поделаешь, голубчик? Чем мы, люди, виноваты, что нашим мозгам предел положен? Впрочем, Иван Демьяныч, не грешно быть дураком при этакой температуре. Ты вот у меня умница, но небось и твои мозги раскисли и поглупели от этой жары. Моего попугая зовут не попкой и не другим каким-нибудь птичьим названием, а Иваном Демьянычем. Это имя получил он совершенно случайно. Однажды мой человек Поликарп, чистя его клетку, вдруг сделал открытие, без которого моя благородная птица и доселе величалась бы попкой… Лентяя вдруг ни с того ни с сего осенила мысль, что нос моего попугая очень похож на нос нашего деревенского лавочника Ивана Демьяныча, и с той поры за попугаем навсегда осталось имя и отчество длинноносого лавочника. С легкой руки Поликарпа и вся деревня окрестила мою диковинную птицу в Ивана Демьяныча. Волею Поликарпа птица попала в люди, а лавочник утерял свое настоящее прозвище: он до конца дней своих будет фигурировать в устах деревенщины, как «следователев попугай». Ивана Демьяныча я купил у матери моего предшественника, судебного следователя Поспелова, умершего незадолго перед моим назначением. Я купил его вместе со старинною дубового мебелью, кухонным хламом и всем вообще хозяйством, оставшимся после покойника. Мои стены до сих пор еще украшают фотографические карточки его родственников, а над моею кроватью всё еще висит портрет самого хозяина. Покойник, худощавый, жилистый человек с рыжими усами и большой нижней губой, сидит, выпучив глаза, в полинялой ореховой раме и не отрывает от меня глаз всё время, пока я лежу на его кровати… Я не снял со стен ни одной карточки, короче говоря — я оставил квартиру такой же, какою и принял. Я слишком ленив для того, чтобы заниматься собственным комфортом, и не мешаю висеть на моих стенах не только покойникам, но даже и живым, если последние того пожелают.[125] Ивану Демьянычу было так же душно, как и мне. Он ерошил свои перья, оттопыривал крылья и громко выкрикивал фразы, выученные им у моего предшественника Поспелова и Поликарпа. Чтобы занять чем-нибудь свой послеобеденный досуг, я сел перед клеткой и стал наблюдать за движениями попугая, старательно искавшего и не находившего выхода из тех мук, которые причиняли ему духота и насекомые, обитавшие в его перьях… Бедняжка казался очень несчастным… — А в котором часу они просыпаются? — донесся до меня чей-то бас из передней… — Как когда! — отвечал голос Поликарпа. — Когда и в пять просыпается, а когда и до утра дрыхнет… Известно, делать нечего… — Вы ихний камердинер будете? — Прислуга. Ну, не мешай мне, замолчи… Нешто не видишь, что я читаю? Я заглянул в переднюю. Там, на большом красном сундуке, валялся мой Поликарп и, по обыкновению, читал какую-то книгу. Впившись своими сонными, никогда не моргающими глазами в книгу, он шевелил губами и хмурился. Видимо, его раздражало присутствие постороннего лица, высокого мужика-бородача, стоявшего перед сундуком и тщетно старавшегося завязать беседу. При моем появлении мужик сделал шаг от сундука и по-солдатски вытянулся в струнку. Поликарп состроил недовольное лицо и, не отрывая глаз от книги, слегка приподнялся. — Что тебе нужно? — обратился я к мужику. — Я от графа, ваше благородие. Граф изволили вам кланяться и просили вас немедля к себе-с… — Разве граф приехал? — удивился я. — Точно так, ваше благородие… Вчерась ночью приехали… Письмо вот извольте-с… — Опять черти принесли! — проговорил мой Поликарп. — Два лета без него покойно прожили, а нынче опять свинюшник в уезде заведет. Опять сраму не оберешься. — Молчи, тебя не спрашивают! — Меня и спрашивать не надо… Сам скажу. Опять будете от него в пьяном безобразии приезжать и в озере купаться, как есть, во всем костюме… Чисть потом! И за три дня не вычистишь! — Что теперь граф делает? — спросил я мужика… — Изволили обедать садиться, когда меня к вам посылали… До обеда рыбку удили в купальне-с… Как прикажете отвечать? Я распечатал письмо и прочел в нем следующее: «Милый мой Лекок! Если ты еще жив, здравствуешь и еще не забыл своего всепьянейшего друга, то, ни минуты не медля, облекайся в свои одежды и мчись ко мне. Приехал только прошлого ночью, но уже умираю от скуки. Нетерпение, с которым я ожидаю тебя, не знает границ. Хотел было сам съездить за тобой и увезти тебя в мою берлогу, но жара сковала все мои члены. Сижу на одном месте и обмахиваюсь веером. Ну, как живешь ты? Как поживает твой умнейший Иван Демьяныч? Всё еще воюешь со своим педантом Поликарпом? Приезжай скорей и рассказывай. Твой А. К.» Не нужно было глядеть на подпись, чтобы в крупном, некрасивом почерке узнать пьяную, редко пишущую руку моего друга, графа Алексея Карнеева. Краткость письма, претензия его на некоторую игривость и бойкость свидетельствовали, что мой недалекий друг много изорвал почтовой бумаги, прежде чем сумел сочинить это письмо. В письме отсутствовало местоимение «который» и старательно обойдены деепричастия — то и другое редко удается графу в один присест. — Как прикажете ответить? — повторил мужик. Я не сразу ответил на этот вопрос, да и всякий чистоплотный человек промедлил бы на моем месте. Граф любил меня и искреннейше навязывался ко мне в друзья, я же не питал к нему ничего похожего на дружбу и даже не любил его; честнее было бы поэтому прямо раз навсегда отказаться от его дружбы, чем ехать к нему и лицемерить. К тому же ехать к графу — значило еще раз окунуться в жизнь, которую мой Поликарп величал «свинюшником» и которая два года тому назад, во всё время до отъезда графа в Петербург, расшатывала мое крепкое здоровье и сушила мой мозг. Эта беспутная, необычная жизнь, полная эффектов и пьяного бешенства, не успела подорвать мой организм, но зато сделала меня известным всей губернии… Я популярен… Рассудок говорил мне всю сущую правду, краска стыда за недавнее прошлое разливалась по моему лицу, сердце сжималось от страха при одной мысли, что у меня не хватит мужества отказаться от поездки к графу, но я не долго колебался. Борьба продолжалась не более минуты. — Кланяйся графу, — сказали посланному, — и поблагодари за память… Скажи, что я занят и что…. Скажи, что я… И в тот самый момент, когда с моего языка готово уже было сорваться решительное «нет», мною вдруг овладело тяжелое чувство… Молодой человек, полный жизни, сил и желаний, заброшенный волею судеб в деревенские дебри, был охвачен чувством тоски, одиночества… Вспомнился мне графский сад с роскошью его прохладных оранжерей и полумраком узких, заброшенных аллей… Эти аллеи, защищенные от солнца сводом из зеленых, сплетающихся ветвей старушек-лип, знают меня… Знают они и женщин, которые искали моей любви и полумрака… Вспомнилась мне роскошная гостиная, с сладкою ленью ее бархатных диванов, тяжелых портьер и ковров, мягких, как пух, с ленью, которую так любят молодые, здоровые животные… Пришла мне на память моя пьяная удаль, не знающая границ в своей шири, сатанинской гордости и презрении к жизни. И мое большое тело, утомленное сном, вновь захотело. движений… — Скажи, что я буду! Мужик поклонился и вышел. — Знал бы, не впускал его, чёрта! — проворчал Поликарп, быстро и бесцельно перелистывая книгу. — Оставь книгу и поди оседлай Зорьку! — сказал я строго. — Живо! — Живо… Как же, беспременно… Так вот возьму и побегу… Добро бы за делом ехал, а то поедет чёрту рога ломать! Это было сказано полушёпотом, но так, чтоб я слышал. Лакей, прошептавши дерзость, вытянулся передо мной и, презрительно ухмыляясь, стал ожидать ответной вспышки, но я сделал вид, что не слышал его слов. Мое молчание — лучшее и острейшее орудие в сражениях с Поликарпом. Это презрительное пропускание мимо ушей его ядовитых слов обезоруживает его и лишает почвы. Оно как наказание действует сильнее, чем подзатыльник или поток ругательных слов… Когда Поликарп вышел на двор седлать Зорьку, я заглянул в книгу, которую помешал ему читать… Это был «Граф Монте-Кристо», страшный роман Дюма… Мой цивилизованный дурак читает всё, начиная с вывесок питейных домов и кончая Огюстом Контом, лежащим у меня в сундуке вместе с другими мною не читаемыми, заброшенными книгами; но из всей массы печатного и писанного он признает одни только страшные, сильно действующие романы с знатными «господами», ядами и подземными ходами, остальное же он окрестил «чепухой». Об его чтении мне придется еще говорить в будущем, теперь же — ехать! Через четверть часа копыта моей Зорьки уже вздымали пыль по дороге от деревни до графской усадьбы. Солнце было близко к своему ночлегу, но жар и духота давали еще себя чувствовать… Накаленный воздух был неподвижен и сух, несмотря на то, что дорога моя лежала по берегу громаднейшего озера… Справа видел я водную массу, слева ласкала мой взгляд молодая, весенняя листва дубового леса, а между тем мои щеки переживали Сахару. «Быть грозе!» — подумал я, мечтая о хорошем, холодном ливне… Озеро тихо спало. Ни одним звуком не приветствовало оно полета моей Зорьки, и лишь писк молодого кулика нарушал гробовое безмолвие неподвижного великана. Солнце гляделось в него, как в большое зеркало, и заливало всю его ширь от моей дороги до далекого берега ослепительным светом. Ослепленным глазам казалось, что не от солнца, а от озера берет свой свет природа. Зной вогнал в дремоту и жизнь, которою так богато озеро и его зеленые берега… Попрятались птицы, не плескалась рыба, тихо ждали прохлады полевые кузнечики и сверчки. Кругом была пустыня. Лишь изредка моя Зорька вносила меня в густое облако прибрежных комаров, да вдали на озере еле шевелились три черные лодочки старика Михея, нашего рыболова, взявшего на откуп всё озеро. Я ехал не по прямой линии, а по окружности, какою представлялись берега круглого озера. Ехать по прямой линии можно было только на лодке, ездящие же сухим путем делают большой круг и проигрывают около восьми верст. Во всё время пути я, глядя на озеро, видел противоположный глинистый берег, над которым белела полоса цветшего черешневого сада, из-за черешен высилась графская клуня, усеянная разноцветными голубями, и белела маленькая колокольня графской церкви. У глинистого берега стояла купальня, обитая парусом; на перилах сушились простыни. Всё это я видел, и моим глазам казалось, что меня отделяет от моего приятеля-графа какая-нибудь верста, а между тем, чтобы добраться до графской усадьбы, мне нужно было проскакать шестнадцать верст. На пути я думал о своих странных отношениях к графу. Интересно мне было дать себе в них отчет, регулировать их, но — увы! — этот отчет оказался непосильной задачей. Сколько я ни думал, ни решал, а в конце концов пришлось остановиться на заключении, что я плохой знаток самого себя и вообще человека. Люди, знавшие меня и графа, различно истолковывают наши взаимные отношения. Узкие лбы, не видящие ничего дальше своего носа, любят утверждать, что знатный граф видел в «бедном и незнатном» судебном следователе хорошего прихвостня-собутыльника. Я, пишущий эти строки, по их разумению, ползал и пресмыкался у графского стола ради крох и огрызков! По их мнению, знатный богач, пугало и зависть всего С—го уезда, был очень умен и либерален; иначе тогда непонятно было бы милостивое снисхождение до дружбы с неимущим следователем и тот сущий либерализм, который сделал графа нечувствительным к моему «ты». Люди же поумнее объясняют наши близкие отношения общностью «духовных интересов». Я и граф — сверстники. Оба мы кончили курс в одном и том же университете, оба мы юристы и оба очень мало знаем: я знаю кое-что, граф же забыл и утопил в алкоголе всё, что знал когда-нибудь. Оба мы гордецы и, в силу каких-то одним только нам известных причин, как дикари, чуждаемся общества. Оба мы не стесняемся мнением света (т. е. С—го уезда), оба безнравственны и оба плохо кончим. Таковы связующие нас «духовные интересы». Более этого ничего не могут сказать о наших отношениях знавшие нас люди. Они, конечно, сказали бы более, если бы знали, как слаба, мягка и податлива натура друга моего графа и как силен и крепок я. Они многое сказали бы, если бы знали, как любил меня этот тщедушный человек и как я его не любил! Он первый предложил мне свою дружбу, и я первый сказал ему «ты», но с какою разницей в тоне! Он, в припадке хороших чувств, обнял меня и робко попросил моей дружбы — я же, охваченный однажды чувством презрения, брезгливости, сказал ему: — Полно тебе молоть чепуху! И это «ты» он принял как выражение дружбы и стал носить его, платя мне честным, братским «ты»… Да, лучше и честнее я сделал бы, если бы повернул свою Зорьку и поехал назад к Поликарпу и Ивану Демьянычу. Впоследствии я думал не раз: сколько несчастий не пришлось бы мне перенести на своих плечах и сколько добра принес бы я своим ближним, если бы в этот вечер у меня хватило решимости поворотить назад, если бы моя Зорька взбесилась и унесла меня подальше от этого страшного большого озера! Сколько мучительных воспоминаний не давили бы теперь моего мозга и не заставляли бы мою руку то и дело оставлять перо и хвататься за голову! Но не стану забегать вперед, тем более, что впереди придется еще много раз останавливаться на горечи. Теперь о веселом… Моя Зорька внесла меня в ворота графской усадьбы. У самых ворот она споткнулась, и я, потеряв стремя, чуть было не свалился на землю. — Худой знак, барин! — крикнул мне какой-то мужик, стоявший у одной из дверей длинных графских конюшен. Я верю в то, что человек, упавший с лошади, может сломать себе шею, но не верую в предзнаменования. Отдав повода мужику и обивая хлыстом пыль с ботфортов, я побежал в дом. Меня никто не встретил. Окна и двери в комнатах были открыты настежь, но, несмотря на это, в воздухе стоял тяжелый, странный запах. То была смесь запаха ветхих, заброшенных покоев с приятным, но едким, наркотическим запахом тепличных растений, недавно принесенных из оранжереи в комнаты… В зале, на одном из диванов, обитых светло-голубой шёлковой материей, лежали две помятые подушки, а перед диваном на круглом столе я увидел стакан с несколькими каплями жидкости, распространявшей запах крепкого рижского бальзама. Всё это говорило за то, что дом обитаем, но я, обойдя все одиннадцать комнат, не встретил ни одной живой души. В доме царила такая же пустыня, как и вокруг озера… Из так называемой «мозаиковой» гостиной вела в сад большая стеклянная дверь. Я с шумом отворил ее и по мраморной террасе спустился в сад. Тут, пройдя несколько шагов по аллее, я встретил девяностолетнюю старуху Настасью, бывшую когда-то нянькой у графа. Это — маленькое, сморщенное, забытое смертью существо, с лысой головкой и колючими глазами. Когда глядишь на ее лицо, то невольно припоминаешь прозвище, данное ей дворней: «Сычиха»… Увидев меня, она вздрогнула и чуть не уронила стакан со сливками, который она несла обеими руками. — Здорово, Сычиха! — сказал я ей. Она искоса поглядела на меня и молча прошла мимо… Я взял ее за плечо… — Не бойся, дура… Где граф? Старуха показала себе на уши. — Ты глуха? А давно ты оглохла? Старуха, несмотря на свой преклонный возраст, отлично слышит и видит, но находит нелишним клеветать на свои органы чувств… Я пригрозил ей пальцем и отпустил ее. Пройдя еще несколько шагов, я услышал голоса, а немного погодя увидел и людей. В том месте, где аллея расширялась в площадку, окруженную чугунными скамьями, под тенью высоких белых акаций стоял стол, на котором блестел самовар. Около стола говорили. Я тихо подошел по траве к площадке и, скрывшись за сиреневый куст, стал искать глазами графа. Мой друг, граф Карнеев, сидел за столом на складном решетчатом стуле и пил чай. На нем был пестрый халат, в котором я видел его два года тому назад, и соломенная шляпа. Лицо было озабочено, сосредоточено, сжато в складки, так что человек, не знакомый с ним, мог бы подумать, что его мучит в данную минуту солидная мысль, забота… Наружно граф нисколько не изменился за время нашей двухлетней разлуки. То же маленькое худое тело, жидкое и дряблое, как тело коростеля. Те же узкие чахоточные плечи с маленькой рыженькой головкой. Носик по-прежнему розов, щеки, как и два года тому назад, отвисают тряпочками. На лице ничего смелого, сильного, мужественного… Всё слабо, апатично и вяло. Внушительны одни только большие, отвисающие вниз усы. Моему другу кто-то сказал, что ему идут длинные усы. Он поверил и теперь каждое утро меряет, насколько длиннее стала растительность над его бледными губами. С этими усами он напоминает усатого, но очень молодого и хилого котенка. Рядом с графом за тем же столом сидел какой-то неизвестный мне толстый человек с большой стриженой головой и очень черными бровями. Лицо этого было жирно и лоснилось, как спелая дыня. Усы длиннее, чем у графа, лоб маленький, губы сжаты, и глаза лениво глядят на небо… Черты лица расплылись, но, тем не менее, они жестки, как высохшая кожа. Тип не русский… Толстый человек был без сюртука и без жилета, в одной сорочке, на которой темнели мокрые от пота места. Он пил не чай, а зельтерскую воду. В почтительном отдалении от стола стоял плотный, приземистый человечек с красным, жирным затылком и оттопыренными ушами. Это был управляющий графа, Урбенин. Ради приезда его сиятельства, он нарядился в новую черную пару и теперь испытывал муки. Пот ручьями лил с его красного, загоревшего лица. Рядом с управляющим стоял мужик, приезжавший ко мне с письмом. Только тут я заметил, что у этого мужика не было одного глаза. Вытянувшись в струнку и не позволяя себе ни малейшего движения, он стоял, как статуя, и ждал вопросов. — Взять бы вот у тебя, Кузьма, твою нагайку да отшпандорить тебя во все корки, — говорил ему с расстановкой своим внушительным и мягким баском управляющий. — Разве можно так неряшливо исполнять господские приказания? Ты должен был просить их пожаловать сюда немедленно и узнать, когда именно они могут быть? — Да, да, да… — нервничал граф. — Ты должен был всё узнать! Он сказал: буду! Но ведь этого недостаточно! Он мне сейчас нужен! Обя-за-тель-но сейчас! Ты его просил, а он тебя не понял! — На что он тебе так понадобился? — спросил графа толстяк. — Мне нужно его видеть! — Только-то? А по-моему, Алексей, этот твой следователь лучше бы сделал, если бы сегодня посидел у себя дома. Мне теперь не до гостей. Я сделал большие глаза. Что значило это хозяйское, повелительное «мне»? — Но ведь это не гость! — сказал умоляющим голосом мой друг. — Он не помешает тебе отдохнуть после дороги. С ним, пожалуйста, не церемонься!.. Увидишь, что это за человек! Ты сразу его полюбишь и подружишься с ним, голубчик! Я вышел из-за сиреневых кустов и направился к столу. Граф увидел меня, узнал, и на просиявшем лице его заиграла улыбка. — Вот и он! Вот и он! — заговорил он, краснея от удовольствия и выскакивая из-за стола. — Как это мило с твоей стороны! И, подбежав ко мне, он подскочил, обнял меня и своими жесткими усами несколько раз поцарапал мою щеку. За поцелуями следовало продолжительное рукопожатие и засматривание мне в глаза… — А ты, Сергей, нисколько не изменился! Всё тот же! Такой же красавец и силач! Спасибо, что уважил и приехал! Освободившись от графских объятий, я поздоровался с управляющим, моим хорошим знакомым, и сел за стол. — Ах, голубчик! — продолжал встревоженный и обрадованный граф. — Если бы ты знал, как мне приятно видеть твою серьезную физиономию! Ты незнаком? Позволь тебе представить: мой хороший друг Каэтан Казимирович Пшехоцкий. А это вот, — продолжал он, указав толстяку на меня, — мой хороший, давнишний друг Сергей Петрович Зиновьев! Здешний следователь… Чернобровый толстяк слегка приподнялся и подал мне свою жирную, ужасно потную руку. — Очень приятно, — пробормотал он, рассматривая меня. — Очень рад. Изливши свои чувства и успокоившись, граф налил мне стакан холодного красно-бурого чая и придвинул к моим рукам ящик с печеньями. — Кушай… Проездом через Москву у Эйнема купил. А я на тебя сердит, Сережа, так сердит, что даже хотел поругаться с тобой!.. Мало того, что ты не написал мне в эти два года ни строчки, но даже не удостоил ответом ни одного моего письма! Это не по-дружески! — Я не умею писать писем, — сказал я, — да кстати же у меня нет и времени для переписки. И о чем, скажи, пожалуйста, я мог писать тебе? — Мало ли о чем? — Право, не о чем. Я признаю письма только трех сортов: любовные, поздравительные и деловые. Первых я не писал потому, что ты не женщина и я в тебя не влюблен, вторые тебе не нужны, а от третьих мы избавлены, так как у нас с тобой отродясь общих дел не было. — Это, положим, так, — согласился граф, быстро и охотно со всем соглашающийся, — но все-таки мог бы хоть строчку… И потом, как рассказывает вот Петр Егорыч, ты за все два года ни разу не наведался сюда, точно за тысячу верст живешь или… брезгуешь моим добром. Мог бы здесь пожить, поохотиться. И мало ли что могло здесь без меня случиться! Граф говорил много и долго. Раз начавши говорить о чем-нибудь, он болтал языком без умолку и без конца, как бы мелка и жалка ни была тема. В произнесении звуков он был неутомим, как мой Иван Демьяныч. Я едва выносил его за эту способность. Остановил его на этот раз лакей Илья, высокий, тонкий человек в поношенной пятнистой ливрее, поднесший графу на серебряном подносе рюмку водки и полстакана воды. Граф выпил водку, запил водой и, поморщившись, покачал головой. — А ты еще не бросил походя дуть водку! — сказал я. — Не бросил, Сережа! — Ну, хоть брось пьяную манеру морщиться и качать головой! Противно. — Я, голубчик, всё бросаю… Мне доктора запретили пить. Пью теперь только потому, что сразу нездорово бросать… Нужно постепенно… Я поглядел на больное, истрепавшееся лицо графа, на рюмку, на лакея в желтых башмаках, поглядел я на чернобрового поляка, который с первого же раза показался мне почему-то негодяем и мошенником, на одноглазого вытянувшегося мужика, — и мне стало жутко, душно… Мне вдруг захотелось оставить эту грязную атмосферу, предварительно открыв графу глаза на всю мою к нему безграничную антипатию… Был момент, когда я готов уже был подняться и уйти… Но я не ушел… Мне помешала (стыдно сознаться!) простая физическая лень… — Дай и мне водки! — сказал я Илье. Продолговатые тени стали ложиться на аллею и нашу площадку… Далекое кваканье лягушек, карканье ворон и пение иволги приветствовали уже закат солнца. Наступал весенний вечер… — Посади Урбенина, — шепнул я графу. — Он стоит перед тобой, как мальчишка. — Ах, сам я и не догадался! Петр Егорыч, — обратился граф к управляющему, — садитесь, пожалуйста! Будет вам стоять! Урбенин сел и поглядел на меня благодарными глазами. Вечно здоровый и веселый, он показался мне на этот раз больным, скучающим. Лицо его было точно помято, сонно, и глаза глядели на нас лениво, нехотя… — Что у нас новенького, Петр Егорыч? Что хорошенького? — спросил его Карнеев. — Нет ли чего-нибудь этакого… из ряда вон выдающегося? — Всё по-старому, ваше сиятельство… — Нет ли того… новеньких девочек, Петр Егорыч? Нравственный Петр Егорыч покраснел. — Не знаю, ваше сиятельство… Я в это не вхожу. — Есть, ваше сиятельство, — пробасил всё время до этого молчавший одноглазый Кузьма. — И очень даже стоющие. — Хорошие? — Всякие есть, ваше сиятельство, на всякий скус… И брунетки, и баландинки, и всякие… — Ишь ты!.. Постой, постой… Я теперь припоминаю тебя… Мой бывший Лепорелло[126], секретарь по части… Тебя, кажется, Кузьмой зовут? — Точно так… — Помню, помню… Какие же теперь у тебя есть на примете? Небось, всё мужички? — Больше, известно, мужички, но есть и почище… — Где ж это ты почище нашел? — спросил Илья, щуря на Кузьму глаза. — На Святой к почтарю свояченица приехала… Настась Иванна… Девка вся на винтах — сам бы ел, да деньги надобны… Кровь во всю щеку и прочее такое… Есть и того почище. Только вас и дожидалась, ваше сиятельство. Молоденькая, пухлявенькая, шустренькая… красота! Этакой красоты, ваше сиятельство, и в Питинбурге не изволили видеть… — Кто же это? — Оленька, лесничего Скворцова дочка. Под Урбениным затрещал стул. Упираясь руками о стол и багровея, управляющий медленно поднялся и повернул свое лицо к одноглазому мужику. Выражение утомления и скуки уступило свое место сильному гневу… — Замолчи, хам! — проворчал он. — Гадина одноглазая!.. Говори, что хочешь, но не смей ты трогать порядочных людей! — Я вас не трогаю, Петр Егорыч, — невозмутимо проговорил Кузьма. — Я не про себя говорю, болван! Впрочем… простите меня, ваше сиятельство, — обратился управляющий к графу. — Простите, что я сделал сцену, но я просил бы ваше сиятельство запретить вашему Лепорелло, как вы изволили его назвать, распространять свое усердие на особ, достойных всякого уважения! — Я ничего… — пролепетал наивный граф. — Он ничего не сказал такого особенного. Обиженный и взволнованный до крайности, Урбенин отошел от стола и стал к нам боком. Скрестив на груди руки и мигая глазами, он спрятал от нас свое багровое лицо за веточку и задумался. Не предчувствовал ли этот человек, что в недалеком будущем его нравственному чувству придется испытать оскорбления в тысячу раз горшие? — Не понимаю, чего он обиделся! — шепнул мне граф. — Вот чудак! Оскорбительного ведь ничего не было сказано. После двухлетнего трезвого житья рюмка водки подействовала на меня слегка опьяняюще. В мозгу и по всему телу моему разлилось чувство легкости, удовольствия. К тому же я стал ощущать вечернюю прохладу, которая мало-помалу вытесняла дневную духоту… Я предложил пройтись. Из дома принесли графу и его новому другу-поляку их сюртуки, и мы пошли. За нами последовал и Урбенин. Графский сад, по которому мы гуляли, ввиду его поражающей роскоши, достоин особого, специального описания. В ботаническом, хозяйственном и во многих других отношениях он богаче и грандиознее всех садов, какие я когда-либо видел. Кроме вышеописанных поэтических аллей с зелеными сводами, вы найдете в нем всё, чего только может требовать от сада взгляд прихотливого баловня. Тут и всевозможные, туземные и иностранные, фруктовые деревья, начиная с черешен и слив и кончая крупным, с гусиное яйцо, абрикосом. Шелковица, барбарис, французские бергамотовые деревья и даже маслина попадаются на каждом шагу… Тут и полуразрушенные, поросшие мхом гроты, фонтаны, прудики, предназначенные для золотой рыбы и ручных карпов, горы, беседки, дорогие оранжереи… И эта редкая роскошь, собранная руками дедов и отцов, это богатство больших, полных роз, поэтических гротов и бесконечных аллей было варварски заброшено и отдано во власть сорным травам, воровскому топору и галкам, бесцеремонно вившим свои уродливые гнезда на редких деревьях! Законный владелец этого добра шел рядом со мной, и ни один мускул его испитого и сытого лица не дрогнул при виде запущенности и кричащей человеческой неряшливости, словно не он был хозяином сада. Раз только, от нечего делать, он заметил управляющему, что недурно было бы, если бы дорожки были посыпаны песочком. Он обратил внимание на отсутствие никому не нужного песочка, а не заметил голых, умерших за холодную зиму деревьев и коров, гулявших по саду. На его замечание Урбенин ответил, что для надзора за садом нужно иметь человек десять работников, а так как его сиятельство не изволит жить у себя в имении, то затраты на сад являются роскошью ненужной и непроизводительной. Граф, конечно, согласился с этим доводом. — Да и некогда мне, признаться! — махнул рукой Урбенин. — Летом в поле, зимой в городе хлеб продаешь… Не до сада тут! Главная, так называемая «генеральная» аллея, вся прелесть которой состояла в ее старых, широких липах и в массе тюльпанов, тянувшихся двумя пестрыми полосами во всю ее длину, оканчивалась вдали желтым пятном. То была желтая каменная беседка, в которой когда-то был буфет с биллиардом, кеглями и китайской игрой. Мы бесцельно направились к этой беседке… У ее входа мы были встречены живым существом, несколько расстроившим нервы моих не храбрых спутников. — Змея! — вдруг взвизгнул граф, хватая меня за руку и бледнея. — Посмотри! Поляк сделал шаг назад, остановился, как вкопанный, и растопырил руки, точно загораживая путь привидению… На верхней ступени каменной полуразрушенной лестнички лежала молодая змея из породы наших обыкновенных русских гадюк. Увидев нас, она подняла головку и зашевелилась… Граф еще раз взвизгнул и спрятался за мою спину. — Не бойтесь, ваше сиятельство!.. — сказал лениво Урбенин, занося ногу на первую ступень… — А если укусит? — Не укусит. Да и вообще, кстати говоря, вред от укушения этих змей преувеличен. Я был раз укушен старой змеей — и не умер, как видите. — Человеческое жало опаснее змеиного! — не преминул сморальничать со вздохом Урбенин. И подлинно. Не успел управляющий пройти две-три ступени, как змея вытянулась во всю свою длину и с быстротою молнии юркнула в щель между двух плит. Войдя в беседку, мы увидели другое живое существо. На старом, полинявшем биллиарде с порванным сукном лежал старик невысокого роста в синем пиджаке, полосатых панталонах и жокейском картузике. Он сладко и безмятежно спал. Вокруг его беззубого, похожего на дупло рта и на остром носу хозяйничали мухи. Худой, как скелет, с открытым ртом и неподвижный, он походил на труп, только что принесенный из мертвецкого подвала для вскрытия. — Франц! — толкнул его Урбенин. — Франц! После пяти-шести толчков Франц закрыл рот, приподнялся, обвел всех нас глазами и опять лег. Через минуту рот его был опять открыт, и мух, гулявших около его носа, опять беспокоило легкое дрожанье от храпа. — Спит, свинья беспутная! — вздохнул Урбенин. — Это, кажется, наш садовник Трихер? — спросил граф. — Он самый… Вот так вот каждый день… Днем спит как убитый, а ночью в карты играет. Сегодня, сказывают, до шести часов утра играл… — Во что же он играет? — В азартные игры… Больше всё в стуколку. — Ну, такие господа плохо дело делают… Жалованье они только даром берут. — Это я не для того вам сказал, ваше сиятельство, — спохватился Урбенин, — чтобы жаловаться или выражать неудовольствие, а просто так… хотелось пожалеть, что такой способный человек и страсти подвержен. А человек он трудящийся, ничего себе… недаром жалованье берет. Мы еще раз взглянули на картежника Франца и вышли из беседки. Отсюда мы направились к садовой калитке, выходившей в поле. В редком романе не играет солидной роли садовая калитка. Если вы сами не подметили этого, то справьтесь у моего Поликарпа, проглотившего на своем веку множество страшных и нестрашных романов, и он, наверное, подтвердит вам этот ничтожный, но все-таки характерный факт. Мой роман тоже не избавлен от калитки. Но моя калитка разнится от других тем, что моему перу придется провести сквозь нее много несчастных и почти ни одного счастливого, что бывает в других романах только в обратном порядке. И, что хуже всего, эту калитку мне приходилось уже раз описывать, но не как романиету, а как судебному следователю… У меня проведет она сквозь себя более преступников, чем влюбленных. Через четверть часа мы, подпираясь тростями, плелись на гору, называемую у нас Каменной Могилой. У деревень существует легенда, что под этой каменной грудой покоится тело какого-то татарского хана, боявшегося, чтобы после его смерти враги не надругались над его прахом, а потому и завещавшего взвалить на себя гору камня. Но эта легенда едва ли справедлива… Каменные пласты, их взаимное наложение и величина исключают вмешательство человеческих рук в происхождение этой горы. Она стоит особняком в поле и напоминает собою опрокинутый колпак. Взобравшись на нее, мы увидели всё озеро во всей его пленительной шири и не поддающейся описанию красоте. Солнце уже не отражалось в нем; оно зашло и оставило после себя широкую багровую полосу, окрасившую окрестности в приятный, розовато-желтый цвет. У наших ног расстилалась графская усадьба с ее домом, церковью и садом, а вдали, по ту сторону озера, серела деревенька, в которой волею судеб я имел свою резиденцию. Поверхность озера была по-прежнему неподвижна. Лодочки старика Михея, отделившись друг от друга, спешили к берегу. В сторону от моей деревеньки темнела железнодорожная станция с дымком от локомотива, а позади нас, по другую сторону Каменной Могилы, расстилалась новая картина. У подножия Могилы шла дорога, по бокам которой высились старики-тополи. Дорога эта вела к графскому лесу, тянувшемуся до самого горизонта. Я и граф стояли на горе. Урбенин и поляк, как люди тяжелые, предпочли подождать нас внизу, на дороге. — Что это за шишка? — спросил я графа, кивнув на поляка. — Где ты его подцепил? — Это очень милый господин, Сережа, очень милый! — встревоженно заговорил граф. — Ты скоро подружишься с ним! — Ну, это едва ли. Отчего он всё молчит? — По натуре он молчалив! Но зато как умен! — Да что он за человек? — В Москве я с ним познакомился. Он очень милый. После ты всё узнаешь, Сережа, а теперь не спрашивай. Спустимся? Мы спустились с Могилы и пошли по дороге к лесу. Стало заметно темнеть. Из лесу доносилось кукуканье кукушки и голосовые вздрагивания утомленного, вероятно, молодого соловья. — Ау! ау! — услышали мы звонкий детский голосок, подходя к лесу. — Ловите меня! И из лесу выбежала маленькая девочка, лет пяти, с белой, как лен, головкой и в голубом платье. Увидев нас, она звонко захохотала и, подпрыгивая, подскочила к Урбенину и обняла его колено. Урбенин поднял ее и поцеловал в щеку. — Моя дочка Саша! — сказал он. — Рекомендую. За Сашей гнался из лесу гимназист лет пятнадцати, сын Урбенина. Увидев нас, он в нерешимости снял шапку, надел и опять снял. За ним тихо двигалось красное пятно. Это пятно сразу приковало к себе наше внимание. — Какое чудное видение! — воскликнул граф, хватая меня за руку. — Погляди! Какая прелесть! Что это за девочка? Я и не знал, что в моих лесах обитают такие наяды! Я взглянул на Урбенина, чтобы спросить, что это за девушка, и, странно, только в этот момент заметил, что управляющий ужасно пьян. Он, красный как рак, покачнулся и схватил меня за локоть. — Сергей Петрович! — зашептал он мне на ухо, обдавая меня спиртными парами, — умоляю вас — удержите графа от дальнейших замечаний относительно этой девушки. Он по привычке может лишнее сказать, а это в высшей степени достойная особа! «В высшей степени достойная особа» представляла из себя девятнадцатилетнюю девушку с прекрасной белокурой головкой, добрыми голубыми глазами и длинными кудрями. Она была в ярко-красном, полудетском, полудевическом платье. Стройные, как иглы, ножки в красных чулках сидели в крошечных, почти детских башмачках. Круглые плечи ее всё время, пока я любовался ею, кокетливо ежились, словно им было холодно и словно их кусал мой взгляд. — При таком молодом лице и такие развитые формы! — шепнул мне граф, потерявший еще в самой ранней молодости способность уважать женщин и не глядеть на них с точки зрения испорченного животного. У меня же, помню, затеплилось в груди хорошее чувство. Я был еще поэтом и в обществе лесов, майского вечера и начинающей мерцать вечерней звезды мог глядеть на женщину только поэтом… Я смотрел на девушку в красном с тем же благоговением, с каким привык глядеть на леса, горы, лазурное небо. У меня еще тогда осталась некоторая доля сентиментальности, полученной мною в наследство от моей матери-немки. — Кто это? — спросил граф. — Это дочь лесничего Скворцова, ваше сиятельство! — сказал Урбенин. — Это та Оленька, о которой говорил одноглазый мужик? — Да, он упомянул ее имя, — ответил управляющий, глядя на меня умоляющими, большими глазами. Девушка в красном пропустила нас мимо себя, по-видимому, не обращая на нас ни малейшего внимания. Глаза ее глядели куда-то в сторону, но я, человек, знающий женщин, чувствовал на своем лице ее зрачки. — Кто из них граф? — услышал я позади нас ее шёпот. — Вот этот, с длинными усами, — отвечал гимназист. И мы услышали сзади себя серебристый смех… То был смех разочарованной… Она думала, что граф, владелец этих громадных лесов и широкого озера — я, а не этот пигмей с испитым лицом и длинными усами… Я услышал глубокий вздох, выходивший из коренастой груди Урбенина. Железный человек еле двигался. — Отпусти управляющего, — шепнул я графу. — Он болен или… пьян. — Вы, кажется, больны, Петр Егорыч! — обратился граф к Урбенину. — Вы мне не нужны, а потому я вас не задерживаю. — Не беспокойтесь, ваше сиятельство. Благодарю вас за ваше внимание, но я не болен. Я оглянулся… Красное пятно не двигалось и глядело нам вслед… Бедная белокурая головка! Думал ли я в этот тихий, полный покоя майский вечер, что она впоследствии будет героиней моего беспокойного романа? Теперь, когда я пишу эти строки, в мои теплые окна злобно стучит осенний дождь и где-то надо мной воет ветер. Я гляжу на темное окно и на фоне ночного мрака силюсь создать силою воображения мою милую героиню… И я вижу ее с ее невинно-детским, наивным, добрым личиком и любящими глазами. Мне хочется бросить перо и разорвать, сжечь то, что уже написано. К чему трогать память этого молодого, безгрешного существа? Но тут же, около моей чернильницы, стоит ее фотографический портрет. Здесь белокурая головка представлена во всем суетном величии глубоко павшей красивой женщины. Глаза, утомленные, но гордые развратом, неподвижны. Здесь она именно та змея, вред от укушения которой Урбенин не назвал бы преувеличенным. Она дала буре поцелуй, и буря сломала цветок у самого корня. Много взято, но зато слишком дорого и заплачено. Читатель простит ей ее грехи… Мы пошли по лесу. Сосны скучны своем молчаливым однообразием. Все они одинакового роста, похожи одна на другую и во все времена года сохраняют свой вид, не зная ни смерти, ни весеннего обновления. Но зато привлекательны они своею угрюмостью: неподвижны, бесшумны, словно унылую думу думают. — Не воротиться ли нам? — предложил граф. На этот вопрос не последовало ответа. Поляку было решительно всё равно, где бы ни быть, Урбенин не считал свой голос решающим, а я слишком обрадовался лесной прохладе я смолистому воздуху, чтобы поворотить назад. К тому же нужно было убить чем-нибудь, хотя бы простою прогулкой, время до ночи. Мысль о приближающейся дикой ночи сопровождалась сладким замиранием сердца. Я, стыдно сознаться, мечтал о ней и мысленно уже предвкушал ее наслаждение. А по тому нетерпению, с каким граф то и дело посматривал на часы, видно было, что и его терзало ожидание. Мы чувствовали, что понимали друг друга. Около домика лесничего, ютившегося между сосен на маленькой квадратной площадке, нас встретили со звонким, певучим лаем две маленькие собаки желто-огненного цвета, неизвестной мне породы, гибкие, как угри, и лоснящиеся. Узнав Урбенина, они весело замахали хвостами и побежали к нему, из чего можно было заключить, что управляющий часто посещал домик лесничего. Тут же около домика встретил нас какой-то парень без сапог и без шапки, с крупными веснушками на удивленном лице. Минуту он глядел на нас молча, выпучив глаза, потом же, узнав, вероятно, графа, ахнул и опрометью побежал в домик. — Я знаю, зачем он побежал, — засмеялся граф. — Я его помню… Это Митька. Граф не обознался. Меньше чем через минуту Митька вышел из домика, неся на подносе рюмку водки и полстакана воды. — На доброе здоровье, ваше сиятельство! — сказал он, поднося и улыбаясь во всё свое глупое, удивленное лицо. Граф выпил водку, «закусил» водой, но на этот раз не поморщился. В ста шагах от домика стояла чугунная скамья, такая же старая, как сосны. Мы сели на нее и занялись созерцанием майского вечера во всей его тихой красоте… Над нашими головами с карканьем летали испуганные вороны, с разных сторон доносилось соловьиное пение; это только и нарушало всеобщую тишину. Граф не умеет молчать даже в тихий весенний вечер, когда человеческий голос менее всего приятен. — Я не знаю, останешься ли ты доволен? — обратился он ко мне. — Я заказал к ужину уху из ершей и дичь. К водке будет холодная осетрина и поросенок с хреном. Словно рассердясь на эту прозу, поэтические сосны вдруг зашевелили своими верхушками, и по лесу пронесся тихий ропот. Свежий ветерок пробежал по просеке и поиграл травой. — Будет вам! — крикнул Урбенин собачонкам огненного цвета, мешавшим ему своими ласками закурить папиросу. — А мне сдается, что сегодня будет дождь. По воздуху чувствую. Сегодня была такая ужасная жара, что не нужно быть ученым профессором, чтобы предсказать дождь. Для хлеба будет хорошо. «А на что тебе хлеб, — подумал я, — если его граф пропьет? Незачем дождю и трудиться». По лесу еще раз пробежал ветерок, но на этот раз более резкий. Сосны и трава зароптали громче. — Пойдемте домой. Мы встали и лениво поплелись назад, к домику. — Лучше быть этой белокурой Оленькой, — обратился я к Урбенину, — и жить здесь со зверями, чем судебным следователем и жить с людьми… Покойнее. Не правда ли, Петр Егорыч? — Чем ни быть, лишь бы на душе было покойно, Сергей Петрович. — А у этой хорошенькой Оленьки покойно на душе? — Одному только богу ведома чужая душа, но мне кажется, что ей не из чего беспокоиться. Горя не много, грехов — как у малолетка… Это очень хорошая девушка! Но вот, наконец, и небо про дождь заговорило… Послышался грохот не то далекого экипажа, не то игры в кегли… Прогремел где-то вдали за лесом гром… Митька, всё время следивший за нами, вздрогнул и быстро закрестился… — Гроза! — встрепенулся граф. — Вот сюрприз! Этак нас дорогой дождь захватит… И темно как стало! Говорил: воротимся! Так нет, дальше пошел… — Мы в домике грозу переждем, — предложил я. — Зачем же в домике? — заговорил Урбенин, как-то странно мигая глазами. — Дождь будет идти всю ночь, так и вы всю ночь в домике просидите? А вы не извольте беспокоиться… Идите себе, а Митька побежит вперед, экипаж вам навстречу вышлет. — Ничего, авось и не всю ночь дождь будет хлестать… Грозовые тучи обыкновенно скоро проходят… Кстати же я незнаком еще с новым лесничим, и хотелось бы с этой Оленькой поболтать… узнать, что за птичка… — Я не прочь! — согласился граф. — Но как вы туда пойдете, ежели… ежели там того… не прибрано? — залепетал встревоженно Урбенин. — Просидеть там в духоте, ваше сиятельство, в то время, когда дома быть можно… Не понимаю, что за удовольствие!.. А знакомиться с лесничим, ежели он болен… Очевидно было, что управляющему сильно не хотелось, чтобы мы вошли в домик лесничего. Он даже растопырил руки, точно желая загородить нам дорогу… Я понял по его лицу, что у него были причины не впускать нас. Уважаю я чужие причины и тайны, но на этот раз меня сильно подстрекнуло любопытство. Я настоял, и мы вошли в домик. — В зал пожалуйте! — не сказал, а как-то особенно икнул, захлебываясь от радости, босой Митька… Представьте вы себе самый маленький в мире зал с некрашеными деревянными стенами. Стены увешаны олеографиями «Нивы», фотографиями в раковинных, или, как они у нас называются, ракушковых рамочках и аттестатами… Один аттестат — благодарность какого-то барона за долголетнюю службу, остальные — лошадиные… Кое-где по стенам вьется плющ… В углу перед маленьким образом тихо теплится и слабо отражается в серебряной оправе синий огонек. У стен жмутся стулья, по-видимому, недавно купленные… Куплено много лишних, но и их поставили: девать некуда… Тут же теснятся кресла с диваном в белоснежных чехлах с оборками и кружевами и круглый лакированный стол. На диване дремлет ручной заяц… Уютно, чистенько и тепло… На всем заметно присутствие женщины. Даже этажерочка с книгами глядит как-то невинно, по-женски, словно ей так и хочется сказать, что на ней нет ничего, кроме слабеньких романов и смирных стихов… Прелесть таких уютных, теплых комнаток чувствуется не так весною, как осенью, когда ищешь приюта от холода, сырости… Митька с шумом, сопя, дуя и громко чиркая спичками, зажег две свечи и осторожно, как молоко, поставил их на стол. Мы сели на кресла, переглянулись и засмеялись… — Николай Ефимыч больной лежит, — пояснил отсутствие хозяев Урбенин, — а Ольга Николаевна, должно быть, моих детей пошла провожать… — Митька, двери заперты? — услышали мы слабый тенор из соседней комнаты. — Заперты-с, Николай Ефимыч! — прохрипел Митька и полетел опрометью в соседнюю комнату. — То-то… Смотри, чтобы все заперты были… — сказал тот же слабый голос. — На ключ, крепко-накрепко… Если воры будут лезть, то ты мне скажешь… Я их, мерзавцев, ружьем… подлецов этаких… — Беспременно-с, Николай Ефимыч! Мы засмеялись и вопросительно поглядели на Урбенина. Тот покраснел и, чтобы скрыть свое смущение, начал поправлять на окне занавеску… Что сей сон значил? Мы опять переглянулись. Но недоумевать было некогда. На дворе послышались поспешные шаги, затем шум на крыльце и хлопанье дверью. В «зал» влетела девушка в красном. — «Люб-лю гро-зу в на-ча-ле мая!»[127] — запела она высоким, визжащим сопрано, прерывая свой визг смехом, но, увидев нас, она вдруг остановилась и умолкла. Она сконфузилась и тихо, как овечка, пошла в комнату, откуда только что слышался голос ее отца, Николая Ефимыча. — Не ожидала! — усмехнулся Урбенин. Через несколько времени она тихо вошла, села на стул, ближайший к двери, и стала нас рассматривать. Смотрела она на нас смело, в упор, словно мы были не новые для нее люди, а животные зоологического сада. Минуту и мы глядели на нее молча, не двигаясь… Я согласился бы и год просидеть неподвижно и глядеть на нее — до того хороша она была в этот вечер. Свежий, как воздух, румянец, часто дышащая, поднимающаяся грудь, кудри, разбросанные на лоб, на плечи, на правую руку, поправляющую воротничок, большие блестящие глаза… всё это на одном маленьком теле, поглощаемое одним взглядом… Поглядишь один раз на это маленькое пространство и увидишь больше, чем если бы глядел целые века на нескончаемый горизонт… На меня глядела она серьезно, снизу вверх, вопрошающе; когда же ее глаза переходили с меня на графа или поляка, то я начинал читать в них обратное: взгляд сверху вниз и смех… Первый заговорил я. — Рекомендуюсь, — сказал я, вставая и подходя к ней, — Зиновьев… А это, рекомендую, мой друг, граф Карнеев… Просим прощения, что без приглашения вломились в ваш хорошенький домик… Мы, конечно, не сделали бы этого, если бы нас не загнала гроза… — Но ведь от этого не развалится наш домик! — сказала она, смеясь и подавая мне руку. Она показала мне прелестные зубы. Я сел рядом с ней на стул и рассказал ей о том, как неожиданно встретилась на нашем пути гроза. Начался разговор о погоде — начале всех начал. Пока мы с ней беседовали, Митька уже успел два раза поднести графу водки и неразлучной с ней воды… Пользуясь тем, что я на него не смотрю, граф после обеих рюмок сладко поморщился и покачал головой. — Вы, может быть, закусить желаете? — спросила меня Оленька и, не дожидаясь ответа, вышла из комнаты… Первые капли застучали по стеклам… Я подошел к окну… Было уже совсем темно, и сквозь стекло я не увидел ничего, кроме ползущих вниз дождевых капель и отражения собственного носа. Блеснул свет от молнии и осветил несколько ближайших сосен… — Двери заперты? — услышал я опять слабый тенор. — Митька, поди, подлая твоя душа, запри двери! Мучение мое, господи! Баба с двойным, перетянутым животом и с глупым озабоченным лицом вошла в зал, низко поклонилась графу и покрыла стол белой скатертью. За ней осторожно двигался Митька, неся закуски. Через минуту на столе стояли водка, ром, сыр и тарелка с какой-то жареной птицей. Граф выпил рюмку водки, но есть не стал. Поляк недоверчиво понюхал птицу и принялся ее резать. — Уже начался дождь! Поглядите! — сказал я вошедшей Оленьке. Девушка в красном подошла к моему окну, и в это самое время нас осветило на мгновение белым сиянием… Раздался наверху треск, и мне показалось, что что-то большое, тяжелое сорвалось на небе с места и с грохотом покатилось на землю… Оконные стекла и рюмки, стоявшие перед графом, содрогнулись и издали свой стеклянный звук… Удар был сильный… — Вы боитесь грозы? — спросил я Оленьку. Та прижала щеку к круглому плечу и поглядела на меня детски доверчиво. — Боюсь, — прошептала она, немного подумав. — Гроза убила у меня мою мать… В газетах даже писали об этом… Моя мать шла по полю и плакала… Ей очень горько жилось на этом свете… Бог сжалился над ней и убил ее своим небесным электричеством. — Откуда вы знаете, что там электричество? — Я училась… Вы знаете? Убитые грозой и на войне и умершие от тяжелых родов попадают в рай… Этого нигде не написано в книгах, но это верно. Мать моя теперь в раю. Мне кажется, что и меня убьет гроза когда-нибудь и что и я буду в раю… Вы образованный человек? — Да… — Стало быть, вы не будете смеяться… Мне вот как хотелось бы умереть. Одеться в самое дорогое, модное платье, какое я на днях видела на здешней богачке, помещице Шеффер, надеть на руки браслеты… Потом стать на самый верх Каменной Могилы и дать себя убить молнии так, чтобы все люди видели… Страшный гром, знаете, и конец… — Какая дикая фантазия! — усмехнулся я, заглядывая в глаза, полные священного ужаса перед страшной, но эффектной смертью. — А в обыкновенном платье вы не хотите умирать? — Нет… — покачала головой Оленька. — И так, чтобы все люди видели. — Ваше теперешнее платье лучше всяких модных и дорогих платьев… Оно идет к вам. В нем вы похожи на красный цветок зеленого леса. — Нет, это неправда! — наивно вздохнула Оленька. — Это платье дешевое, не может быть оно хорошим. К нашему окну подошел граф с явным намерением поговорить с хорошенькой Оленькой. Мой друг говорит на трех европейских языках, но не умеет говорить с женщинами. Он как-то некстати постоял около нас, нелепо улыбнулся, промычал «мда» и отошел вспять, к графину с водкой. — Вы, когда входили сюда в комнату, — сказал я Оленьке, — пели «Люблю грозу в начале мая». Разве эти стихи переложены на песню? — Нет, я пою по-своему все стихи, какие только знаю. Я случайно оглянулся назад. На нас глядел Урбенин. В глазах его я прочел ненависть, злобу, которые вовсе не идут к его доброму, мягкому лицу. «Ревнует он, что ли?» — подумал я. Бедняга, уловив мой вопросительный взгляд, поднялся со стула и пошел зачем-то в переднюю… Даже по его походке было заметно, что он был взволнован. Удары грома, один другого сильнее и раскатистее, стали повторяться всё чаще и чаще… Молния беспрерывно красила в свой приятный, ослепительный свет небо, и сосны, и мокрую почву… До конца дождя было еще далеко. Я отошел от окна к этажерке с книгами и занялся осмотром Оленькиной библиотеки. «Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты», — но из добра, симметрично покоившегося на этажерке, трудно было вывести какое бы то ни было заключение об умственном уровне и «образовательном цензе» Оленьки. Тут была какая-то странная смесь. Три хрестоматии, одна книжка Борна, задачник Евтушевского[128], второй том Лермонтова, Шкляревский, журнал «Дело»[129], поваренная книга, «Складчина»…[130] Я мог бы насчитать вам еще более книг, но в то время, когда я взял с этажерки «Складчину» и начал ее перелистывать, дверь из другой комнаты отворилась, и в зал вошел субъект, сразу отвлекший мое внимание от Оленькиного образовательного ценза. Это был высокий жилистый человек в ситцевом халате и порванных туфлях, с достаточно оригинальным лицом. Лицо его, исписанное синими жилочками, было украшено фельдфебельскими усами и бачками и в общем напоминало птичью физиономию. Всё лицо было вытянуто вперед, словно стремилось к кончику носа… Такие лица называются, кажется, «кувшинными рылами». Маленькая головка этого субъекта сидела на длинной, худощавой шейке с большим кадыком и покачивалась, как скворечня на ветре… Странный человек обвел нас мутными, зелеными глазами и уставился на графа… — Двери заперты? — спросил он умоляющим голосом. Граф поглядел на меня и пожал плечами… — Не беспокойся, папаша! — сказала Оленька. — Всё заперто… Иди в свою комнату! — А сарай заперт? — Он немножко тово… трогается иногда, — шепнул Урбенин, показываясь из передней. — Боится воров и вот, как видите, всё насчет дверей хлопочет… Николай Ефимыч, — обратился он к странному субъекту, — иди к себе в комнату и ложись спать! Не беспокойся, всё заперто! — А окна заперты? Николай Ефимыч быстро обегал все окна, попробовал их запоры и, не взглянув на нас, зашаркал туфлями в свою комнату. — Находит на него иногда, на беднягу, — начал пояснять по его уходе Урбенин. — Хороший, славный такой человек, знаете ли, семейный — и этакая напасть! Чуть ли не каждое лето в уме мешается… Я посмотрел на Оленьку. Та конфузливо, спрятав от нас свое лицо, приводила в порядок свои потревоженные книги. Ей, по-видимому, стыдно было за своего сумасшедшего отца. — А экипаж приехал, ваше сиятельство! — сказал Урбенин. — Можете ехать, если желаете! — Откуда же этот экипаж взялся? — спросил я. — Я посылал за ним… Через минуту я сидел с графом в карете, слушал раскаты грома и злился… — Выжил-таки нас из домика этот Петр Егорыч, чёрт его возьми! — ворчал я, не на шутку рассердясь. — Так и не дал разглядеть эту Оленьку! Я не съел бы ее у него… Старый дурак! Всё время от ревности лопался.. Он влюблен в эту девочку… — Да, да, да… Представь, и я это заметил! И не впускал он нас в домик только из ревности и за экипажем послал из ревности… Ха-ха! — Седина в бороду, а бес в ребро… Впрочем, брат, трудно не влюбиться в эту девушку в красном, видя ее каждый день такой, какой мы ее сегодня видели! Чертовски хорошенькая! Только не по его рылу она… Он должен это понимать и не ревновать так эгоистически… Люби, но не мешай и другим, тем более, что знаешь, что она не про тебя писана… Этакий ведь старый болван! — Помнишь, как он вскипел, когда Кузьма за чаем упомянул ее имя? — хихикнул граф. — Я думал, что он всех нас побьет тогда… Так горячо не заступаются за честное имя женщины, к которой равнодушны… — Заступаются, брат… Но дело не в этом… Важно вот что… Если он нами так командовал сегодня, то что выделывает он с маленькими людьми, с теми, которые находятся в его распоряжении! Небось, ключникам, экономам, охотникам и прочим малым мира сего и подступиться к ней не дает! Любовь и ревность делают человека несправедливым, бессердечным, человеконенавистником… Держу пари, что он заел уж из-за этой Оленьки не одного служащего под его начальством. Умно поэтому сделаешь, если будешь давать поменьше веры его жалобам на служащих и докладам о необходимости изгнания того или другого. Вообще на время ограничь его власть… Любовь пройдет — ну, тогда нечего будет бояться. Он добрый и честный малый… — А как тебе нравится ее папенька? — засмеялся граф. — Сумасшедший… Ему нужно в сумасшедшем доме сидеть, а не лесами заведовать… Вообще не солжешь, если на воротах своей усадьбы повесишь вывеску: «Сумасшедший дом»… У тебя здесь настоящий Бедлам! Лесничий этот, Сычиха, Франц, помешанный на картах, влюбленный старик, экзальтированная девушка, спившийся граф… чего лучше? — А ведь этот лесничий жалованье получает! Как же он служит, если он сумасшедший? — Очевидно, Урбенин держит его только из-за дочери… Урбенин говорит, что на Николая Ефимыча находит почти каждое лето… Но это едва ли… Не каждое лето, а постоянно болен этот лесничий… К счастью, твой Петр Егорыч редко лжет и выдает себя, если соврет что-нибудь… — В прошлом году Урбенин уведомлял меня, что старый лесничий Ахметьев едет в монахи на Афон, и рекомендовал мне «опытного, честного и заслуженного» Скворцова… Я, конечно, дал согласие, как и всегда его даю. Письма ведь не лица: не выдают себя, если лгут. Карета въехала во двор и остановилась у подъезда. Мы вышли из нее. Дождь уже прошел. Громовая туча, сверкая молниями и издавая сердитый ропот, спешила на северо-восток, всё более и более открывая голубое, звездное небо. Казалось, тяжело вооруженная сила, произведя опустошения и взявши страшную дань, стремилась к новым победам… Отставшие тучки гнались за ней и спешили, словно боялись не догнать… Природа получала обратно свой мир… И этот мир чудился в тихом ароматном воздухе, полном неги и соловьиных мелодий, в молчании спящего сада, в ласкающем свете поднимающейся луны… Озеро проснулось после дневного сна и легким ворчаньем давало знать о себе человеческому слуху… В такое время хорошо кататься по полю в покойной коляске или работать на озере веслами… Но мы пошли в дом… Там нас ожидала иного рода «поэзия». Самоубийцей называется тот, кто, под влиянием психической боли или угнетаемый невыносимым страданием, пускает себе пулю в лоб; для тех же, кто дает волю своим жалким, опошляющим душу страстям в святые дни весны и молодости, нет названия на человеческом языке. За пулей следует могильный покой, за погубленной молодостью следуют годы скорби и мучительных воспоминаний. Кто профанировал свою весну, тот понимает теперешнее состояние моей души. Я еще не стар, не сед, но я уже не живу. Психиатры рассказывают, что один солдат, раненный при Ватерлоо, сошел с ума и впоследствии уверял всех и сам в то верил, что он убит при Ватерлоо, а что то, что теперь считают за него, есть только его тень, отражение прошлого. Нечто похожее на эту полусмерть переживаю теперь и я… — Я очень рад, что ты ничего не ел у лесничего и не испортил себе аппетита, — сказал мне граф, когда мы входили в дом. — Мы отлично поужинаем… по-старому… Подавать! — приказал он Илье, стаскивавшему с него сюртук и надевавшему халат. Мы отправились в столовую. Тут, на сервированном столе, уже «кипела жизнь». Бутылки всех цветов и всевозможного роста стояли рядами, как на полках в театральных буфетах, и, отражая в себе ламповый свет, ждали нашего внимания. Соленая, маринованная и всякая другая закуска стояла на другом столе с графином водки и английской горькой. Около же винных бутылок стояли два блюда: одно с поросенком, другое с холодной осетриной… — Ну-с… — начал граф, наливая три рюмки и пожимаясь, как от холода. — Будем здоровы! Бери свою рюмку, Каэтан Казимирович! Я выпил, поляк же отрицательно покачал головой. Он придвинул к себе осетрину, понюхал ее и начал есть. Прошу извинения у читателя. Сейчас мне придется описывать совсем не «романтическое». — Ну-с… они выпили по другой, — сказал граф, наливая вторые рюмки. — Дерзай, Лекок! Я взял свою рюмку, поглядел на нее и поставил… — Чёрт возьми, давно уже я не пил, — сказал я. — Не вспомнить ли старину? — И, не долго думая, я налил пять рюмок и одну за другой опрокинул себе в рот. Иначе я не умел пить. Маленькие школьники учатся у больших курить папиросы: граф, глядя на меня, налил себе пять рюмок и, согнувшись дугой, сморщившись и качая головой, выпил их. Мои пять рюмок показались ему ухарством, но я пил вовсе не для того, чтобы прихвастнуть талантом пить… Мне хотелось опьянения, хорошего, сильного опьянения, какого я давно уже не испытывал, живя у себя в деревеньке. Выпивши, я сел за стол и принялся за поросенка… Опьянение не заставило долго ждать себя. Скоро я почувствовал легкое головокружение. В груди заиграл приятный холодок — начало счастливого, экспансивного состояния. Мне вдруг, без особенно заметного перехода, стало ужасно весело. Чувство пустоты, скуки уступило свое место ощущению полного веселья, радости. Я начал улыбаться. Захотелось мне вдруг болтовни, смеха, людей. Жуя поросенка, я стал чувствовать полноту жизни, чуть ли не самое довольство жизнью, чуть ли не счастье. — Отчего же вы ничего не выпьете? — обратился я к поляку. — Он ничего не пьет, — сказал граф. — Ты не принуждай его. — Но все-таки хоть что-нибудь да пьете же! Поляк положил себе в рот большой кусок осетрины и отрицательно покачал головой. Молчание его меня подзадорило. — Послушайте, Каэтан… как вас по батюшке… отчего вы всё молчите? — спросил я его. — Я не имел еще удовольствия слышать вашего голоса. Две брови его, похожие на летящую ласточку, поднялись, и он поглядел на меня. — А вам желательно, чтоб я говорил? — спросил он с сильным польским акцентом. — Весьма желательно. — А на что вам? — Помилуйте! На пароходах за обедом чужие и незнакомые люди поднимают между собой разговор, а мы с вами знакомы уже несколько часов, рассматриваем друг друга и не проговорили между собой еще ни одного слова! На что это похоже? Поляк молчал. — Отчего же вы молчите? — спросил я, обождав немного. — Ответьте что-нибудь! — Я не желаю отвечать вам. В вашем голосе я слышу смех, а я не люблю насмешек. — Он нисколько не смеется! — встревожился граф. — Откуда это ты взял, Каэтан? Он дружески… — Со мной графы и князья не говорили таким тоном! — сказал Каэтан, хмурясь. — Я не люблю такого тона. — Стало быть, не удостоите беседой? — продолжал я приставать, выпивая еще рюмку и смеясь. — Знаешь, зачем собственно я приехал сюда? — перебил граф, желая переменить разговор. — Я тебе не говорил еще об этом? Прихожу я в Петербурге к одному знакомому доктору, у которого я лечусь постоянно, и жалуюсь на свою болезнь. Он выслушал, выстукал, ощупал, знаешь ли, всего и говорит: «Вы не трус?» Я хоть не трус, но, знаешь, побледнел: «Не трус», — говорю. — Короче, брат… Надоело. — Предсказал скорую смерть, если я не оставлю Петербурга и не уеду! У меня вся печень испорчена от долгого питья… Я и решил ехать сюда. Да и глупо там сидеть… Здесь именье такое роскошное, богатое… Климат один чего стоит!.. Делом, по крайней мере, можно заняться! Труд самое лучшее, самое радикальное лекарство. Не правда ли, Каэтан? Займусь хозяйством и брошу пить… Доктор не велел мне ни одной рюмки… ни одной! — Ну, и не пей. — Я и не пью… Сегодня в последний раз, ради свидания с тобой (граф потянулся ко мне и чмокнул меня в щеку)… с моим милым, хорошим другом, завтра же — ни капли! Бахус прощается сегодня со мной навеки… На прощанье, Сережа, коньячку… выпьем? Мы выпили коньяку. — Вылечусь, Сережа-голубчик, и займусь хозяйством… Рациональным хозяйством! Урбенин — добрый, милый… понимает всё, но разве он хозяин? Он рутинер! Надо журналы выписывать, читать, следить за всем, участвовать на сельскохозяйственных выставках, а он необразован для этого! В Оленьку… неужели он влюблен? Ха-ха! Я сам займусь, а его помощником своим сделаю… В выборах буду участвовать, общество веселить.., а? Ведь и тут можно счастливо прожить! Ты как думаешь? Ну, вот ты уж и смеешься! Уж и смеешься! Право, с тобой нельзя ни о чем говорить! Мне было весело, смешно. Смешил меня граф, смешили свечи, бутылки, лепные зайцы и утки, украшавшие стены столовой… Не смешила меня одна только трезвая физиономия Каэтана Казимировича. Присутствие этого человека раздражало меня. — Нельзя ли этого шляхтича к чёрту? — шепнул я графу. — Что ты! Ради бога… — залепетал граф, хватая меня за обе руки, словно я собирался колотить его поляка. — Пусть себе сидит! — Но я не могу его видеть! Послушайте! — обратился я к Пшехоцкому. — Вы отказались со мной говорить, но, простите меня, я не потерял еще надежды покороче познакомиться с вашей разговорной способностью… — Оставь! — дернул меня граф за рукав. — Умоляю! — Я буду приставать к вам до тех пор, пока вы не станете отвечать мне, — продолжал я. — Что вы хмуритесь? Нешто и теперь слышите в моем голосе смех? — Если б я выпил столько, сколько вы, то я стал бы с вами разговаривать, а то мы с вами не пара… — проворчал поляк. — Мы с вами не пара, что и требовалось доказать… Я хотел сказать именно то же самое… Гусь свинье не товарищ, пьяный трезвому не родня… Пьяный мешает трезвому, трезвый пьяному. В соседней гостиной есть отличные мягкие диваны! На них хорошо полежать после осетринки с хреном. Туда не слышен мой голос. Не желаете ли вы туда отправиться? Граф всплеснул руками и, мигая глазами, заходил по столовой. Он трус и боится «крупных» разговоров… Меня же, когда я бывал пьян, тешили недоразумения и неудовольствия… — Я не понимаю! Я не по-нимаю! — простонал граф, не зная, что сказать и что предпринять… Он знал, что меня трудно было остановить. — Я с вами еще мало знаком, — продолжал я, — может быть, вы прекраснейший человек, а потому мне и не хотелось бы с вами спозаранку ссориться… Я не ссорюсь с вами… Я приглашаю вас только понять, что трезвым не место среди пьяных… Присутствие трезвого действует раздражающе на пьяный организм!.. Поймите вы это! — Говорите, что вам угодно! — вздохнул Пшехоцкий. — Меня ничем не проймете, молодой человек… — Будто бы ничем? А если я назову вас упрямой свиньей, вы тоже не обидитесь? Поляк покраснел — и только. Граф, бледный, подошел ко мне, сделал умоляющее лицо и развел руками. — Ну, прошу тебя! Умерь свой язык! Я вошел уже в свою пьяную роль и хотел продолжать, но на счастье графа и поляка послышались шаги и в столовую вошел Урбенин. — Приятного аппетита! — начал он. — Я пришел узнать, ваше сиятельство, не будет ли каких приказаний? — Приказаний пока нет, а просьба есть… — отвечал граф. — Очень рад, что вы пришли, Петр Егорыч… Садитесь с нами ужинать и давайте толковать о хозяйстве… Урбенин сел. Граф выпил коньяку и начал излагать ему план своих будущих действий в области рационального хозяйства. Говорил он долго, утомительно, то и дело повторяясь и меняя тему. Урбенин слушал его, как серьезные люди слушают болтовню детей и женщин, лениво и внимательно… Он ел ершовую уху и печально глядел в свою тарелку. — Я привез с собой прекрасные чертежи! — сказал, между прочим, граф. — Замечательные чертежи! Хотите, я вам покажу? Карнеев вскочил и побежал к себе в кабинет за чертежами. Урбенин, пользуясь его отсутствием, быстро налил себе пол чайного стакана водки, выпил и не закусил. — Противная эта водка! — сказал он, глядя с ненавистью на графин. — Отчего вы при графе не пьете, Петр Егорыч? — спросил я его. — Неужто вы боитесь? — Лучше, Сергей Петрович, лицемерить и пить тайком, чем пить при графе. Вы знаете, у графа странный характер… Украдь я у него заведомо двадцать тысяч, он ничего, по своей беспечности, не скажет, а забудь я дать ему отчет в потраченном гривеннике или выпей при нем водки, он начнет плакаться, что у него разбойник-управляющий. Вы его хорошо знаете. Урбенин налил себе еще полстакана и выпил. — Вы, кажется, прежде не пили, Петр Егорыч, — сказал я. — Да, а теперь пью.. Ужасно пью! — шепнул он. — Ужасно, день и ночь, не давая себе ни минуты отдыха! И граф никогда не пил в такой мере, в какой я теперь пью… Ужасно тяжело, Сергей Петрович! Одному только богу ведомо, как тяжело у меня на сердце! Уж именно, что с горя пью… Я вас всегда любил и уважал, Сергей Петрович, и откровенно вам скажу… повеситься рад бы! — Отчего же это? — Глупость моя… Не одни только дети бывают глупы… Бывают дураки и в пятьдесят лет. Причин не спрашивайте. Вошел граф и прекратил его излияния. — Отличнейший ликер! — сказал он, ставя на стол вместо «замечательных» чертежей, пузатую бутылку с сургучной печатью бенедиктинцев. — Проездом через Москву у Депре взял.[131]] Не желаешь ли, Сережа? — Ты ведь, кажется, за чертежами ходил! — сказал я. — Я? За какими чертежами? Ах, да! Но, брат, сам чёрт ничего не разберет в моих чемоданах… Рылся-рылся и бросил… Ликер очень мил. Не хочешь ли? Урбенин посидел еще немного, простился и вышел. По уходе его мы принялись за красное. Это вино окончательно меня разобрало. Получилось опьянение, какого я именно и хотел, когда ехал к графу. Я стал чрезмерно бодр душою, подвижен, необычайно весел. Мне захотелось подвига неестественного, смешного, пускающего пыль в глаза… В эти минуты, мне казалось, я мог бы переплыть всё озеро, открыть самое запутанное дело, победить любую женщину… Мир с его жизнями приводил меня в восторг, я любил его, но в то же время хотелось придираться, жечь ядовитыми остротами, издеваться… Смешного чернобрового поляка и графа нужно было осмеять, заездить едкой остротой, обратить в порошок. — Что же вы молчите? — начал я. — Говорите, я слушаю вас! Ха-ха! Я ужасно люблю, когда люди с серьезными, солидными физиономиями говорят детскую чушь!.. Это такая насмешка, такая насмешка над человечьими мозгами!.. Лица не соответствуют мозгам! Чтобы не лгать, надо иметь идиотскую физиономию, а у вас лица греческих мудрецов! Я не кончил… Язык у меня запутался от мысли, что я говорю с людьми ничтожными, не стоящими и полуслова! Мне нужна была зала, полная людей, блестящих женщин, тысячи огней… Я поднялся, взял свой стакан и пошел ходить по комнатам. Когда мы кутим, мы не стесняем себя пространством, не ограничиваемся одной только столовой, а берем весь дом и часто даже всю усадьбу… В «мозаиковой» гостиной я выбрал себе турецкую софу, лег на нее и отдал себя во власть фантазий и воздушных замков. Мечты пьяные, но одна другой грандиознее и безграничнее, охватили мой молодой мозг… Получился новый мир, полный одуряющей прелести и не поддающихся описанию красот. Недоставало только, чтоб я заговорил рифмами и стал видеть галлюцинации. Граф подошел ко мне и сел на край софы… Ему хотелось что-то сказать мне. Это желание сообщить мне что-то особенное я начал читать в его глазах уже вскоре после вышеописанных пяти рюмок. Я знал, о чем он хотел говорить… — Как я много выпил сегодня! — сказал он мне. — Это для меня вреднее всякого яда… Но сегодня в последний раз… Честное слово, в последний раз… У меня есть воля… — Ладно, ладно… — В последний… Сережа, друг, в последний раз не послать ли в город телеграмму? — Пожалуй, пошли… — Кутнем уж в последний раз как следует… Ну, встань же, напиши… — Сам граф не умеет писать телеграмм. У него выходят слишком длинны и неполны. Я поднялся и написал: «С… Ресторан „Лондон“. Содержателю хора Карпову. Оставить всё и ехать немедленно с двухчасовым поездом. Граф». — Теперь без четверти одиннадцать, — сказал граф. Человек будет скакать до станции три четверти часа, maximum час… Телеграмму получит Карпов в первом часу… На поезд, стало быть, поспеет… Если на этот не поспеет, то приедет с товарным… Да? Телеграмма была послана с одноглазым Кузьмой… Илье было приказано, чтобы через час были посланы экипажи на станцию… Я, чтоб убить чем-нибудь время, начал медленно зажигать лампы и свечи во всех комнатах, затем отпер рояль и попробовал клавиши… Затем, помню, я лежал на той же софе, ни о чем не думал и молча отстранял рукой пристававшего с разговорами графа… Был я в каком-то забытьи, полудремоте, чувствуя только яркий свет ламп и веселое, покойное настроение… Образ девушки в красном, склонившей головку на плечо, с глазами, полными ужаса перед эффектною смертью, постоял передо мной и тихо погрозил мне маленьким пальцем… Образ другой девушки, в черном платье и с бледным, гордым лицом, прошел мимо и поглядел на меня не то с мольбой, не то с укоризной. Далее я слышал шум, смех, беготню… Черные, глубокие глаза заслонили мне свет. Я видел их блеск, их смех… На сочных губах играла радостная улыбка… То улыбалась моя цыганка Тина… — Это ты? — спросил ее голос. — Ты спишь? Вставай, милый… Я давно уже тебя не видела… Я молча пожал ей руку и привлек ее к себе… — Пойдем же туда… Все наши приехали… — Останься… Мне тут хорошо, Тина… — Но… здесь много света… Ты сумасшедший… Могут войти… — Кто войдет, тому я сверну шею… Мне хорошо, Тина… Два года уже прошло, как я тебя не видел… В зале заиграли на рояле. «Ах, Москва, Москва, Москва… белокаменная… — заорало несколько голосов… — Видишь, они все поют там… Никто не войдет… — Да, да… Свидание с Тиной вывело меня из забытья… Через десять минут она ввела меня в залу, где полукругом стоял хор… Граф сидел верхом на стуле и отбивал руками такт… Пшехоцкий стоял позади его стула и удивленными глазами глядел на певчих птиц… Я вырвал из рук Карпова его балалайку, махнул рукой и затянул… Вниз по ма-а-атушке… па-а-а Во-о-о… Па-а В-о-о-о-лге…[132] — подхватил хор… Ай, жги, говори… говори…[133] Я махнул рукой, и мгновенно, с быстротой молнии наступил новый переход… Ночи безумные, ночи веселые…[134] Ничто так раздражающе и щекочуще не действует на мои нервы, как подобные резкие переходы. Я задрожал от восторга и, охватив Тину одной рукой, а другой махая в воздухе балалайкой, допел до конца «Ночи безумные»… Балалайка с треском ударилась о пол и разлетелась на мелкие щепки… — Вина! Далее мои воспоминания приближаются к хаосу… Всё перемешалось, спуталось, всё мутно, неясно… Помню я серое небо раннего утра… Мы едем на лодках… Озеро слегка волнуется и словно ворчит, глядя на наши дебоширства… Я стою посредине лодки и качаюсь… Тина уверяет меня, что я могу упасть в воду, и просит сесть… Я же громко изъявляю сожаление, что на озере нет таких высоких волн, как Каменная Могила, и пугаю своим криком мартынов, мелькающих белыми пятнами на синей поверхности озера. Далее следует длинный жаркий день с его нескончаемыми завтраками, десятилетними наливками, пуншами, дебошем… Из этого дня я помню только несколько моментов… Я помню себя качающимся с Тиной в саду на качелях. Я стою на одном конце доски, она на другом. Я работаю всем своим туловищем с ожесточением, насколько хватает у меня сил, и сам не знаю, что именно мне нужно: чтобы Тина сорвалась с качелей и убилась или же чтоб она взлетела под самые облака? Тина стоит бледная как смерть, но, гордая и самолюбивая, она стиснула зубы, чтобы ни одним звуком не выдать своего страха. Мы взлетаем всё выше и выше и… не помню, чем кончилось. Далее следует прогулка с Тиной в далекую аллею с зеленым сводом, скрывающим от солнца. Поэтический полумрак, черные косы, сочные губы, шёпот… Затем рядом со мной идет маленькое контральто, блондинка с острым носиком, детскими глазками и очень тонкой талией. Я гуляю с ней до тех пор, пока Тина, проследив нас, не делает мне сцены… Цыганка бледна, взбешена… Она называет меня «проклятым» и, обиженная, собирается уехать в город. Граф, бледный, с дрожащими руками, бегает около нас и, по обыкновению, не находит слов, чтоб уговорить Тину остаться… Та в конце концов дает мне пощечину… Странно: я прихожу в бешенство от малейшего, едва оскорбительного слова, сказанного мужчиной, и совершенно индифферентен к пощечинам, которые дают мне женщины… Опять длинное «после обеда», опять змея на лестнице, опять спящий Франц с мухами около рта, опять калитка… Девушка в красном стоит на Каменной Могиле, но, завидев нас, исчезает, как ящерица. К вечеру мы опять друзья с Тиной. За вечером следует та же буйная ночь, с музыкой, залихватским пением, с щекочущими нервы переходами… и ни одной минуты сна! — Это самоистребление! — шепнул мне Урбенин, зашедший на минутку послушать наше пение… Он, конечно, прав. Далее, помню, я и граф стоим в саду друг против друга и спорим. Около нас прохаживается чернобровый Каэтан, всё время не принимавший никакого участия в нашем веселье, но, тем не менее, не спавший и ходивший всё время за нами, как тень… Небо уже бело, и на верхушке самого высокого дерева уже начинают золотиться лучи восходящего солнца. Кругом возня воробьев, пенье скворцов, шелест, хлопанье отяжелевших за ночь крыльев… Слышно мычанье стада и крики пастухов. Около нас столик с мраморной доской. На столике свеча Шандора с бледным огнем. Окурки, бумажки от конфект, разбитые рюмки, апельсинные корки… — Ты должен это взять! — говорю я, подавая графу пачку кредитных билетов. — Я заставлю тебя взять! — Ведь я же их приглашал, а не ты! — убеждает граф, стараясь уловить мою пуговицу. — Я здесь хозяин… я угощал тебя, — с какой же стати тебе платить? Пойми, что ты даже оскорбляешь меня этим! — Я тоже нанимал их, потому плачу половину. Не берешь? Не понимаю этого одолжения! Неужели ты думаешь, что если ты богат, как дьявол, то имеешь право делать мне такие одолжения? Чёрт возьми, я нанимал Карпова, я ему и заплачу! Не нужно твоей половины! Я писал телеграмму! — В ресторане, Сережа, ты можешь платить, сколько тебе угодно, в моем же доме не ресторан… И потом я решительно не понимаю, из-за чего ты хлопочешь, не понимаю твоей прыти. У тебя мало денег, у меня же добра этого куры не клюют… Сама справедливость на моей стороне! — Так ты не возьмешь? Нет? Не нужно… Я подношу к бледному огню Шандора кредитные бумажки, зажигаю их и бросаю на землю. Из груди Каэтана вдруг вырывается стон. Он делает большие глаза, бледнеет и падает своим тяжелым телом на землю, стараясь затушить ладонями огонь на деньгах… Это ему удается. — Я не понимаю! — говорит он, кладя в карман обожженные кредитки. — Жечь деньги?! Словно это прошлогоднее полово или любовные письма… Лучше я бедному отдам кому-нибудь, чем отдавать их огню. Я иду в дом… Там во всех комнатах, на диванах и коврах, спят вразвалку изнеможенные, заезженные певцы… Моя Тина спит на софе в «мозаиковой гостиной»… Она раскинулась и тяжело дышит… Зубы ее стиснуты, лицо бледно… Вероятно, ей снятся качели… По всем комнатам ходит Сычиха и злобно поглядывает своими острыми глазками на людей, так внезапно нарушивших мертвую тишину забытой усадьбы… Она недаром ходит и утруждает свои старые кости… Вот всё то, что осталось в моей памяти после двух диких ночей, остальное же не удержалось в пьяных мозгах или же неудобно для описания… Но довольно и этого!.. Никогда в другое время Зорька не несла меня с таким усердием, как в утро после сожжения кредиток… Ей тоже хотелось домой… Озеро тихо катило свои пенящиеся волны и, отражая в себе поднимающееся солнце, готовилось к дневному сну… Леса и прибрежные ивы стояли недвижимы, словно на утренней молитве… Трудно описать тогдашнее состояние моей души… Много не распространяясь, скажу только, что я несказанно обрадовался и в то же время чуть не сгорел со стыда, когда при повороте от графской усадьбы увидел на берегу старое, изможденное честным трудом и болезнями, святое лицо старика Михея… Михей своею наружностью напоминает библейских рыболовов… Он сед, как лунь, бородат и созерцательно глядит на небо… Когда он стоит неподвижно на берегу и следит взором за бегущими облаками, то можно подумать, что он видит в небе ангелов… Я люблю такие лица… Увидев его, я осадил свою Зорьку и подал ему руку, как бы желая очиститься прикосновением к его честной мозолистой руке… Он поднял на меня свои маленькие прозорливые глаза и усмехнулся. — Здравствуй, хороший барин! — сказал он, неумело подавая мне руку. — Что опять заскакал? Аль тот лодырь приехал? — Приехал. — То-то… по лику вижу… А я стою вот тут и гляжу… Мир и есть мир. Суета сует… Взглянь-ка! Немцу помирать надо, а он о суете заботится… Видишь? Старик указал палкой на графскую купальню. От купальни быстро плыла лодка. В ней сидел человек в жокейском картузике и синей куртке. То был садовник Франц. — Каждое утро на остров деньги возит и прячет… Нет у глупого понятия в голове, что для него что песок, что деньги — одна цена… Умрет — не возьмет с собой. Дай, барин, цигарку! Я подал ему портсигар. Он взял три папироски и сунул их за пазуху. — Это я племяннику… Пущай покурит. Нетерпеливая Зорька задвигалась и полетела. Я поклонился старику, благодарный, что он дал моим глазам отдохнуть на его лице. Он долго глядел мне вслед. Дома встретил меня Поликарп… Презрительным, сокрушающим взглядом он измерил мое барское тело, словно желая узнать, купался ли я на этот раз во всем костюме или нет? — Поздравляем! — проворчал он. — Получил удовольствие! — Молчи, дурак! — сказал я. Меня злила его глупая физиономия. Быстро раздевшись, я укрылся одеялом и закрыл глаза. Голова закружилась, и мир окутался туманом. В тумане промелькнули знакомые образы… Граф, змея, Франц, собаки огненного цвета, девушка в красном, сумасшедший Николай Ефимыч. — Муж убил свою жену! Ах, как вы глупы! Девушка в красном погрозила мне пальцем, Тина заслонила мне свет своими черными глазами и … я уснул… — Как сладко и безмятежно он спит! Глядя на это бледное, утомленное лицо, на эту невинно-детскую улыбку и прислушиваясь к этому ровному дыханию, можно подумать, что здесь на кровати лежит не судебный следователь, а сама спокойная совесть! Можно подумать, что граф Карнеев еще не приехал, что не было ни пьянства, ни цыганок, ни скандалов на озере… Вставайте, ехиднейший человек! Вы не стоите, чтобы пользоваться таким благом, как покойный сон! Поднимайтесь! Я открыл глаза и сладко потянулся… От окна до моей кровати шел широкий солнечный луч, в котором, гоняясь одна за другой и волнуясь, летали белые пылинки, отчего и сам луч казался подернутым матовой белизной… Луч то исчезал с моих глаз, то опять появлялся, смотря по тому, входил ли в область луча или выходил из нее шагавший по моей спальне наш милейший уездный врач Павел Иванович Вознесенский. В длинном расстегнутом сюртуке, болтающемся на нем, как на вешалке, заложив руки в карманы своих необыкновенно длинных брюк, доктор ходил из угла в угол, от стула к стулу, от портрета к портрету и щурил свои близорукие глаза на всё, что только попадалось на пути его взгляду. Покорный своей привычке совать свой нос и запускать «глазенапа» всюду, где только возможно, — он, то нагибаясь, то сильно вытягиваясь, заглядывал в рукомойник, в складки опущенной сторы, в дверные щели, в лампу… словно искал чего-то или желал удостовериться, всё ли цело… Вглядываясь пристально сквозь очки в какую-нибудь щель или пятно на обоях, он хмурился, принимал озабоченное выражение, нюхал своим длинным носом, старательно скоблил ногтем… Всё это проделывал он машинально, бессознательно и по привычке, но, тем не менее, быстро перебегая глазами с одного предмета на другой, он имел вид знатока, производящего экспертизу. — Поднимайтесь, вам говорят! — будил он меня своим певучим тенором, заглядывая в мыльницу и снимая с мыла ногтем волосок. — А… а… а… здравствуйте, господин щур! — зевнул я, увидев его, нагнувшегося над рукомойником. — Сколько зим, сколько лет! Весь уезд дразнит доктора «щуром» за его вечно прищуренные глаза; дразнил и я. Увидев, что я проснулся, Вознесенский подошел ко мне, сел на край кровати и тотчас же потянул к своим прищуренным глазам коробку со спичками… — Так спят одни только лентяи да люди со спокойною совестью, — сказал он, — а так как вы ни то, ни другое, то вам подобало бы, друже, вставать немножко пораньше… — А который теперь час? — Одиннадцатый на исходе. — Чёрт вас возьми, щуренька! Никто не просил вас будить меня так рано! Вы знаете, я уснул сегодня только в шестом часу, и если бы не вы, то проспал бы до вечера. — Так! — услышал я из соседней комнаты бас Поликарпа. — Мало он еще спал! Вторые сутки спит, и всё ему мало! Да вы знаете, какой сегодня день? — спросил Поликарп, входя в спальную и глядя на меня так, как умные глядят на дураков. — Среда, — сказал я. — Как же, беспременно. Нарочно для вас так и сделали, чтобы в неделе две среды было… — Сегодня четверг! — сказал доктор. — Так это, голубчик, вы изволили всю среду проспать? Мило! очень мило! Сколько же это вы выпили, позвольте вас спросить? — Я двое суток не спал, а выпил… не помню, сколько я выпил. Уславши Поликарпа, я начал одеваться и описывать доктору пережитые мною так недавно «ночи безумные, речи бессвязные», которые так хороши и чувствительны в романсах и так безобразны на деле. В своих описаниях я старался не выходить из пределов «легкого жанра», держаться фактов и не вдаваться в мораль, хотя всё это и противно натуре человека, питающего страсть к итогам и выводам… Я говорил и делал вид, что говорю о пустяках, нимало меня не тревожащих. Щадя целомудрие Павла Ивановича и зная его отвращение к графу, я многое скрыл, многого коснулся только слегка, но, тем не менее, несмотря даже на игривость моего тона, на карикатурный пошиб моей речи, доктор во всё время моего рассказа глядел мне в лицо серьезно, то и дело покачивая головой и нетерпеливо подергивая плечами. Он ни разу не улыбнулся… Очевидно, мой «легкий жанр» произвел на него далеко не легкое впечатление. — Что же вы не смеетесь, щуренька? — спросил я, покончив со своими описаниями… — Если бы всё это не вы мне рассказывали и если бы не один случай, то я не поверил бы всему этому. Уж больно безобразно, друже! — О каком случае вы говорите? — Вчера под вечер был у меня мужик, которого вы так неделикатно попотчевали веслом… Иван Осипов… — Иван Осипов… — пожал я плечами. — Первый раз слышу! — Высокий такой, рыжий… с веснушками на лице… Припомните-ка! Вы ударили его веслом по голове. — Ничего не понимаю! Никакого Осипова не знаю, веслом никого не потчевал… Всё это вам снилось, дядя! — Дай бог, чтобы снилось… Он явился ко мне с отношением от карнеевского волостного правления и попросил медицинского свидетельства… В отношении написано, да и сам он не врет, что рана нанесена ему вами… И теперь не помните? Рана ушибленная, повыше лба, на границе с волосистой частью… До кости хватили, батенька! — Не помню! — прошептал я. — Кто он? Чем занимается? — Обыкновенный карнеевский мужик, у вас же там на озере был гребцом, когда вы кутили… — Гм… может быть! Не помню… Вероятно, был пьян и как-нибудь нечаянно… — Нет-с, не нечаянно… Он говорит, что вы рассердились на него за что-то, долго бранились и потом, рассвирепев, подскочили к нему и при свидетелях хватили… Мало того, вы крикнули: «Я убью тебя, шельму этакую!..» Я покраснел и прошелся из угла в угол. — Хоть убей, не помню! — проговорил я, изо всех сил напрягая память. — Не помню! Вы говорите «рассвирепев»… В пьяном виде я бываю непростительно мерзок! — Чего же лучше! — Мужик, очевидно, хочет затеять скандал, но не это важно… Важен сам факт, побои… Неужели я способен драться? И за что я ударил бедного мужика? — Да-с… Свидетельства, конечно, я не мог ему не дать, но не преминул посоветовать ему обратиться к вам… Вы сойдитесь с ним как-нибудь… Побои легкие, но, рассуждая неофициально, рана головы, проникающая до черепа, штука серьезная… Нередки случаи, когда, по-видимому, самая пустая рана головы, отнесенная к легким побоям, оканчивалась омертвением костей черепа и, стало быть, путешествием ad patres[135]. И «щур», увлекшись, поднялся, зашагал около стен и, размахивая руками, начал выкладывать передо мною свои познания по хирургической патологии… Омертвение костей черепа, воспаление мозга, смерть и другие ужасы так и сыпались из его рта с бесконечными объяснениями макроскопических и микроскопических процессов, сопровождающих эту туманную и неинтересную для меня terram incognitam[136]. — Будет вам, барабошка! — остановил я его медицинскую болтовню. — Неужели вы не знаете, как всё это скучно? — Это ничего, что скучно… Вы слушайте и казнитесь… Авось в другой раз будете поосторожней и не станете делать ненужных глупостей… Из-за этого паршивца Осипова, если вы с ним же сойдетесь, вы можете место потерять! Жрецу Фемиды судиться за побои… ведь это скандал! Павел Иванович — единственный человек, сентенции которого я выслушиваю с легкой душою, не морщась, которому дозволяется вопросительно заглядывать в мои глаза и запускать исследующую руку в дебри моей души… Мы с ним приятели в самом лучшем смысле этого слова и уважаем друг друга, хотя у нас с ним и существуют счеты неприятного, щекотливого свойства… Между мною и им, как черная кошка, прошла женщина. Этот вечный casus belli[137] породил между нами счеты, но не поссорил нас, и мы продолжаем быть в мире. «Щур» — очень хороший малый… Я люблю его простое, далеко не пластическое лицо с большим носом, прищуренными глазами и жидкой рыжей бородкой. Я люблю его высокую, тонкую, узкоплечую фигуру, на которой сюртуки и пальто болтаются, как на вешалке. Его уродливо сшитые брюки собираются безобразными складками у колен и безбожно топчутся сапогами; его белый галстук вечно сидит не на месте… Но вы не подумайте, что он неряха… Взглянувши раз на его доброе, сосредоточенное лицо, вы поймете, что ему некогда хлопотать о своей наружности, да и не умеет он… Он молод, честен, не суетен, любит свою медицину, вечно в разъездах, — этого достаточно, чтоб объяснить в его пользу все промахи его незатейливого туалета. Он, как артист, не знает цены деньгам и невозмутимо жертвует своим комфортом и благами жизни кое-каким своим страстишкам, и оттого-то он дает впечатление человека неимущего, еле сводящего концы с концами… Он не курит, не пьет, не платит женщинам, но, тем не менее, две тысячи, которые вырабатывает он службой и практикой, уходят от него так же быстро, как уходят у меня мои деньги, когда я переживаю период кутежа. Две страсти обирают его: страсть давать взаймы и страсть выписывать по газетным объявлениям… Взаймы дает он всякому просящему, не говоря ни слова и не заикаясь об обратной получке… Никаким гвоздем не выковыришь из него бесшабашной веры в людскую добросовестность, и эта вера еще рельефнее сказывается в его постоянных выписываниях вещей, воспеваемых в газетных объявлениях… Он выписывает всё, нужное и ненужное. Выписывает книги, зрительные трубки, юмористические журналы, столовые приборы, «состоящие из 100 вещей», хронометры… И немудрено, если больные, приходящие к Павлу Ивановичу, принимают его комнату за арсенал или музей… Его надували и надувают, но вера по-прежнему сильна и бесшабашна… Малый он славный, и мы еще не раз встретимся с ним на страницах этого романа… — Как, однако, я у вас засиделся, — спохватился он, взглянув на свои дешевые, с одной крышкой, часы, выписанные им из Москвы «с ручательством на 5 лет», но, тем не менее, два раза уже бывшие в починке. — Мне пора, друже! Прощайте и смотрите вы мне! Эти графские кутежи добром не кончатся! Не говорю уж о вашем здоровье… Ах, да! Будете завтра в Теневе? — А что там завтра? — Престольный праздник! Все там будут, и вы приезжайте! Обязательно приезжайте! Я дал слово, что вы непременно приедете. Не сделайте же меня лгуном… Кому дал он слово — не нужно было спрашивать. Мы понимали друг друга. Простившись со мной, доктор надел свое поношенное пальто и уехал… Я остался один… Чтобы заглушить неприятные мысли, начинавшие копошиться в моей голове, я подошел к своему письменному столу и, стараясь не думать, не отдавать себе отчета, занялся полученными бумагами… Конверт, первый попавшийся мне на глаза, содержал в себе следующее письмо: «Душечка мой Сережа! Извени, что я тебя беспокою, но я так удивлена, что не знаю, к кому и обратиться… Это ни на что не похоже. Конечно, теперь не варотиш, и мне не жалко, но посуди сам, что если ворам делать поблашку, то порядочной женщине нигде нельзя быть покойной. После того, как ты уехал, я проснулась на дивани и не нашла на себе многих вещей. Украли браслет, золотую запонку, десять жемчужин из ожерелья и вынули из партмонета рублей сто дених. Я хотела жаловаться графу, но он спал, и так и уехала. Это нехорошо. Графский дом, а воруют как в трактире. Ты скажи графу. Целую тебя и кланяюсь. Твоя любящая Тина». Что дом его сиятельства изобиловал ворами — для меня не было новостью, и я приобщил письмо Тины к сведениям, уже имевшимся у меня на этот счет в памяти. Рано или поздно — я должен был пустить в дело эти сведения… Я знал воров. Письмо черноглазой Тины, ее жирный, сочный почерк напомнили мозаиковую гостиную и вызвали во мне желание, похожее на желание опохмелиться, но я превозмог себя и силою своей воли заставил себя работать. Сначала мне было невыразимо скучно разбирать размашистые почерки приставов, но потом мое внимание мало-помалу фиксировалось на краже со взломом, и я стал работать с наслаждением. Целый день сидел я за своим письменным столом, а Поликарп то и дело проходил мимо меня и недоверчиво поглядывал на мою работу. В мое степенство ему не верилось, и он каждую минуту ждал, что я поднимусь из-за стола и прикажу седлать Зорьку; но к вечеру, видя мое упорство, он поверил и выражение угрюмости на лице сменил выражением удовольствия… Он стал ходить на цыпочках, говорил шёпотом… Когда мимо моих окон прошли парни с гармоникой, он вышел на улицу и прокричал: — Чего вы, черти, здесь расходились? Ходите другой улицей! Нешто не знаете, махаметы, что барин занимается! Вечером, подав в столовой самовар, он тихо отворил мою дверь и ласково позвал меня пить чай. — Пожалуйте чай кушать! — сказал он, нежно вздохнув и почтительно улыбаясь. А когда я пил чай, ой тихо подошел сзади ко мне и поцеловал меня в плечо… — Вот этак лучше, Сергей Петрович, — забормотал он. — Наплюйте на того белобрысого чёрта, чтоб ему… Статочное ли дело при вашем высоком понятии и при вашей образованности малодушием заниматься? Ваше дело благородное… Надо, чтобы все вас ублажали, боялись, а ежели будете с тем чёртом людям головы проламывать да в озере в одеже купаться, то всякий скажет: «Никакого ума! Пустяковый человек!» И пойдет тогда по миру слава! Удаль купцу к лицу, а не благородному… Благородному наука требуется, служба… — Ну, будет, будет… — Не путайтесь с графом, Сергей Петрович! А коли желаете дружиться, то чем не человек доктор Павел Иваныч? Только что оборванный ходит, да зато ведь ума много! Искренность Поликарпа меня растеплила… Мне захотелось сказать ему ласковое слово… — Ты какой роман теперь читаешь? — спросил я его. — Графа Монте-Кристова. Вот граф! Так это настоящий граф! Непохож на вашего замазуру! После чая я опять сел за работу и работал до тех пор, пока мои веки не стали опускаться и закрывать утомленные глаза… Ложась спать, я приказал Поликарпу разбудить меня в пять часов. На другой день, в шестом часу утра, я, весело насвистывая и сбивая тростью головки цветов, шел пешком в Тенево, где в этот день был престольный праздник и куда приглашал меня мой друг «щур», Павел Иванович. Утро было прелестное. Само счастье, казалось, висело над землей и, отражаясь в бриллиантовых росинках, манило к себе душу прохожего… Лес, окутанный утренним светом, был тих и неподвижен, словно прислушивался к моим шагам и чириканью птичьей братии, встречавшей меня выражениями недоверия и испуга… Воздух был пропитан испарениями весенней зелени и своею нежностью ласкал мои здоровые легкие. Я дышал им и, окидывая восторженными глазами простор, чувствовал весну, молодость, и мне казалось, что молодые березки, придорожная травка и гудевшие без умолку майские жуки разделяли это мое чувство. «И к чему там, в мире, — думал я, — теснится человек в своих тесных лачугах, в своих узких и тесных идейках, если здесь такой простор для жизни и мысли? Отчего он не идет сюда?» И мое напоэтизированное воображение не хотело мешать себе мыслью о зиме и хлебе, этих двух печалях, загоняющих поэтов в холодный, прозаический Петербург и в нечистоплотную Москву, где платят гонорар за стихи, но не дают вдохновения. Мимо меня проезжали крестьянские обозы и помещичьи брички, спешившие к обедне и на ярмарку. То и дело приходилось снимать шапку и отвечать на приветливые поклоны мужиков и знакомых помещиков. Всякий предлагал «подвезти», но идти было лучше, чем ехать, и я всякий раз отказывался. Мимо меня, между прочими, проехал на беговых дрожках и графский садовник Франц, в синей куртке и жокейском картузике… Он лениво поглядел на меня сонными, прокисшими глазками и еще ленивее сделал под козырек. Сзади него был привязан пятиведерный бочонок с железными обручами, очевидно, водочный… Противная рожа Франца и его бочонок расстроили несколько мое поэтическое настроение, но скоро поэзия опять восторжествовала, когда я услышал сзади себя шум экипажа и, оглянувшись, увидел тяжелый шарабан, запряженный в пару гнедых лошадок, а в тяжелом шарабане на кожаном ящикообразном сиденье — мою новую знакомку, «девушку в красном», говорившую со мной за два дня до этого про «электричество», убившее ее мать… Хорошенькое, свежевымытое и несколько заспанное личико Оленьки просияло и слегка зарумянилось, когда она увидела меня, шагавшего по краю межи, отделявшей лес от дороги. Она весело закивала мне головой и улыбнулась так приветливо, как улыбаются одни только старые знакомые. — Доброе утро! — крикнул я ей. Она сделала мне ручкой, и вместе со своим тяжелым шарабаном исчезла с моих глаз, не дав мне наглядеться на ее хорошенькое, свежее личико. На этот раз она не была одета в красное. На ней был какой-то темно-зеленый турнюр с большими пуговицами да широкополая соломенная шляпа, но, тем не менее, она мне понравилась не меньше прежнего. Я с удовольствием поговорил бы с ней и послушал ее голос. Я хотел бы заглянуть в ее глубокие глаза при блеске солнца, как заглядывал в них тогда вечером, при сверкавшей молнии. Мне хотелось высадить ее из некрасивого шарабана и предложить ей пройти остальной путь рядом со мной, что я и сделал бы, если бы не «условия» света. Мне почему-то казалось, что она охотно согласилась бы на это предложение… Недаром она два раза оглянулась на меня, когда шарабан поворачивал за высокие ольхи!.. До Тенева от места моего жительства было шесть верст — расстояние для человека молодого в хорошее утро почти незаметное. В начале седьмого часа я уже пробирался между возами и ярмарочными балаганами к теневской церкви. Торговый шум, несмотря на раннее утро и на то, что обедня еще не кончилась, уже стоял в воздухе. Скрипенье возов, ржанье лошадей, мычанье коров, игра в игрушечные трубы — всё это мешалось с возгласами барышников-цыган и пением уже успевших «налимониться» мужиков. Сколько веселых, праздничных лиц, сколько типов! Сколько прелести и движения в этой массе, пестреющей яркими цветами платьев, залитой светом утреннего солнца! Всё это, многотысячное, копошилось, двигалось, шумело, чтобы в несколько часов сделать свое дело и к вечеру разъехаться, оставив после себя на площади, как бы в воспоминание, сенные отбросы, кое-где рассыпанный овес и ореховую скорлупу… Народ густыми толпами валил к церкви и от церкви. Церковный крест испускал из себя золотые лучи, такие же яркие, как и само солнце. Он, сверкал и, казалось, сгорал золотым огнем. Ниже его горела тем же огнем церковная глава, и лоснился на солнце свежевыкрашенный зеленый купол, а за сверкающим крестом широко расстилалась прозрачная, далекая синева. Я, пройдя через ограду, наполненную народом, пробрался в церковь. Обедня недавно еще началась, и, когда я вошел, читали еще только апостол. В церкви стояла тишина, нарушаемая чтением да шагами кадившего дьякона. Народ стоял тихо, неподвижно, с благоговением всматриваясь в открытые царские врата и прислушиваясь к протяжному чтению. Деревенские приличия или, вернее, деревенская порядочность строго преследует всякое поползновение к нарушению в церкви благоговейной тишины. Мне всегда становилось совестно, когда меня вынуждало что-нибудь улыбаться в церкви или разговаривать. К несчастью, в редких только случаях я не встречал в церкви своих знакомых, которых у меня, к сожалению, было очень много; обыкновенно же, чуть только, бывало, входил я в церковь, как ко мне тотчас же подходил какой-нибудь «интеллигент» и после длинных предисловий о погоде начинал разговор о своих грошовых делах. Я отвечал «да» и «нет», но был так щепетилен, что был не в силах совсем отказать своему собеседнику во внимании. И моя щепетильность не дешево мне стоила: я беседовал и конфузливо косился на молящихся соседей, боясь, что я оскорбляю их своей праздной болтовней. И на этот раз не обошлось без знакомых. Войдя в церковь, я у самого входа увидел мою героиню, ту самую «девушку в красном», которую я встретил, пробираясь в Тенево. Бедняжка, красная как рак и вспотевшая, стояла в толпе и обводила умоляющими глазами все лица, ища избавителя. Она застряла в тесной толпе и, не двигаясь ни взад ни вперед, походила на птичку, которую сильно стиснули в кулаке. Увидев меня, она горько улыбнулась и закивала мне своим хорошеньким подбородком. — Проводите меня ради бога вперед! — заговорила она, хватая меня за рукав. — Здесь ужасная духота и… тесно… Прошу вас! — Но ведь и впереди тесно! — сказал я. — Но там всё чисто одетые, приличные… Здесь простой народ, а для нас отведено место впереди… И вы там должны быть… Стало быть, красна она была не потому, что в церкви душно и тесно. Ее маленькую головку мучил вопрос местничества! Я внял мольбам суетной девочки и, осторожно расталкивая народ, провел ее до самого амвона, где был уже в сборе весь цвет нашего уездного бомонда. Поставив Оленьку на подобающее ее аристократическим поползновениям место я стал позади бомонда и занялся наблюдениями. Мужчины и дамы, по обыкновению, шепталась и хихикали. Мировой судья Калинин, жестикулируя пальцами и поматывая головой, вполголоса рассказывал помещику Деряеву о своих болезнях. Деряев почти вслух бранил докторов и советовал мировому полечиться у какого-то Евстрата Иваныча. Дамы, увидев Оленьку, ухватились за нее, как за хорошую тему, и зашушукали. Одна только девушка, по-видимому, молилась… Она стояла на коленях и, устремив свои черные глаза вперед, шевелила губами. Она не заметила, как из-под ее шляпки выпал локон и беспорядочно повис да бледном виске… Она не заметила, как около нее остановился я с Оленькой. Это была дочь мирового Калинина, Надежда Николаевна. Когда я ранее говорил о женщине, черной кошкой пробежавшей между мною и доктором, то говорил о ней… Доктор любил ее так, как способны любить только такие хорошие натуры, как мой милый «щур» Павел Иванович… Теперь он, как шест, стоял около нее, держа руки по швам и вытянув шею… Изредка он вскидывал свои любящие вопрошающие глаза на ее сосредоточенное лицо…. Он словно сторожил ее молитву, и в его глазах светилось страстное, тоскующее желание быть предметом ее молитвы. Но, к его несчастью, он знал, за кого она молилась… Не за него… Я кивнул Павлу Ивановичу, когда тот оглянулся на меня, и мы оба вышли из церкви. — Давайте шляться по ярмарке, — предложил я. Мы закурили папиросы и пошли по лавкам. — Как поживает Надежда Николаевна? — спросил я доктора, входя с ним в палатку, в которой продавались игрушки… — Ничего себе… Кажется, здорова… — отвечал доктор, щурясь на маленького солдатика с лиловым лицом и в пунцовом мундире. — О вас спрашивала… — Что же она обо мне спрашивала? — Так, вообще… Сердится, что вы давно у них не бывали… Ей хочется повидаться с вами и спросить вас о причинах такого внезапного охлаждения к их дому… Ездили почти каждый день и потом — н — Врете, щур… Действительно, я за неимением досуга перестал посещать Калининых… Что правда, то правда. Отношения же мои с этой семьей по-прежнему отменные… Всегда кланяюсь, если встречаю кого-нибудь из них. — Однако, встретившись в прошлый четверг с ее отцом, вы почему-то не нашли нужным ответить на его поклон. — Я не люблю этого болвана мирового, — сказал я, — и не могу равнодушно глядеть на его рожу, но всё-таки у меня еще хватает силы кланяться ему и пожимать протягиваемую им руку. Вероятно, я не заметил его в четверг или не узнал. Вы сегодня не в духе, щуренька, и придираетесь… — Люблю я вас, голубчик, — вздохнул Павел Иванович, — но не верю вам… «Не заметил, не узнал…» Не нужно мне ни ваших оправданий, ни отговорок… К чему они, если в них так мало правды? Вы славный, хороший человек, но в вашем больном мозгу есть, торчит гвоздем маленький кусочек, который, простите, способен на всякую пакость… — Покорнейше благодарим. — Вы не сердитесь, голубчик… Дай бог, чтоб я заблуждался, но мне кажется, что вы немножко психопат. У вас иногда, вопреки воле и направлению вашей хорошей натуры, вырываются такие желания и поступки, что все знающие вас за порядочного человека становятся в тупик… Диву даешься, как это ваши высоконравственные принципы, которые я имею честь знать, могут уживаться с теми вашими внезапными побуждениями, которые в исходе дают кричащую мерзость! Какой это зверь? — обратился вдруг Павел Иванович к торговцу, переменив тон и поднося к глазам деревянного зверя с человеческим носом, гривой и серыми полосами на спине. — Лев, — зевнул продавец. — А може, и другая какая тварь. Шут их разберет! От игрушечных балаганов мы направились к «красным» лавкам, где уже кипела торговля. — Эти игрушки только обманывают детей, — сказал доктор. — Они дают самые превратные понятия о флоре и фауне. Этот лев, например… Полосат, багров и пищит… Нешто львы пищат? — Послушайте, щуренька, — сказал я. — По-видимому, вам хочется мне что-то сказать, и вы словно не решаетесь… Говорите… Мне приятно вас слушать даже тогда, когда вы говорите неприятные вещи… — Приятно, друже, или неприятно, а уж вы послушайте… Мне о многом хотелось бы с вами поговорить… — Начинайте… Я обращаюсь в одно очень большое ухо. — Я уже высказал вам свое предположение относительно того, что вы психопат. Теперь не угодно ли выслушать доказательство?.. Я буду говорить откровенно, быть может, иногда несколько резко… вас покоробит от моих слов, но вы не сердитесь, друже… Вы знаете мои к вам чувства: люблю вас больше всех в уезде и уважаю… Говорю вам не ради упрека и осуждений, не для того, чтоб колоть вас. Будем оба объективны, друже… Станем рассматривать вашу психию беспристрастным оком, как печенку или желудок… — Хорошо, будем объективны, — согласился я. — Превосходно… Начнем хоть с ваших отношений с Калининым… Если вы справитесь у вашей памяти, то она скажет вам, что вы начали посещать Калининых тотчас же по приезде в наш богоспасаемый уезд. Вашего знакомства не искали… Вы с первого же раза не понравились мировому своим надменным видом, насмешливым тоном и дружбой с кутилой графом, и вам не бывать бы у мирового, если бы вы сами не сделали ему визита. Помните? Вы познакомились с Надеждой Николаевной и стали ездить к мировому чуть ли не каждый день… Бывало, когда ни придешь, вы вечно там… Прием оказывался вам самый радушный. Люди ласкали вас, как только умели… И отец, и мать, и маленькие сестры… Привязались к вам, как к родному… Вами восторгаются, вас носят на руках, хохочут от малейшей вашей остроты… Вы для них образец ума, благородства, джентльменства. Вы словно понимаете всё это и за привязанность платите привязанностью — ездите каждый день, даже в дни подпраздничных приборов и суматох. Наконец, для вас не секрет та несчастная любовь, которую вы возбудили к себе в Наденьке… Ведь не секрет? Вы, знающий, что она в вас по уши влюблена, всё ездите и ездите… И что же, друже? Год тому назад вы вдруг, ни с того ни с сего, внезапно прекращаете свои визиты. Вас ждут неделю… месяц… ждут до сегодня, а вы всё не показываетесь… Вам пишут, вы не отвечаете… Наконец, вы даже не кланяетесь… Вам, придающему большое значение приличиям, эти ваши поступки должны показаться верхом невежливости! Отчего вы так резко и круто отчалили от Калининых? Вас обидели? Нет… Вам надоело? В таком случае вы могли бы отчалить постепенно, без этой обидной, ничем не мотивированной резкости… — Перестал в гости ездить, — усмехнулся я, — и попал в психопаты. Как вы наивны, щуренька! Не всё ли равно — сразу ли прекратить знакомство или постепенно? Сразу даже честнее — лицемерия меньше. Какие всё это пустяки, однако! — Допустим, что всё это пустяки или что вас заставили так круто повернуть причины скрытые, до которых нет дела постороннему оку. Но чем объяснить ваши дальнейшие поступки? — Например? — Например, вы являетесь однажды в нашу земскую управу, — не знаю, какое было у вас там дело, — и на вопрос председателя, отчего вас не стало видно у Калининых, вы сказали… Припомните-ка, что вы сказали! «Боюсь, что меня женят!» Вот что сорвалось с вашего языка! И это вы сказали во время заседания, громко, отчетливо, — так, что могли вас слышать все сто человек, бывшие в зале заседания! Красиво? В ответ на ваши слова слышатся смех и скабрезные остроты на тему о ловле женихов. Вашу фразу подхватывает какой-то мерзавец, идет к Калининым и подносит ее Наденьке во время обеда… За что такая обида, Сергей Петрович? Павел Иванович загородил мне дорогу, стал передо мной и продолжал, глядя мне в лицо умоляющими, почти плачущими глазами: — За что такая обида? За что? За то, что эта хорошая девушка вас любит? Допустим, что отец, как и всякий отец, имел поползновения на вашу особу… Он, по-отечески, всех имеет в виду: и вас, и меня, и Маркузина… Все родители одинаковы… Нет сомнения, что и она, по уши влюбленная, быть может, надеялась стать вашей женой… Так за это давать такую звонкую пощечину? Дяденька, дяденька! Не вы ли сами добивались этих поползновений на вашу особу? Вы каждый день ездили, обыкновенные гости так часто не ездят. Днем вы удили с нею рыбу, вечерами гуляли в саду, ревниво оберегая ваше tкte-а-tкte… Вы узнали, что она любит вас, и ни на йоту не изменили вашего поведения… Можно было после этого не подозревать в вас добрых намерений? Я был уверен, что вы на ней женитесь! И вы… вы пожаловались, посмеялись! За что? Что она вам сделала? — Не кричите, щуренька, народ смотрит, — сказал я, обходя Павла Ивановича. — Прекратим этот разговор. Это бабий разговор… Скажу вам только три строчки, и будет с вас. Ездил я к Калининым, потому что скучал и интересовался Наденькой… Она очень интересная девица… Может быть, я и женился бы на ней, но, узнав, что вы ранее меня попали в претенденты ее сердца, узнав, что вы к ней неравнодушны, я порешил стушеваться… Жестоко было бы с моей стороны мешать такому хорошему малому, как вы… — Merci за одолжение! Я вас не просил об этой милостивой подачке, и, насколько могу судить теперь по выражению вашего лица, вы говорите сейчас неправду, говорите зря, не вдумываясь в ваши слова… И потом то обстоятельство, что я славный малый, не помешало вам, однако, в одно из последних ваших посещений сделать Наденьке в беседке предложение, от которого не поздоровилось бы славному малому, если бы он на ней женился! — Эге-ге!.. Откуда вам известно об этом предложении, щуренька? Стало быть, ваши дела недурно идут, если вам стали уже поверять такие тайны!.. Но, однако, вы побледнели от злости и чуть ли не собираетесь бить меня… А еще тоже уговаривался быть объективным! Какой вы смешной, щуренька! Ну, бросим эту галиматью… Пойдем на почту… Мы направились к почтовому отделению, которое весело глядело своими тремя окошечками на базарную площадь. Сквозь серый палисадник пестрел цветник нашего приемщика Максима Федоровича, известного в нашем уезде знатока по части устройства клумб, гряд, газонов и проч. Максима Федоровича мы застали за очень приятным занятием… Красный от удовольствия и улыбающийся, он сидел за своим зеленым столом и, как книгу, перелистывал толстую пачку сторублевых бумажек. По-видимому, на расположение его духа мог влиять вид даже чужих денег. — Здравствуйте, Максим Федорыч! — поздоровался я с ним. — Откуда это у вас такая куча денег? — А вот-с, в Санкт-Петербург отправляют! — сладенько улыбнулся приемщик и указал подбородком в угол, где на единственном имевшемся в почтовом отделении стуле сидела темная человеческая фигура… Увидев меня, эта фигура поднялась и подошла ко мне. В ней я узнал моего нового знакомого, моего новоиспеченного врага, которого я так обидел, когда напился у графа… — Мое почтение, — сказал он. — Здравствуйте, Каэтан Казимирович, — ответил я, делая вид, что не вижу протянутой им руки. — Граф здоров? — Слава богу… Скучает только немножко… Вас ждет к себе каждую минуту… На лице Пшехоцкого я прочел желание побеседовать со мною. Откуда могло явиться такое желание после той «свиньи», которой я угостил его в тот вечер, и откуда такая перемена в обращении? — Как много у вас денег! — сказал я, глядя на посылаемые им пачки сторублевок. И словно кто толкнул меня по мозгам! У одной из сторублевок я увидел обожженные края и совершенно сгоревший угол… Это была та самая сторублевка, которую я хотел сжечь на огне Шандора, когда граф отказался взять ее у меня на уплату цыганам, и которую поднял Пшехоцкий, когда я бросил ее на землю. — Лучше я бедному отдам кому-нибудь, — сказал он тогда, — чем отдавать их огню. Каким же «бедным» посылал он ее теперь? — Семь тысяч пятьсот рублей, — протяжно сосчитал Максим Федорыч. — Совершенно верно! Неловко вторгаться в чужие тайны, но ужасно мне хотелось узнать, кому и чьи это деньги посылал в Петербург чернобровый поляк? Деньги эти во всяком случае были не его, графу же некому было посылать их. «Обобрал пьяного графа, — подумал я. — Если графа умеет обирать глухая и глупая Сычиха, то что стоит этому гусю запустить в его карман свою лапу?» — Ах… кстати, и я пошлю деньги, — спохватился Павел Иванович. — Знаете, господа? Даже невероятно! За пятнадцать рублей пять вещей с пересылкой! Зрительная труба, хронометр, календарь и еще что-то… Максим Федорыч, одолжите мне листик бумажки и конверт! Щур послал свои пятнадцать рублей, я получил газеты и письма, и мы вышли из почтовой конторы… Мы направились к церкви. Щуренька шагал за мной, бледный и унылый, как осенний день. Сверх ожидания, его сильно встревожил разговор, в котором он старался показать себя «объективным». В церкви трезвонили. С паперти медленно спускалась густая толпа, которой, казалось, и конца не было. Из толпы высились ветхие хоругви и темный крест, предшествовавшие крестному ходу. Солнце весело играло на ризах духовенства, а образ божьей матери испускал от себя ослепительные лучи… — А вон и наши! — сказал доктор, указывая на наш уездный бомонд, отделившийся от толпы и стоявший в стороне. — Ваши, а не наши, — сказал я. — Это всё равно… Подойдемте к ним… Я подошел к знакомым и стал раскланиваться. Мировой судья Калинин, высокий плечистый человек с седой бородой и выпуклыми рачьими глазами, стоял впереди всех и что-то шептал на ухо своей дочери. Делая вид, что он меня не замечает, он ни одним движением не ответил на мой «общий» поклон, направленный в его сторону. — Прощай же, ангелочек, — проговорил он плачущим голосом, целуя дочь в ее бледный лоб. — Поезжай домой одна, а к вечеру я возвращусь… Визиты мои будут продолжаться очень недолго. Поцеловав дочь еще раз и сладенько улыбнувшись бомонду, он строго нахмурил брови и круто повернулся на одном каблуке к стоявшему позади него мужику с бляхой сотского. — Скоро же, наконец, подадут мне лошадей? — прохрипел он. Сотский вздрогнул и замахал руками. — Беррегись! Толпа, шедшая за крестным ходом, раздвинулась, и лошади мирового с шиком и звоном бубенчиков подкатили к Калинину. Тот сел, величественно поклонился и, тревожа толпу своим «беррегись», скрылся из глаз, не подарив меня ни одним взглядом. — Эдакая величественная свинья, — прошептал я на ухо доктору. — Пойдемте отсюда! — А разве вы не хотите поговорить с Надеждой Николаевной? — спросил Павел Иваныч. — Мне уж пора домой. Некогда. Доктор сердито поглядел на меня, вздохнул и отошел. Я отдал общий поклон и направился к балаганам. Пробираясь сквозь густую толпу, я оглянулся и поглядел на дочь мирового. Она глядела мне вслед и словно пробовала, вынесу я или нет ее чистый, пронизывающий взгляд, полный горькой обиды и упрека. — За что?! — говорили ее глаза. Что-то закопошилось в моей груди, и мне стало больно и стыдно за свое глупое поведение. Мне захотелось вдруг воротиться и всеми силами своей мягкой, не совсем еще испорченной души приласкать и приголубить эту горячо меня любившую, мною обиженную девушку и сказать ей, что виноват не я, а моя проклятая гордость, не дающая мне жить, дышать, ступить шаг. Гордость, глупая, фатовская, полная суетности. Мог ли я, пустой человек, протянуть руку примирения, если я знал и видел, что за каждым моим движением следили глаза уездных кумушек и «старух зловещих»?[138] Пусть лучше они осыплют ее насмешливыми взглядами и улыбками, чем разуверятся в «непреклонности» моего характера и гордости, которые так нравятся во мне глупым женщинам. Говоря ранее с Павлом Иванычем о причинах, заставивших меня внезапно прекратить свои поездки к Калининым, я был неоткровенен и совсем неточен… Я скрыл настоящую причину, скрыл ее потому, что стыдился ее ничтожности… Причина была мелка, как порох… Заключалась она в следующем. Когда я в последнюю мою поездку, отдав кучеру Зорьку, входил в калининский дом, до моих ушей донеслась фраза: — Наденька, где ты? Твой жених приехал! Это говорил ее отец, мировой, не рассчитывая, вероятно, что я могу услышать его. Но я услышал, и самолюбие мое заговорило. «Я жених? — подумал я. — Кто же тебе позволил называть меня женихом? На каком основании?» И словно что оторвалось в моей груди… Гордость забушевала во мне, и я забыл всё, что помнил, едучи к Калининым… Я забыл, что я увлек девушку и сам начал уже увлекаться ею до того, что ни одного вечера не был в состоянии провести без ее общества… Я забыл ее хорошие глаза, которые день и ночь не выходили из моей памяти, ее добрую улыбку, мелодичный голос… Забыл тихие, летние вечера, которые уже никогда не повторятся ни для меня, ни для нее… Всё рухнулось под напором дьявольской гордыни, взбудораженной глупой фразой простака отца… Взбешенный, я воротился из дому, сел на Зорьку и ускакал, давая себе клятву «утереть нос» Калинину, осмелившемуся без моего позволения записать меня в женихи своей дочери… «Кстати же, Вознесенский любит ее… — оправдывал я свой внезапный отъезд, едучи домой. — Он ранее меня начал вертеться около нее и уже считался женихом, когда я с нею познакомился. Не стану ему мешать!» И с тех пор я ни разу не был у Калининых, хотя и бывали минуты, когда я страдал от тоски о Наде и рвалась душа моя, рвалась к возобновлению прошлого… Но весь уезд знал о происшедшем разрыве, знал, что я «удрал от женитьбы…» Не могла же моя гордость сделать уступки! Кто знает? Не скажи Калинин той фразы и не будь я так глупо горд и щепетилен, быть может, мне не понадобилось бы оглядываться, а ей — глядеть на меня такими глазами… Но пусть лучше такие глаза, пусть лучше это чувство обиды и упрек, чем то, что я увидел в этих глазах несколько месяцев спустя после встречи у теневской церкви! Горе, светившееся теперь в глубине этих черных глаз, было только началом того страшного несчастья, которое, как внезапно налетевший поезд, стерло с лица земли эту девушку… Что цветки перед теми ягодками, которые уже созревали для того, чтобы влить страшную отраву в ее хрупкое тело и тоскующую душу! Выйдя из Тенева, я пошел той же дорогой, что шел и утром. Солнце показывало уже полдень… Крестьянские телеги и помещичьи брички, как и утром, услаждали мой слух своим скрипом и металлическим ворчаньем бубенчиков. Опять проехал садовник Франц с водочным бочонком, на этот раз, вероятно, полным… Опять он взглянул на меня своими кислыми глазками и сделал мне под козырек. Меня покоробило от его противной физиономии, но и на этот раз тяжелое впечатление, произведенное встречей с ним, как рукой сняла дочка лесничего Оленька, догнавшая меня на своем тяжелом шарабане… — Подвезите меня! — крикнул я ей. Она весело закивала мне головой и остановила возницу. Я сел рядом с ней, и шарабан с треском покатил по дороге, светлой полосой тянувшейся через трехверстную просеку теневского леса. Минуты две мы молча разглядывали друг друга. «Какая она, в самом деле, хорошенькая! — думал я, глядя на ее шейку и пухленький подбородок. — Если бы мне предложили выбирать кого-нибудь из двух — Наденьку или ее, то я остановился бы на этой… Эта естественнее, свежей, натура у нее шире и размашистей… Попадись она в хорошие руки — из нее многое можно было бы сделать! А та угрюма, мечтательна… умна». У ног Оленьки лежали две штуки полотна и несколько свертков. — Сколько у вас покупок! — сказал я. — На что вам столько полотна? — Мне еще не столько нужно!.. — ответила Оленька. — Это я так купила, между прочим… Вы не можете себе представить, сколько хлопот! Сегодня вот по ярмарке целый час ходила, а завтра придется в город ехать за покупками… А потом извольте шить… Послушайте, у вас нет таких знакомых женщин, которых можно было бы нанять шить? — Кажется, нет… Но для чего вам столько покупок? К чему шить? Ведь у вас семья не бог весть как велика… Раз, два… да и обчелся… — Какие вы, все мужчины, странные! И ничего вы не понимаете! Вот, когда женитесь, так сами же будете сердиться, если жена ваша после венца придет к вам растрепкой. Я знаю, Петр Егорыч не нуждается, но все-таки неловко как-то с первого же раза себя не хозяйкой показать… — При чем же тут Петр Егорыч? — Гм… Смеется, точно и не знает! — сказала Оленька, слегка краснея. — Вы, барышня, говорите загадками… — Да разве вы не слышали? Ведь я выхожу замуж за Петра Егорыча! — Замуж? — удивился я, делая большие глаза. — За какого Петра Егорыча? — Фу, боже мой! Да за Урбенина! Я поглядел на ее краснеющее и улыбающееся лицо… — Вы… замуж? За Урбенина? Этакая ведь шутница! — Никаких тут шуток нет… Не понимаю даже, что тут шуточного… — Вы замуж… за Урбенина… — проговорил я, бледнея, сам не зная отчего. — Если это не шутка, то что же это такое? — Какие шутки!.. Не знаю даже, что тут такого удивительного, странного… — проговорила Оленька, надувая губки. Минута прошла в молчании… Я глядел на красивую девушку, на ее молодое, почти детское лицо и удивлялся, как это она может так страшно шутить? Сразу я представил себе рядом с нею пожилого, толстого, краснолицего Урбенина с оттопыренными ушами и жесткими руками, прикосновение которых может только царапать молодое, только что еще начавшее жить женское тело… Неужели мысль о подобной картине не может пугать хорошенькую лесную фею, умеющую поэтически глядеть на небо, когда на нем бегают молнии и сердито ворчит гром? Я — и то испугался! — Правда, он несколько стар, — вздохнула Оленька, — но зато ведь он меня любит… Его любовь надежная. — Дело не в надежной любви, а в счастье… — С ним я буду счастлива… Состояние у него — слава богу, и не голяк он какой-нибудь, не нищий, а дворянин. Я в него, конечно, не влюблена, но разве только те и счастливы, которые по любви женятся? Знаю я эти браки по любви! — Дитя мое, — спросил я, с ужасом глядя в ее светлые глаза, — когда вы успели нафаршировать вашу бедную головку этой ужасной житейской мудростью? Допустим, что вы шутите со мной, но где вы научились так старчески грубо шутить?.. Где? Когда? Оленька поглядела на меня с удивлением и пожала плечами… — Я не понимаю, что вы говорите… — сказала она. — Вам неприятно, что молодая девушка выходит за старика? Да? Оленька вдруг вспыхнула, задвигала нервно подбородком и, не дожидаясь моего ответа, проговорила быстро: — Вам это не нравится? Так извольте вы сами идти в лес… в эту скуку, где нет никого, кроме кобчиков да сумасшедшего отца… и ждите там, пока придет молодой жених! Вам понравилось тогда вечером, а поглядели бы вы зимой, когда рада бываешь… что вот-вот смерть придет… — Ах, всё это нелепо, Оленька, всё это незрело, глупо! Если вы не шутите, то… я уж не знаю, что и говорить! Замолчите лучше и не оскорбляйте воздуха вашим язычком! Я, на вашем бы месте, на семи осинах удавился, а вы полотно покупаете… улыбаетесь! Аа-ах! — По крайней мере, он на свои средства отца лечить будет… — прошептала она… — Сколько вам нужно на лечение отца? — закричал я. — Возьмите у меня! Сто?.. двести?.. тысячу? Лжете вы, Оленька! Вам не лечение отца нужно! Новость, сообщенная мне Оленькой, так меня взволновала, что я и не заметил, как шарабан наш проехал мимо моей деревеньки, как он въехал на графский двор и остановился у крыльца управляющего… Увидев выбежавших детишек и улыбающееся лицо Урбенина, подскочившего высаживать Оленьку, я выпрыгнул из шарабана и, не простившись, побежал к графскому дому. Здесь ждала меня новая новость. — Как кстати! Как кстати! — встретил меня граф, царапая мою щеку своими длинными, колючими усами. — Удачнее времени ты и выбрать не мог! Мы только сию минуту сели завтракать… Ты, конечно, знаком вот… Не раз уж, небось, имел столкновение по вашей судейской части… Ха-ха! Граф обеими руками указал мне на двух мужчин, сидевших на мягких креслах и евших холодный язык. В одном я имел неудовольствие узнать мирового судью Калинина, другой же, маленький седенький старичок с большой лунообразной лысиной, был мой хороший знакомый, Бабаев, богатый помещик, занимавший в нашем уезде должность непременного члена. Раскланиваясь, я с удивлением поглядел на Калинина… Я знал, как ненавидел он графа и какие слухи пускал он по уезду про того, у которого теперь ел с таким аппетитом язык с горошком и пил десятилетнюю наливку. Как мог порядочный человек объяснить этот его визит? Мировой уловил мой взгляд и, вероятно, понял его. — Сегодняшний день посвятил я визитам, — сказал он мне. — Весь уезд объезжаю… И к его сиятельству заехал, как видите… Илья подал четвертый прибор. Я сел, выпил рюмку водки и стал завтракать… — Нехорошо, ваше сиятельство… Нехорошо! — продолжал Калинин разговор, прерванный моим приходом. — Нам, маленьким людям, не грех, а вы человек знатный, богатый, блестящий… Вам грех манкировать. — Это верно, что грех… — согласился Бабаев. — В чем дело? — спросил я. — Хорошую мысль подал мне Николай Игнатьич! — кивнул граф на мирового. — Приходит он ко мне… садится завтракать, и жалуюсь я ему на скуку… — И жалуются они мне на скуку… — перебил графа Калинин. — Скучно, грустно… то да се… Одним словом, разочарован… Онегин некоторым образом… Сами, говорю, виноваты, ваше сиятельство… Как так? Очень просто… Вы, говорю, чтобы скучно не было, служите… хозяйством занимайтесь… Хозяйство превосходное, дивное… Говорят, что они намерены заняться хозяйством, но все-таки скучно… Нет у них, так сказать, увеселяющего, возбуждающего элемента. Нет этого… как бы так выразиться… ээ… того… сильных ощущений… — Ну, так какую же мысль вы подали? — Собственно говоря, я не подавал никакой мысли, но только осмелился сделать его сиятельству упрек. Как это, говорю, вы, ваше сиятельство, такой молодой… образованный, блестящий, можете жить в такой замкнутости? Разве, говорю, это не грех? Вы никуда не выезжаете, сами никого не принимаете, нигде вас не видно… как старик какой-нибудь или отшельник… Что стоит, говорю, вам устроивать у себя собрания… журфиксы, так сказать? — Для чего же ему сдались эти журфиксы? — спросил я. — Как для чего? Во-первых, тогда его сиятельство, ежели у него будут вечера, познакомится с обществом… изучит, так сказать… Во-вторых, и общество будет иметь честь поближе познакомиться с одним из наибогатейших наших землевладельцев… Взаимный, так сказать, обмен мыслей, разговоры, веселье.. А сколько у нас, ежели рассуждать, образованных барышень, кавалеров!.. Какие можно задавать музыкальные вечера, танцы, пикники — посудите только! Залы огромадные, в саду беседки и… прочее… Такие любительские спектакли и концерты можно задавать, что никому в губернии не снилось… Да ей-богу! Посудите сами!.. Теперь всё это почти пропадает даром, в землю закопано, а тогда… понять только нужно! Имей я такие средства, как у его сиятельства, я показал бы, как надо жить! А они говорят: скучно! Даже, ей-богу… слушать смешно… совестно даже… И Калинин замигал глазами, желая показать вид, что ему действительно совестно… — Это вполне справедливо, — сказал граф, вставая и засовывая руки в карманы. — У меня могут выходить отличные вечера… Концерты, любительские спектакли… всё это действительно можно прелестно устроить. И к тому же эти вечера будут не только веселить общество, но они будут иметь и воспитывающее влияние!.. Не правда ли? — Ну да, — согласился я. — Как посмотрят наши барышни на твою усатую физиономию, так сразу и проникнутся духом цивилизации… — Ты всё шутишь, Сережа, — обиделся граф, — а никогда ты мне дружески не посоветуешь! Всё тебе смешно! Пора, мой друг, оставить эти студенческие замашки! Граф зашагал из угла в угол и в длинных, скучных предположениях начал описывать мне пользу, какую могут принести человечеству его вечера. Музыка, литература, сцена, верховая езда, охота. Одна охота может сплотить воедино все лучшие силы уезда!.. — Мы с вами поговорим еще об этом! — сказал граф Калинину, прощаясь с ним после завтрака. — Так позволите, стало быть, уезду надеяться, ваше сиятельство? — спросил мировой. — Конечно, конечно… Я разовью эту мысль, постараюсь… Я рад… даже очень… Так всем и скажите… Нужно было видеть то блаженство, которое было написано на лице мирового, когда он садился в свой экипаж и говорил: «Пошел!» Он так обрадовался, что забыл даже наши с ним контры и на прощанье назвал меня голубчиком и крепко пожал мне руку. По отъезде визитеров я и граф сели за стол и продолжали завтракать. Завтракали мы до семи часов вечера, когда с нашего стола сняли посуду и подали нам обед. Молодые пьяницы знают, как коротать длинные антракты. Мы всё время пили и ели по маленькому кусочку, чем поддерживали аппетит, который пропал бы у нас, если бы мы совсем бросили есть. — Ты посылал сегодня кому-нибудь деньги? — спросил я графа, вспомнив те пачки сторублевок, которые видел утром в теневском почтовом отделении. — Никому. — Скажи, пожалуйста, а твой этот… как его?.. новый друг, Казимир Каэтаныч или Каэтан Казимирович, богатый человек? — Нет, Сережа. Это бедняк!.. Но зато какая душа, какое сердце! Ты напрасно так презрительно говоришь о нем и… нападаешь на него… Надо, брат, научиться различать людей. Выпьем еще по рюмке? К обеду воротился Пшехоцкий. Увидев меня, сидящего за столом и пьющего, он поморщился и, повертясь около нашего стола, нашел лучшим удалиться в свою комнату. От обеда он отказался, ссылаясь на головную боль, но не выразил ничего против, когда граф посоветовал ему пообедать в своей комнате, в постели. Во время второго блюда вошел Урбенин. Я не узнал его. Его широкое, красное лицо сияло удовольствием. Довольная улыбка, казалось, играла даже на оттопыренных ушах и толстых пальцах, которыми он то и дело поправлял свой новый, франтоватый галстух. — Корова у нас заболела, ваше сиятельство, — доложил он. — Посылал я за нашим ветеринаром, а оказывается, что он уехал. Не послать ли, ваше сиятельство, за городским ветеринаром? Если я пошлю, то он не послушается, не поедет, а если вы ему напишете, то тогда другое дело. Может быть, у коровы пустяк, а может, и что другое. — Хорошо, я напишу… — пробормотал граф. — Поздравляю вас, Петр Егорыч, — ‹сказал я,› вставая и протягивая управляющему руку. — С чем-с? — прошептал он. — Ведь вы женитесь! — Да, да, представь себе, женится! — заговорил граф, мигая глазом на краснеющего Урбенина. — Каков? Ха-ха-ха! Молчал-молчал, да вдруг — н Урбенин осторожно и почтительно сел, позвал глазами Илью и приказал ему подать себе супу. Я налил ему рюмку водки. — Я не пью-с, — сказал он. — Полноте, вы еще больше нашего пьете. — Пил-с, а теперь уж не пью, — улыбнулся управляющий. — Теперь мне нельзя пить… Незачем… Всё, слава богу, прошло благополучно, всё устроилось, и так именно, как хотело мое сердце, даже больше, чем мог я ожидать. — Ну, на радостях хоть этого выпейте, — сказал я, наливая ему хересу. — Этого, пожалуй. А пил я действительно много. Теперь могу покаяться перед его сиятельством. От утра до ночи, бывало. Как встанешь утром, вспомнишь это самое… ну и, естественно, к шкафчику сейчас же. Теперь, слава богу, нечего водкой заглушать. Урбенин выпил стакан хересу. Я налил ему другой. Он выпил и этот и незаметно опьянел… — Даже не верится… — сказал он, засмеявшись вдруг счастливым детским смехом. — Гляжу вот на это кольцо, припоминаю ее слова, которыми она выразила свое согласие, и не верю… Смешно даже… Ну, мог ли я в свои годы, при своей такой наружности, надеяться, что эта достойная девушка не побрезгует стать моей… матерью моих сироток? Ведь она красавица, как изволили вы видеть, ангел во плоти! Чудеса да и только! Вы еще мне налили?.. Пожалуй, в последний раз уж… С горя пил, выпью и на радостях. А как я мучился, господа, сколько горя вынес! Увидал ее год тому назад и — верите ли? — с той поры не было ни одной ночи, чтоб я спал спокойно, не было дня, чтоб я не заливал водкой этой… слабости глупой, не бранил себя за глупость… Бывало, гляжу на нее в окно, любуюсь и… волосы рву у себя на голове… В пору бы вешаться… Но, слава богу… рискнул, сделал предложение, и точно, знаете ли, меня обухом! Ха-ха! Слышу и ушам не верю… Она говорит: «Согласна», а мне кажется: «Убирайся ты, старый хрен, к чёрту»… После, когда уж она меня поцеловала, убедился… Пятидесятилетний Урбенин при воспоминании о первом поцелуе с поэтической Оленькой закрыл глаза и зарделся, как мальчишка… Мне показалось это противным… — Господа, — сказал он, глядя на нас счастливыми, ласковыми глазами. — Отчего вы не женитесь? Зачем вы тратите попусту, кидаете за окно свои жизни? Отчего вы так чуждаетесь того, что составляет лучшее благо всего живущего на земле? Ведь наслаждения, которые дает разврат, не дают и сотой доли того, что дала бы вам тихая, семейная жизнь! Молодые люди… ваше сиятельство и вы, Сергей Петрович… я счастлив теперь и… видит бог, как я люблю вас обоих! Простите мне мои глупые советы, но… счастья ведь я хочу для вас! Отчего вы не женитесь? Семейная жизнь есть благо… Она — долг всякого!.. Счастливый и умильный вид старика, женящегося на молоденькой и советующего нам переменить нашу развратную жизнь на тихую, семейную, стал мне невыносим. — Да, — сказал я, — семейная жизнь есть долг. Я с вами согласен. Стало быть, этот долг вы исполняете уже во второй раз? — Да, во второй. Я вообще люблю семейную жизнь. Быть холостым или вдовым для меня — жизнь наполовину. Что ни говорите, господа, а супружество — великое дело! — Конечно… Даже и тогда, если муж чуть ли не в три раза старше своей супруги? Урбенин покраснел. Рука, несшая ко рту ложку с супом, задрожала, и суп вылился обратно в тарелку. — Я понимаю, что вы хотите сказать, Сергей Петрович, — пробормотал он. — Благодарю вас за откровенность. Я и сам себя спрашиваю: не подло ли? Мучаюсь! Но где тут спрашивать себя, решать разные вопросы, когда каждую минуту чувствуешь, что ты счастлив, когда ты забываешь свою старость, уродство… всё! Homo sum[139], Сергей Петрович! А когда на секундочку забегает в мою башку вопрос о неравенстве лет, я не лезу в карман за ответом и успокаиваю себя, как умею. Мне кажется, что я дал Ольге счастье. Я дал ей отца, а детям моим мать. Впрочем, всё это на роман похоже, и… у меня кружится голова. Напрасно вы меня хересом напоили. Урбенин встал, вытер салфеткой лицо и опять сел. Через минуту он выпил залпом стакан, поглядел на меня продолжительным, умоляющим взглядом, словно прося у меня пощады, потом вдруг плечи его задрожали, и он неожиданно зарыдал, как мальчик. — Это ничего-с… Ничего-с, — забормотал он, пересиливая рыданье. — Не беспокойтесь. Мое сердце, после ваших слов, сжало какое-то предчувствие. Но это ничего-с. Предчувствие Урбенина сбылось, сбылось так скоро, что я не успеваю переменить перо и начать новую страницу. С следующей главы моя покойная муза выражение покоя на лице сменяет выражением гнева и скорби. Предисловие кончено, и начинается драма. Преступная воля человека вступает в свои права. Я помню хорошее воскресное утро. В окна графской церкви видно прозрачное, голубое небо, а всю церковь, от расписного купола до пола, пронизывает матовый луч, в котором весело играют клубы ладанного дыма… В открытые окна и двери несется пение ласточек и скворцов… Один воробей, по-видимому, смельчак большой руки, влетел в дверь и, покружившись с чириканьем над нашими головами, окунувшись несколько раз в матовый луч, вылетел в окно… В самой церкви тоже пение… Поют складно, с чувством и с тем увлечением, на которое способны наши певцы-малороссы, когда чувствуют себя героями минуты и когда видят, что на них то и дело оглядываются… Мотивы всё больше веселые, игривые, как светлые, солнечные «зайчики», играющие на стенах и одеждах слушающих… В необработанном, но мягком и свежем теноре мое ухо, несмотря на веселый свадебный мотив, улавливает трудную, унылую струнку, словно этому тенору жаль, что рядом с хорошенькой, поэтической Оленькой стоит тяжелый, медведеобразный и отживающий свой век Урбенин… Да и не одному тенору жалко глядеть на эту неравную пару… На многочисленных лицах, которыми усеяно мое поле зрения, как бы они ни старались казаться веселыми и беспечными, даже идиот мог бы прочесть сожаление. Я, облеченный в новую фрачную пару, стою позади Оленьки и держу над нею венец. Я бледен и не совсем здоров… Голова трещит от вчерашней попойки и прогулки по озеру, и я то и дело поглядываю, не дрожит ли моя рука, держащая венец… На душе моей скверно и жутко, как в лесу в дождливую осеннюю ночь. Мне досадно, противно, жалко… За сердце скребут кошки, напоминающие несколько угрызения совести… Там, в глубине, на самом дне моей души, сидит бесенок и упрямо, настойчиво шепчет мне, что если брак Оленьки с неуклюжим Урбениным — грех, то и я повинен в этом грехе… Откуда могут быть такие мысли? Разве я мог спасти эту юную дурочку от ее непонятного риска и несомненной ошибки?.. — А кто знает! — шепчет бесенок. — Тебе это лучше знать! Видал я на своем веку много неравных браков, не раз стоял перед картиной Пукирева[140], читал много романов, построенных на несоответствии между мужем и женой, знал, наконец, физиологию, безапелляционно казнящую неравные браки, но ни разу еще в жизни не испытывал того отвратительного душевного состояния, от которого никакими силами не могу отделаться теперь, стоя за спиной Оленьки и исполняя обязанности шафера… Если мою душу волнует одно только сожаление, то отчего же я не знал этого сожаления ранее, присутствуя на других свадьбах?.. — Тут не сожаление, — шепчет бесенок. — Ревность… Но ревновать можно только тех, кого любишь, а разве я люблю девушку в красном? Если любить всех девушек, которых я встречаю, живя под луной, то не хватит сердца, да и слишком жирно… Мой друг, граф Карнеев, стоит позади, у самой церковной двери, за ктиторским шкафом, и продает свечи. Он прилизан, примазан и испускает из себя наркотический, удушливый запах духов. Сегодня он выглядывает таким душкой, что, здороваясь с ним утром, я не удержался, чтобы не сказать: — Сегодня ты, Алексей, выглядываешь идеальным кадрилыциком! Каждого входящего и выходящего он провожает слащавой улыбкой, и я слышу, какими тяжеловесными комплиментами награждает он всякую даму, покупающую у него свечку. Он, баловень судьбы, никогда не имевший медных денег и не умеющий обращаться с ними, то и дело роняет на пол пятаки и трешники. Около него, облокотившись о шкаф, стоит величественный Калинин с Станиславом на шее. Физиономия его сияет и лоснится. Он рад, что его идея о «журфиксах» пала на добрую почву и уже начинает давать плод. В глубине души он сыплет Урбенину тысячи благодарностей: его свадьба нелепость, но, тем не менее, к ней легко придраться, чтобы устроить первый журфикс. Тщеславная Оленька должна была радоваться… От венчального аналоя до самых царских врат тянутся два ряда представительниц нашего уездного цветника… Гостьи разодеты так, как разоделись бы они, если бы женился сам граф: лучших нарядов и желать нельзя… Тут всё больше аристократки… Ни одной попадьи, ни одной купчихи… Есть даже такие, которым Оленька ранее не считала себя вправе даже кланяться… Жених Оленьки — управляющий, привилегированный слуга, но от этого не может страдать ее тщеславие… Он дворянин и имеет в соседнем уезде заложенное имение. Отец его был уездным предводителем, а сам он уже девять лет состоит мировым судьей своего родного уезда… Чего же еще нужно честолюбию дочери личного дворянина? Даже ее шафер, известный всей губернии бонвиван и Дон-Жуан, может пощекотать ее гордость… На него заглядываются все гостьи… Он эффектен, как сорок тысяч шаферов, взятых вместе, и, что немаловажнее всего, не отказался быть у нее, простушки, шафером, когда известно, что он даже и аристократкам отказывает, когда они приглашают его в шафера… Но тщеславная Оленька не радуется… Она бледна, как полотно, которое она недавно везла с теневской ярмарки. Рука ее, держащая свечу, слегка дрожит, подбородок изредка вздрагивает. В глазах какое-то отупение, словно она внезапно чему-то изумилась, испугалась… Нет и следа той веселости, которая светилась в ее глазах, когда она не дальше как вчера бегала по саду и с увлечением рассказывала, какие обои будут в ее гостиной, в какие дни она будет приглашать к себе гостей и проч. Лицо ее теперь слишком серьезно, более, чем того требует торжественность случая… Урбенин в новой фрачной паре. Одет он прилично, но причесан так, как причесывались православные в двенадцатом году. Он, по обыкновению, красен и серьезен. Его глаза молятся, и те крестные знамения, которые делает он после каждого «Господи, помилуй», не машинальны. Позади меня стоят дети Урбенина от первого брака — гимназист Гриша и белокурая девочка Саша. Они глядят на красный затылок и оттопыренные уши отца, и лица их изображают вопросительные знаки. Им непонятно, на что их отцу сдалась тетя Оля и зачем он берет ее к себе в дом. Саша только удивлена, четырнадцатилетний же Гриша нахмурен и глядит исподлобья. Наверное, он ответил бы отказом, если бы отец попросил у него позволения жениться… Венчальный обряд совершают с особенной торжественностью. Служат три священника и два дьякона. Служат долго, до того долго, что рука моя устает держать венец, и дамы, любящие вообще смотреть венчанье, перестают глядеть на молодых. Благочинный читает молитвы с расстановкой, не пропуская ни одной; певчие поют что-то длинное нотное; дьячок, пользуясь случаем прихвастнуть своей октавой, читает апостола с «сугубою протяжностью»… Но вот, наконец, благочинный берет из моих рук венец… молодые целуются… Гости волнуются, расстраиваются правильные ряды, слышатся поздравления, поцелуи, аханья. Урбенин, сияющий и улыбающийся, берет под руку молодую, и мы выходим на воздух… Если кто из бывших со мною в церкви найдет это описание неполным и не совсем точным, тот пусть припишет эти промахи головной боли и названному душевному настроению, мешавшим мне наблюдать и подмечать… Конечно, знай я тогда, что мне придется писать роман, я не глядел бы в землю, как в описываемое утро, и не обратил бы внимания на головную боль! Судьба позволяет себе иногда едкие, ядовитые шутки! Не успели молодые выйти из церкви, как навстречу им несся нежелаемый и неожиданный сюрприз… Когда свадебный кортеж, пестрея на солнце сотнями цветов и оттенков, двигался от церкви к графскому дому, Оленька вдруг сделала шаг назад, остановилась и так дернула своего мужа за локоть, что тот покачнулся… — Его выпустили! — сказала она вслух, поглядев на меня с ужасом. Бедняжка! Навстречу кортежу, по аллее бежал ее сумасшедший отец, лесничий Скворцов. Размахивая руками, спотыкаясь и безумно поводя глазами, он представлял из себя достаточно непривлекательную картину. Всё бы это еще, пожалуй, было прилично, если бы он не был в своем ситцевом халате и в туфлях-шлепанцах, ветхость которых плохо вязалась с роскошью венчального наряда его дочери. Лицо его было заспано, волоса развевались от ветра, ночная сорочка была расстегнута. — Оленька! — залепетал он, поровнявшись с ними. — Зачем ты ушла? Оленька покраснела и искоса поглядела на улыбающихся дам. Бедняжка сгорела от стыда… — Митька дверей не запер, — продолжал лесничий, обращаясь к нам. — Трудно ли ворам забраться?.. Из кухни самовар унесли в прошлом году, так вот она хочет, чтоб и теперь нас обокрали! — Не знаю, кто его выпустил! — шепнул мне Урбенин. — Я велел его запереть… Голубчик, Сергей Петрович, будьте милостивы, выведите нас как-нибудь из неловкого положения! Как-нибудь! — Я знаю, кто украл у вас самовар, — обратился я к лесничему. — Пойдемте, я вам укажу. И, обняв Скворцова за талию, я повел его к церкви… Заведя его в ограду, я поговорил с ним, и когда, по моему расчету, свадебный кортеж был уже в доме. — оставил его, не указав ему места, где находится украденный у него самовар. Как ни неожиданна и ни экстраординарна была встреча с сумасшедшим, но, тем не менее, скоро она была забыта… Новый сюрприз, который был поднесен молодым их судьбою, был еще диковиннее… Через час все мы сидели за длинными столами и обедали. Кто привык к паутине, плесени и цыганскому гиканью графских апартаментов, тому странно было глядеть на эту будничную, прозаическую толпу, нарушавшую своей обыденной болтовней тишину ветхих, оставленных покоев. Эта пестрая, шумная толпа походила на стаю скворцов, мимолетом опустившуюся отдохнуть на заброшенное кладбище, или — да простит мне это сравнение благородная птица! — на стаю аистов, опустившихся в одни из сумерек перелетных дней на развалины заброшенного замка. Я сидел и ненавидел эту толпу, с суетным любопытством рассматривавшую гниющее богатство графов Карнеевых. Мозаиковые стены, скульптурные потолки, роскошные персидские ковры и мебель в стиле рококо вызывали восторг и изумление. Усатая физиономия графа, не переставая, осклаблялась самодовольной улыбкой… Восторженную лесть своих гостей принимал он, как нечто заслуженное, хотя в сущности он нимало не был повинен в богатстве и роскоши своего брошенного им гнезда, а, напротив, заслуживал самых горьких упреков и даже презрения за свой варварски тупой индифферентизм по отношению к добру, собранному его отцом и дедами, собранному не днями, а десятками лет! Только душевно слепой и нищий духом на каждой посеревшей мраморной плите, в каждой картине, в каждом темном уголке графского сада не видел пота, слез и мозолей людей, дети которых ютились теперь в избенках графской деревеньки… И из большого числа людей, сидевших за свадебным столом, людей богатых, независимых, которым ничто не мешало говорить даже самую резкую правду, не нашлось ни одного человека, который сказал бы графу, что его самодовольная улыбка глупа и неуместна… Каждый находил нужным льстиво улыбаться и курить грошовый фимиам! Если это была «простая» вежливость (у нас любят многое сваливать на вежливость и приличия), то я этим франтам предпочел бы невеж, едящих руками, берущих хлеб с чужого куверта и сморкающихся посредством двух пальцев… Урбенин улыбался, но на это у него были свои причины. Он улыбался и льстиво, и почтительно, и детски счастливо. Его широкая улыбка была суррогатом собачьего счастья. Преданную и любящую собаку приласкали, осчастливили, и теперь она в знак благодарности весело и искренно виляет хвостом… Он, как Рислер-старший в романе Альфонса Доде, сияя и потирая от удовольствия руки, глядел на свою молодую жену[141] и от избытка чувств не мог удержаться, чтобы не задавать вопрос за вопросом: «Кто б мог подумать, что эта молодая красавица полюбит такого старика, как я? И неужели она не могла найти кого-нибудь помоложе и изящнее? Непостижимы эти женские сердца!» И он даже имел храбрость обратиться ко мне и сболтнуть: — Да и век же настал, как посмотришь! Хе-хе! Старик из-под носа молодежи утаскивает этакую фею! Чего же смотрели вы? Хе-хе… Нет, нынче уже не та молодежь! Не зная, куда деваться от избытка чувств благодарности, распиравших его широкую грудь, он то и дело поднимался, протягивал к бокалу графа свой бокал и говорил дрожащим от волнения голосом: — Чувства мои к вам известны, ваше сиятельство… В сегодняшний же день вы столько сделали для меня, что моя любовь к вам является просто прахом… Чем я заслужил такое внимание вашего сиятельства, что вы приняли такое участие в моей радости? Так только графы да банкиры празднуют свои свадьбы! Эта роскошь, собрание именитых гостей… Ах, да что говорить!.. Верьте, ваше сиятельство, что моя память не оставит вас, как не оставит она этот лучший и счастливейший из дней моей жизни… И так далее… Оленьке, по-видимому, была не по душе витиеватая почтительность мужа… Она заметно тяготилась его речами, вызывавшими улыбки на лицах обедавших, и даже, кажется, стыдилась их… Несмотря на выпитый бокал шампанского, она была невесела и угрюма по-прежнему… Та же бледность, что и в церкви, тот же испуг в глазах… Она молчала, лениво отвечала на все вопросы, насильно улыбалась остротам графа и едва касалась дорогих кушаний… Насколько пьянеющий Урбенин считал себя счастливейшим из смертных, настолько несчастно было ее хорошенькое личико. Мне было просто жаль глядеть на него, и я, чтобы не видеть этого личика, старался глядеть себе в тарелку. Чем нужно было объяснить эту ее печаль? Не начало ли раскаяние грызть бедную девушку? Или, быть может, ее тщеславие ожидало еще большей помпы? Подняв во время второго блюда на нее глаза, я был поражен до боли в сердце. Бедная девочка, отвечая на какой-то пустой вопрос графа, делала усиленные глотательные движения: в ее горле накипали рыдания. Она не отрывала платка от своего рта и робко, как испуганный зверек, поглядывала на нас: не замечаем ли мы, что ей хочется плакать? — Чего вы такая кислая сегодня? — спросил граф. — Эге! Петр Егорыч, это вы виноваты! Извольте-ка развеселить жену! Господа, я требую поцелуя. Ха-ха!.. Не для себя поцелуя, конечно, а того… чтобы они поцеловались! Горько! — Горько! — подхватил Калинин. Урбенин, улыбаясь во всё свое красное лицо, поднялся и замигал глазами. Оленька, понуждаемая возгласами и гиканьем гостей, слегка привстала и подставила Урбенину свои неподвижные, безжизненные губы… Тот поцеловал… Оленька стиснула свои губы, точно боясь, чтоб их не поцеловал в другой раз, и взглянула на меня… Вероятно, мой взгляд был нехорош. Уловив его, она вдруг покраснела, потянулась за платком и стала сморкаться, желая хоть чем-нибудь скрыть свое страшное замешательство… Мне пришло в голову, что она стыдится передо мной, стыдится за этот поцелуй, за брак… «Какое мне дело до тебя?» — думал я, но сам в то же время не спускал с нее глаз, стараясь уловить причину ее замешательства… Бедняжка не вынесла моего взгляда. Правда, краска стыда скоро сошла с ее лица, но зато из глаз выжались слезы, настоящие слезы, каких я никогда ранее не видывал на ее лице… Прижав платок к лицу, она поднялась и выбежала из столовой… — У Ольги Николаевны голова болит, — поспешил я объяснить ее уход. — Она мне еще утром жаловалась… — Оставь, брат! — сострил граф. — Головная боль тут ни при чем… Поцелуй всё наделал, сконфузилась. Объявляю, господа, жениху строгий выговор! Он не приучил свою невесту к поцелуям! Ха-ха! Гости, восхищенные графской остротой, захохотали… Но не следовало хохотать… Прошло пять, десять минут, и молодая не возвращалась… Наступило молчание… Даже граф перестал острить… Отсутствие Оленьки было тем более заметно, что она ушла внезапно, не сказав ни слова… Не говоря уж об этикете, который был оскорблен тут прежде всего, Оленька вышла из-за стола тотчас же после поцелуя, словно она рассердилась, что ее заставили целоваться с мужем… Нельзя было допустить, что она ушла оттого, что сконфузилась… Сконфузиться можно на минуту, на две, но не на целую вечность, какою показались нам первые десять минут ее отсутствия… Сколько нехороших мыслей промелькнуло в хмельных головах мужчин и сколько сплетен было уже наготове у милых дам! Невеста встала из-за стола и ушла — какое эффектное и сценическое место для «великосветского» уездного романа! Урбенин стал беспокойно поглядывать по сторонам. — Нервы… — бормотал он. — Или, может, развязалось что-нибудь из туалета… Кто их знает, этих женщин! Сейчас придет… Сию минуту. Но когда прошло еще десять минут и она не появлялась, он посмотрел на меня такими несчастными, умоляющими глазами, что мне стало жаль его… «Ничего, если я пойду поищу ее? — говорили его глаза. — Не поможете ли вы мне, голубчик, выйти из этого ужасного положения? Вы здесь самый умный, смелый и находчивый человек, помогите же мне!» Я внял мольбе его несчастных глаз и решился помочь ему. Как я помог ему, читатель увидит далее… Скажу только, что крыловский медведь, оказавший услугу пустыннику[142], в моих глазах теряет всё свое звериное величие, бледнеет и обращается в невинную инфузорию, когда я вспоминаю себя в роли «услужливого дурака»… Сходство между мной и медведем заключается только в том, что оба мы шли на помощь искренно, не предвидя дурных последствий нашей услуги, разница же между нами громадная… Мой камень, которым я хватил по лбу Урбенина, во много раз увесистее… — Где Ольга Николаевна? — спросил я лакея, подававшего мне салат. — В сад вышли, — отвечал он. — Это ни на что непохоже, mesdames! — сказал я шутливым тоном, обращаясь к дамам. — Невеста ушла, и мое вино прокисло!.. Я должен пойти ее отыскать и привести ее сюда, хотя бы у нее болели все зубы! Шафер — должностное лицо, и он идет показать свою власть! Я встал и при громких аплодисментах моего друга графа вышел из столовой в сад. В мою разгоряченную вином голову ударили прямые, жгучие лучи полуденного солнца. В лицо пахнуло зноем и духотой. Я наудачу пошел по одной из боковых аллей и, насвистывая какой-то мотив, дал «полный пар» своим следовательским способностям в роли простой ищейки. Я осмотрел все кустики, беседки, пещеры, и когда уже меня начало помучивать раскаяние, что я пошел вправо, а не влево, я вдруг услышал странные звуки. Кто-то смеялся или плакал. Звуки исходили из одной пещеры, которую я хотел осмотреть последней. Быстро войдя в нее, я, охваченный сыростью, запахом плесени, грибов и известки, увидел ту, которую искал. Она стояла, облокотившись о деревянную колонну, покрытую черным мохом, и, подняв на меня глаза, полные ужаса и отчаяния, рвала на себе волосы. Из ее глаз лились слезы, как из губки, когда ее жмут. — Что я наделала? Что наделала! — бормотала она. — Да, Оля, что вы наделали! — сказал я, ставши перед ней и скрестив руки. — Зачем я вышла за него замуж? Где у меня были глаза? Где был мой ум? — Да, Оля… Трудно объяснить этот ваш шаг… Объяснять его неопытностью — слишком снисходительно, объяснять испорченностью — не хочется… — Я сегодня только поняла… сегодня! Отчего я не поняла этого вчера? Теперь всё безвозвратно, всё потеряно! Всё, всё! Я могла бы выйти за человека, которого я люблю, который меня любит! — За кого же это, Оля? — спросил я. — За вас! — сказала она, посмотрев на меня прямо, открыто… — Но я поспешила! Я была глупа! Вы умны, благородны, молоды… Вы богаты… Вы казались мне недоступны! — Ну, довольно, Оля, — сказал я, беря ее за руку. — Утрем свои глазки и пойдем… Там ждут… Ну, будет плакать, будет… — Я поцеловал ее руку. — Будет, девочка! Ты сделала глупость и теперь расплачивайся за нее… Ты виновата… Ну, будет, успокойся… — Ведь ты меня любишь? Да? Ты такой большой, красивый! Ведь любишь? — Пора идти, душа моя… — сказал я, замечая, к своему великому ужасу, что я целую ее в лоб, беру ее за талию, что она ожигает меня своим горячим дыханием и повисает на моей шее… — Будет тебе! — бормочу я. — Довольно!.. Когда минут через пять я вынес ее на руках из пещеры и, замученную новыми впечатлениями, поставил на землю, почти у самого порога я увидал Пшехоцкого… Он стоял, ехидно глядел на меня и тихо аплодировал… Я смерил его взглядом и, взяв Ольгу под руку, направился к дому. — Сегодня же вас здесь не будет! — сказал я, оглянувшись, Пшехоцкому. — Ваше шпионство не пройдет вам даром! Поцелуи мои, вероятно, были горячи, потому что лицо Ольги горело, как в огне. На нем не было и следа только что пролитых слез… — Теперь мне, как говорится, море по колено! — бормотала она, идя со мной к дому и судорожно сжимая мой локоть. — Утром я не знала, куда деваться от ужаса, а сейчас… сейчас, мой хороший великан, я не знаю, куда деваться от счастья! Там сидит и ждет меня муж… Ха-ха! Мне-то что? Хоть бы он даже был крокодил, страшная змея… ничего не боюсь! Я тебя люблю и знать ничего не хочу. Я поглядел на ее пылавшее счастьем лицо, на глаза, полные счастливой, удовлетворенной любви, и сердце мое сжалось от страха за будущее этого хорошенького, счастливого существа: любовь ее ко мне была только лишним толчком в пропасть… Чем кончит эта смеющаяся, не думающая о будущем женщина?.. Сердце мое сжалось и перевернулось от чувства, которое нельзя назвать ни жалостью, ни состраданием, потому что оно было сильнее этих чувств. Я остановился и взял Ольгу за плечо… Никогда в другое время я не видел ничего прекраснее, грациознее и в то же время жалче… Некогда было рассуждать, рассчитывать, думать, и я, охваченный чувством, сказал: — Сию минуту едем ко мне, Ольга! Сейчас же! — Как? Что ты сказал? — спросила она, не поняв моего несколько торжественного тона… — Едем немедленно ко мне! Ольга улыбнулась и показала мне на дом… — Ну так что же? — сказал я. — Сегодня ли я возьму тебя или завтра — не всё ли равно? Но чем раньше, тем лучше… Идем! — Но… это как-то странно… — Ты, девочка, боишься скандала?.. Да, скандал будет необыкновенный, грандиозный, но лучше тысяча скандалов, чем оставаться тебе здесь! Я тебя здесь не оставлю! Я не могу тебя здесь оставить! Понимаешь, Ольга? Оставь твое малодушие, твою женскую логику и слушайся! Слушайся, если не желаешь своей гибели! Глаза Ольги говорили, что она меня не понимала… А время между тем не ждало, шло своим чередом, и стоять нам в аллее в то время, когда нас там ждали, было некогда. Нужно было решать… Я прижал к себе «девушку в красном», которая фактически была теперь моей женой, и в эти минуты мне казалось, что я действительно люблю ее, люблю любовью мужа, что она моя и судьба ее лежит на моей совести… Я увидел, что я связан с этим созданьем навеки, бесповоротно. — Послушай, моя дорогая, мое сокровище! — сказал я. — Шаг этот смел… Он рассорит нас с близкими людьми, вызовет на наши головы тысячи попреков, слезных жалоб. Он, быть может, даже испортит мою карьеру, причинит мне тысячи непроходимых неудобств, но, милая моя, решено! Ты будешь моей женой… Лучшей жены мне не нужно, да и бог с ними, с этими женщинами! Я сделаю тебя счастливой, буду хранить тебя, как зеницу ока, пока жив буду, я воспитаю тебя, сделаю из тебя женщину! Обещаю тебе это, и вот тебе моя честная рука! Я говорил с искренним увлечением, с чувством, как jeune premier[143], исполняющий самое патетическое место в своей роли… Говорил я прекрасно, и недаром похлопала мне крыльями пролетевшая над нашими головами орлица. А моя Оля взяла мою протянутую руку, подержала ее в своих маленьких руках и с нежностью поцеловала. Но это не было знаком согласия… На глупеньком личике неопытной, никогда ранее не слышавшей речей женщины выражалось недоумение… Она всё еще продолжала не понимать меня. — Ты говоришь, идти к тебе… — проговорила она, думая… — Я тебя не совсем понимаю… Разве ты не знаешь, что скажет он? — Да какое тебе дело до того, что он скажет? — Как какое? Нет, Сережа, и не говори лучше… Оставь это, пожалуйста… Ты меня любишь, и больше мне ничего не нужно. С твоей любовью хоть в аду жить… — Но как же ты будешь, дурочка? — Я буду жить здесь, а ты… будешь приезжать каждый день… Я буду выходить тебя встречать. — Но я без содрогания не могу представить себе этой твоей жизни!.. Ночью — он, днем — я… Нет, это невозможно! Оля, я так люблю тебя в настоящую минуту, что… я даже безумно ревнив… Я даже и не подозревал за собой способности на такие чувства… Но какая неосторожность! Я держал ее за талию, а она нежно гладила мою руку в то время, когда во всякую минуту можно было ждать, что кто-нибудь пройдет по аллее и увидит нас. — Идем, — сказал я, отдергивая свои руки. — Оденься и едем! — Но как ты всё это скоро… — промычала она плаксивым голосом. — Спешишь, словно на пожар… И бог знает что выдумал! Убежать сейчас же после венца! Что люди скажут! И Оленька пожала плечами. На лице ее было столько недоумения, удивления и непонимания, что я махнул рукой и отложил решение ее «жизненного вопроса» до следующего раза. Да и некогда уже было продолжать нашу беседу: мы всходили по каменным ступеням террасы и слышали людской говор. Перед дверью в столовую Оля поправила свою прическу, оглядела платье и вошла. На лице ее не заметно было смущения. Вошла она, сверх ожидания моего, очень храбро. — Возвращаю вам, господа, беглянку, — сказал я, входя и садясь на свое место. — Насилу нашел… Даже утомился… Выхожу в сад, смотрю, а она изволит прохаживаться по аллее… «Зачем вы здесь?» — спрашиваю… — «Да так, говорит, душно!..» Оля поглядела на меня, на гостей, на мужа… и захохотала. Ей стало вдруг смешно, весело. На лице ее я прочел желание поделиться со всей этой обедающей толпой своим внезапно набежавшим на нее счастьем, и, не имея возможности передать его на словах, она вылила его в своем смехе. — Какая я смешная! — сказала она. — Хохочу и сама не знаю, чего хохочу… Граф, смейтесь! — Горько! — крикнул Калинин. Урбенин кашлянул и поглядел вопросительно на Олю. — Ну? — спросила она, на секунду нахмурив брови. — Кричат-с — «горько», — ухмыльнулся Урбенин, поднимаясь и вытирая салфеткой губы. Ольга поднялась и дала ему поцеловать себя в неподвижные губы… Поцелуй этот был холоден, но еще более он поджег костер, тлевший в моей груди и готовый каждую минуту вспыхнуть пламенем… Я отвернулся и, стиснув губы, стал ждать конца обеда… Конец этот наступил, к счастью, скоро, иначе бы я не выдержал… — Поди сюда! — сказал я грубо, подходя после обеда к графу. Граф с удивлением поглядел на меня и последовал за мной в пустую комнату, куда я повел его… — Что тебе нужно, дружочек? — спросил он, расстегивая жилетку и отрыгнув… — Выбирай кого-нибудь из двух… — сказал я, едва держась на ногах от охватившего меня гнева. — Или я, или Пшехоцкий! Если ты не обещаешь мне, что через час этот подлец оставит твою деревню, я к тебе более ни ногой!.. Даю тебе на ответ полминуты! Граф выронил изо рта сигару и расставил руки… — Что с тобой, Сережа? — спросил он, делая большие глаза. — На тебе лица нет! — Без лишних слов, пожалуйста! Я не выношу шпиона, негодяя, подлеца и друга твоего Пшехоцкого и во имя наших хороших с тобой отношений требую, чтоб его не было здесь сейчас же! — Но что он тебе сделал? — встревожился граф. — За что ты на него так нападаешь? — Я тебя спрашиваю: я или он? — Но, голубчик, ты ставишь меня в ужасно щекотливое положение… Постой, у тебя на фраке перышко… Ты требуешь от меня невозможного! — Прощай! — сказал я. — Я с тобой больше незнаком. И, круто повернувшись, я пошел в переднюю, оделся и быстро вышел. Проходя через сад в людскую кухню, где я хотел приказать запрячь мне лошадь, я был остановлен встречей… Навстречу мне с маленькой чашечкой кофе шла Надя Калинина. Она тоже была на свадьбе Урбенина, но какой-то неясный страх заставлял меня избегать с ней разговора, и за весь день я ни разу не подошел к ней и не сказал с нею ни одного слова… — Сергей Петрович! — сказала она неестественно низким голосом, когда я прошел мимо нее и слегка приподнял шляпу. — Постойте! — Что прикажете? — спросил я, подходя к ней. — Приказывать мне нечего… да вы и не лакей, — сказала она, глядя мне в упор в лицо и страшно бледнея. — Вы куда-то спешите, но если вам не к спеху, можно задержать вас на минуту? — Конечно… Я не знаю даже, зачем вы спрашиваете… — В таком случае сядемте… Вы, Сергей Петрович, — продолжала она, когда мы сели, — сегодня вы всё время старались не замечать меня, обходили, словно боялись встретиться, а как нарочно сегодня-то я и порешила поговорить с вами… Я горда и самолюбива… не умею навязываться встречей… но раз в жизни можно пожертвовать гордостью. — О чем вы это? — Я порешила сегодня спросить вас… Вопрос унизительный, тяжелый для меня… не знаю, как и перенесу… Вы отвечайте, не глядя на меня… Неужели вам не жаль меня, Сергей Петрович? Надя поглядела на меня и слабо покачала головой. Лицо ее еще более побледнело, верхняя губа задрожала и покривилась… — Сергей Петрович! Мне всё кажется, что вас… отделило от меня какое-то недоразумение, каприз… Мне кажется, что выскажись мы — и всё пойдет по-старому… Если бы мне так не казалось, то у меня не хватило бы решимости задать вам вопрос, который вы сейчас услышите… Я, Сергей Петрович, несчастна… Вы должны это видеть… Жизнь моя не в жизнь… Вся высохла… А главное — какая-то неопределенность: не знаешь, надеяться или нет… Поведение ваше по отношению ко мне так непонятно, что невозможно вывести никакого определенного заключения… Скажите мне, и я буду знать, что мне делать… Тогда моя жизнь получит хотя какое-нибудь направление… Я тогда решусь на что-нибудь… — Вы хотите, Надежда Николаевна, спросить меня о чем-то, — сказал я, готовя мысленно ответ на вопрос, который предчувствовал. — Да, я хочу спросить… Вопрос унизительный… Если кто подслушает, то подумает, что я навязываюсь, словно… пушкинская Татьяна… Но это вымученный вопрос… Действительно, вопрос был вымученный. Когда Надя повернула ко мне лицо, чтобы задать этот вопрос, я испугался: Надя дрожала, судорожно сжимала свои пальцы и с тоскливой медленностью выжимала из себя роковое слово. Ее бледность была страшна. — Могу я надеяться? — прошептала она наконец. — Вы не бойтесь говорить прямо… Какой бы ни был ответ, но он лучше неопределенности. Так как же? Могу я надеяться? Она ждала ответа, а между тем настроение моего духа было таково, что я не был способен на разумный ответ. Пьяный, взволнованный случаем в пещере, взбешенный шпионством Пшехоцкого и нерешительностью Ольги, переживший глупую беседу с графом, я едва слушал Надю. — Могу я надеяться? — повторила она. — Отвечайте же! — Ах, мне не до ответов, Надежда Николаевна! — махнул я рукой, поднимаясь. — Я неспособен давать теперь какие бы то ни было ответы. Простите меня, но я вас не слышал и не понял. Я глуп и взбешен… Напрасно только вы и беспокоились, право. Я еще раз махнул рукой и оставил Надю. Только впоследствии, придя в себя, я понял, как глуп и жесток я был, не дав девушке ответа на ее простой, незамысловатый вопрос… Отчего я не ответил? Теперь, когда я могу глядеть беспристрастно на прошлое, я не объясняю свою жестокость состоянием души… Мне сдается, что, не давая ей ответа, я кокетничал, ломался. Трудно понять человеческую душу, но душу свою собственную понять еще трудней. Если действительно я ломался, то да простит мне бог! Хотя, впрочем, издевательство над чужими страданиями не должно быть прощаемо. Три дня ходил я из угла в угол, как волк в клетке, и всеми силами своей недюжинной воли старался не пускать себя из дому. Я не касался груды бумаг, лежавших на столе и терпеливо ожидавших моего внимания, никого не принимал, бранился с Поликарпом, раздражался… Я не пускал себя в графскую усадьбу, и это упорство стоило мне сильной нервной работы. Я тысячу раз брался за шляпу и столько же раз бросал ее… То я решался пренебречь всем на свете и ехать к Ольге во что бы то ни стало, то окачивал себя холодом решения сидеть дома… Рассудок мой был против поездки в графскую усадьбу. Раз я поклялся графу не бывать у него, мог ли я жертвовать своим самолюбием, гордостью? Что бы подумал этот усатый фат, если бы я, после того нашего глупого разговора, отправился к нему, как ни в чем не бывало? Не значило бы это сознаться в своей неправоте?.. Далее, как честный человек, я должен был бы порвать всякие сношении с Ольгой. Наша дальнейшая связь не могла бы ей дать ничего, кроме гибели. Выйдя замуж за Урбенина, она сделала ошибку, сойдясь же со мной, она ошиблась в другой раз. Живя с мужем-стариком и имея в то же время тайком от него любовника, не походила бы она на развратную куклу? Не говоря уже о том, как мерзка в принципе подобная жизнь, нужно было подумать и о последствиях. Какой я трус! Я боялся и последствий, и настоящего, и прошлого… Обыкновенный человек посмеется над моими рассуждениями. Он не ходил бы из угла в угол, не хватал бы себя за голову и не строил бы всевозможных планов, а предоставил бы всё жизни, которая мелет в муку даже жёрновы. Жизнь переварила бы всё, не спрашивая ни его помощи, ни позволения… Но я мнителен до трусости… Ходил я из угла в угол, болел от сострадания к Ольге и в то же время ужасался мысли, что она поймет мое предложение, которое сделал я ей в минуты увлечения, и явится ко мне в дом, как обещал я ей, навсегда! Что было бы, если бы она послушалась меня и пошла за мной? Как долго продолжалось бы это «навсегда», и что дала бы бедной Ольге жизнь со мною? Я не дал бы ей семьи, а стало быть, не дал бы и счастья. Нет, не следовало мне ехать к Ольге! А между тем душа моя неистово рвалась к ней… Я тосковал, как впервые влюбившийся мальчишка, которого не пускают на rendez-vous.[144] Искушенный происшествием в пещере, я жаждал нового свидания, и из головы моей ни на минуту не выходил вызывающий образ Ольги, которая, как я знал, тоже ждала меня и изнывала от тоски… Граф слал письмо за письмом, одно другого плачевнее и унизительнее… Он умолял меня «забыть всё» и приехать, извинялся за Пшехоцкого, просил простить этого «доброго, простого, но несколько ограниченного человека», удивлялся, что я из-за пустяков решаюсь прервать старинные дружеские отношения. В одном из последних писем он обещался сам приехать и, если я пожелаю, привезти с собою Пшехоцкого, который попросит у меня извинения, «хотя и не чувствует за собой никакой вины». Я читал письма и в ответ на них просил каждого посланного оставить меня в покое. Умел я ломаться! И в самый разгар моей нервной работы, когда я, стоя у окна, решал уже уехать куда-нибудь, помимо графской усадьбы, терзал себя рассуждениями, самопопреками и представлениями картин любви, которые ожидали меня у Ольги, моя дверь тихо отворилась, сзади меня послышались легкие шаги, и скоро шею мою обвивали две маленькие, хорошенькие руки… — Это ты, Ольга? — спросил я, оглядываясь. Я узнал ее по ее горячему дыханию, по манере, с которой она повисла на моей шее, и даже по запаху. Припав своей головкой к моей щеке, она казалась мне необыкновенно счастливой… От счастья она не могла выговорить ни слова… Я прижал ее к груди, и — куда девались тоска и вопросы, мучившие меня целых три дня! Я от удовольствия захохотал и запрыгал, как школьник. Ольга была в голубом шёлковом платье, которое очень шло к ее бледному цвету лица и роскошным льняным волосам. Платье это было модно и ужасно дорого. Урбенину стоило оно, вероятно, четверти годового жалованья… — Какая ты хорошенькая сегодня!.. — сказал я, поднимая Ольгу на руки и целуя ее в шею. — Ну, что? Как? Здорова? — Как, однако, у тебя здесь нехорошо! — проговорила она, окидывая взглядом мой кабинет. — Богатый человек, жалованье большое получаешь, а как… просто живешь! — Не всем же, душа моя, жить так роскошно, как граф, — сказал я. — Но оставим в покое мое богатство. Какой добрый гений занес тебя в мою берлогу? — Постой, Сережа, ты помнешь мне мое платье… Опусти меня наземь… К тебе я, голубчик, на минутку! Дома я всем сказала, что поеду к Акатьихе, графской прачке, что тут живет недалеко, за три дома от тебя… Ты меня отпусти, голубчик, а то неловко… Почему ты не приезжал так долго? Я ответил что-то, посадил ее против себя и занялся созерцанием ее красоты… Минуту мы глядели друг на друга и молчали… — Ты очень хорошенькая, Оля! — вздохнул я. — Даже жаль и обидно, что ты такая хорошенькая! — Почему же жаль? — Досталась чёрт знает кому. — Но чего же тебе еще! Ведь я твоя! Пришла вот… Послушай, Сережа… Ты мне правду скажешь, если тебя спрошу? — Конечно, правду. — Ты женился бы на мне, если бы я не вышла за Петра Егорыча? «Вероятно, нет», — хотелось мне сказать, но к чему было ковырять и без того уж больную ранку, мучившую сердце бедной Оли? — Конечно, — сказал я тоном человека, говорящего правду. Оля вздохнула и потупилась… — Как я ошиблась, как ошиблась! И что хуже всего, нельзя поправить! Развестись ведь с ним нельзя? — Нельзя… — И к чему я спешила, не понимаю! Мы, девушки, так глупы и ветрены… Бить нас некому! Впрочем, не воротишь, и рассуждать тут нечего… Ни рассуждения, ни слезы не помогут. Я, Сережа, сегодня всю ночь плакала! Он тут… около лежит, а я про тебя думаю… спать не могу… Хотела даже бежать ночью, хоть в лес к отцу… Лучше жить у сумасшедшего отца, чем с этим… как его… — Рассуждения, Оля, не помогут… Нужно было тогда рассуждать, когда ты ехала со мной из Тенева и радовалась, что выходишь за богатого человека… Теперь же поздно упражняться в красноречии… — Поздно… но так тому и быть! — сказала Оля, решительно махнув рукой. — Лишь бы только хуже не было, а то еще можно жить… Прощай! Пора уж идти… — Нет, не прощай… Я привлек к себе Олю и стал осыпать ее лицо поцелуями, словно стараясь вознаградить себя за утерянные три дня. Она жалась ко мне, как озябший барашек, грела мое лицо своим горячим дыханием… Наступила тишина… — Муж убил свою жену! — гаркнул мой попугай… Оля вздрогнула, высвободилась из моих объятий и вопросительно поглядела на меня… — Это попугай, душа моя… — сказал я. — Успокойся… — Муж убил свою жену! — повторил Иван Демьяныч. Оля поднялась, молча надела шляпу и подала мне руку… На лице ее был написан испуг… — А что, если Урбенин узнает? — спросила она, глядя на меня большими глазами. — Ведь он убьет меня! — Ну, полно… — засмеялся я. — Хорош был бы я, если бы позволил ему убить тебя! Да едва ли он способен на такое необыкновенное дело, как убийство… Ты уходишь? Ну, прощай же, дитя мое… Жду… Завтра буду в лесу около домика, где ты жила… Встретимся… Проводивши Ольгу и воротясь в кабинет, я встретил там Поликарпа. Он стоял посреди комнаты, сурово глядел на меня и презрительно покачивал головой… — Чтобы в другой раз у меня этого не было, Сергей Петрович! — сказал он тоном строгого родителя. — Я этого не желаю… — Чего это? — Того самого… Вы думаете, я не видел? Всё видел… Чтоб она не смела сюда ходить! Нечего тут шуры-муры заводить! На это другие места есть… Я был в великолепнейшем настроении духа, а потому шпионство и менторский тон Поликарпа не рассердили меня. Я засмеялся и услал его в кухню. Не успел я еще опомниться после посещения Ольги, как ко мне пожаловал новый гость. К моей квартире подъехала с шумом карета, и Поликарп, плюя по сторонам и бормоча ругательства, доложил мне о приезде «тово… энтого, чтоб его…», т. е. графа, которого он ненавидел всеми силами своей души. Граф вошел, слезливо поглядел на меня и покачал головой… — Ты отворачиваешься… Не хочешь говорить… — Я не отворачиваюсь, — сказал я. — Я так любил тебя, Сережа, а ты… из-за пустяка! За что ты меня оскорбляешь? За что? Граф сел, вздохнул и покачал голевой… — Ну, будет тебе дурака ломать! — сказал я. — Ладно! Сильно было мое влияние над этим слабым, тщедушным человечишкой, так же сильно, как и презрение к нему… Мой презрительный тон не оскорбил его, а напротив… Услышав мое «ладно», он вскочил и принялся обнимать меня… — Я привез его с собой… Он сидит в карете… хочешь, чтоб он перед тобой извинился? — А ты знаешь его вину? — Нет… — И отлично. Пусть не извиняется, но только предупреди его, что если случится впредь еще раз что-либо подобное, то я уж кипятиться не стану, а приму меры. — Стало быть, мир, Сережа? И отлично! Так бы и давно, а то чёрт знает из-за чего поссорились! Словно институтки! Ах, да, голубчик! Нет ли у тебя… полрюмки водки? Ужасно пересохло в горле! Я приказал подать водки. Граф выпил две рюмки, развалился на диване и стал болтать. — Сейчас я, брат, встретился с Олей… Чудо женщина! Надо тебе сказать, что я начинаю ненавидеть Урбенина… Это значит, что Оленька начинает мне нравиться… Чертовски хорошенькая! Я думаю приволокнуться за ней. — Не следует трогать замужних! — вздохнул я. — Ну, у старика… У Петра-то Егорыча не грех его супругу подтибрить… Она ему не пара… Он, как собака: и сам не трескает и другим не дает… Сегодня же начну свои приступы и начну систематически… Такая душонка… гм… просто шик, братец! Пальчики оближешь! Граф выпил третью рюмку и продолжал: — Знаешь, кто мне еще нравится из здешних?.. Наденька, дочка этого дурака Калинина… Жгучая брюнетка, бледная, знаешь, с этакими глазами… Тоже нужно будет удочку закинуть… На Троицу делаю вечер… музыкально-вокально-литературный… нарочно, чтоб ее позвать… А здесь, брат, как оказывается, ничего себе, весело! И общество, и женщины… и… Можно у тебя здесь уснуть… на минутку?.. — Можно… Но как же Пшехоцкий с каретой? — Пусть ждет, чёрт с ним!.. Я сам, брат, его не люблю. Граф приподнялся на локоть и проговорил таинственно: — Держу только по необходимости… по нужде… Ну, да чёрт с ним! Локоть графа подвернулся, и голова упала на подушку. Через минуту послышался храп. Вечером, когда граф уехал, у меня был третий гость: доктор Павел Иванович. Он приезжал известить меня о болезни Надежды Николаевны и о том, что она… окончательно отказала ему в своей руке. Бедняга был печален и походил на мокрую курицу. Прошел поэтический май… Отцвели сирень и тюльпаны, а с ними суждено было отцвести и восторгам любви, которая, несмотря на свою преступность и мучительность, все-таки изредка доставляла нам сладкие минуты, не изгладимые из памяти. А бывают минуты, за которые можно отдать месяцы и годы! В один из июньских вечеров, когда солнце уже зашло, но широкий след его — багрово-золотистая полоса еще красила далекий запад и пророчила назавтра тихий и ясный день, я подъехал на Зорьке к флигелю, в котором жил Урбенин. В этот вечер у графа предполагался «музыкальный» вечер. Гости уже начали съезжаться, но графа не было дома: он поехал кататься и обещал скоро вернуться. Немного погодя я, держа свою лошадь за повод, стоял у крылечка и беседовал с дочкой Урбенина, Сашей. Сам Урбенин сидел на ступеньке и, подперев кулаками голову, всматривался в даль, которую видно было в ворота. Он был угрюм, неохотно отвечал на мои вопросы. Я оставил его в покое и занялся Сашей. — Где твоя новая мама? — спросил я ее. — Поехала с графом кататься. Она каждый день с ним ездит. — Каждый день, — пробормотал Урбенин, вздохнув. Многое слышалось в этом вздохе. Слышалось в нем то же самое, что волновало и мою душу, что старался я объяснить себе, но не мог объяснить и терялся в догадках. Каждый день Ольга ездила с графом кататься верхом. Но это пустяки. Ольга не могла полюбить графа, и ревность Урбенина была неосновательна. Ревновать должны были мы не к графу, а к чему-то другому, чего я не мог понять так долго. Это «что-то другое» стало между мной и Ольгой целой стеной. Она продолжала любить меня, но после того посещения, которое было описано в предыдущей главе, она была у меня еще не более двух раз, а встречаясь со мной вне моей квартиры, как-то странно вспыхивала и настойчиво уклонялась от ответов на мои вопросы. На мои ласки она отвечала горячо, но ответы ее были так порывисты и пугливы, что от наших коротких рандеву оставалось в моей памяти одно только мучительное недоумение. Совесть у нее была нечиста — это было ясно, но в чем именно — нельзя было прочесть на виноватом лице Ольги. — Надеюсь, твоя новая мама здорова? — спросил я Сашу. — Здолова. Но только ноцью у нее зубы болели. Она плакала. — Плакала? — повернул Урбенин свое лицо к Саше. — Ты видела? Это тебе, милочка, приснилось. Зубы у Ольги не болели. Если она плакала, то не от боли, а от чего-то другого… Я еще хотел поговорить с Сашей, но это мне не удалось, потому что послышался лошадиный топот, и скоро мы увидели всадника, некрасиво прыгавшего на седле, и грациозную амазонку. Чтобы скрыть от Ольги свою радость, я поднял на руки Сашу и, перебирая пальцами ее белокурые волосы, поцеловал ее в голову. — Какая ты хорошенькая, Саша! — сказал я. — Какие у тебя славные кудряшки! Ольга мельком взглянула на меня, молча ответила на мой поклон и, опираясь о руку графа, вошла во флигель. Урбенин поднялся и пошел за ней. Минут через пять из флигеля вышел граф. Он был весел как никогда. Даже лицо его казалось посвежевшим. — Поздравь! — сказал он, беря меня под руку и хихикая. — С чем? — С победой… Еще одна такая поездка, и, клянусь прахом моих благородных предков, с этого цветка я сорву лепестки. — Но пока еще не сорвал? — Пока?.. Чуть-чуть! В продолжение десяти минут «твоя рука в моей руке», — запел граф[145], — и… ни разу не отдернула ручки… Зацеловал! Но подождем до завтра, а теперь идем. Меня ждут. Ах, да! Мне нужно поговорить с тобой, голубчик, об одной вещи. Скажи мне, милый, правду ли говорят, что ты тово… питаешь злостные намерения относительно Наденьки Калининой? — А что? — Если это правда, то мешать тебе я не стану. Подставлять другому ножку не в моих правилах. Если же ты никаких видов не имеешь, то, конечно… — Не имею. — Merci, душа моя! Граф мечтал убить сразу двух зайцев, вполне уверенный, что это ему удастся. И я в описываемый вечер наблюдал погоню за этими зайцами. Погоня была глупа и смешна, как хорошая карикатура. Глядя на нее, можно было только смеяться или возмущаться пошлостью графа; но никто бы не мог подумать, что эта мальчишеская погоня кончится нравственным падением одних, гибелью других и преступлением третьих! Граф убил не двух зайцев, а больше! Он их убил, но шкура и мясо достались не ему. Я видел, как он тайком пожимал руку Ольге, всякий раз встречавшей его дружеской улыбкой, а провожавшей презрительной гримасой. Раз даже, желая показать, что между им и мною нет тайн, он поцеловал ее руку при мне. — Какой болван! — прошептала она мне на ухо, вытирая свою руку. — Послушай, Ольга! — сказал я по уходе графа. — Мне кажется, что тебе хочется что-то сказать мне. Хочется? Я пытливо взглянул на ее лицо. Она вспыхнула и пугливо замигала глазами, как кошка, пойманная в воровстве. — Ольга, — сказал я строго, — ты должна сказать мне! Я этого требую! — Да, я хочу тебе кое-что сказать, — зашептала она, сжимая мне руку. — Я тебя люблю, жить без тебя не могу, но… не езди ко мне, милый мой! Не люби меня больше и говори мне «вы». Я не могу уж продолжать… Нельзя… И не показывай даже виду, что ты меня любишь. — Но почему же? — Я так хочу. Причины знать тебе не нужно, и я их не скажу. Идут… Отойди от меня. Я не отошел от нее, и ей самой пришлось прекратить наш разговор. Взяв под руку шедшего мимо мужа, она с лицемерной улыбкой кивнула мне головой и ушла. Другой графский заяц — Наденька Калинина удостоилась в этот вечер особенного графского внимания. Он вертелся возле нее весь вечер, рассказывал ей анекдоты, острил, кокетничал… а она, бледная, замученная, кривила свой рот в насильственную улыбку. Мировой Калинин всё время наблюдал за ними, поглаживал бороду и значительно кашлял. Ухаживанье графа было ему по нутру. У него зятем граф! Что может быть слаще этой мечты для уездного бонвивана? После того, как начались ухаживанья графа за его дочерью, он вырос в своих глазах на целый аршин. А какими величественными взглядами измерял он меня, как ехидно покашливал, когда беседовал со мною! «Ты вот, мол, поцеремонился, ушел, а мы — наплевать! — Теперь у нас граф есть!» На другой день вечером я опять был в графской усадьбе. На этот раз я беседовал не с Сашей, а с ее братом-гимназистом. Мальчик повел меня в сад и вылил передо мной всю свою душу. Излияния эти были вызваны моим вопросом о житье его с «новой мамашей». — Она ваша хорошая знакомая, — начал он, нервно расстегивая свой мундирчик, — вы ей расскажете, но я не боюсь… Рассказывайте, сколько угодно! Она злая, низкая! И он рассказал мне, что Ольга отняла у него комнату, прогнала старуху-няню, служившую у Урбенина десять лет, вечно кричит и злится. — Вчера вы похвалили волосы сестры Саши… Ведь хорошие волосы? Настоящий лен! А она сегодня утром остригла ее! «Это ревность!» — объяснил я себе это вторжение Ольги в чуждую ей парикмахерскую область… — Ей словно завидно стало, что вы похвалили не ее волосы, а Сашины! — подтвердил мальчик мою мысль. — Она и папашу замучила. Папаша страшно тратится на нее, отрывается от дела… и опять начал пить! Опять! Она дурочка… Весь день плачет, что ей приходится жить в бедности, в таком маленьком флигеле. А разве папаша виноват, что у него не много денег? — Мальчик рассказал мне много печального. Он видел то, чего не видел или не хотел видеть его ослепленный отец. У бедняжки был оскорблен отец, оскорблены были сестра, старуха-няня. У него отняли его маленький очаг, где он привык возиться над установкой своих книжек и кормежкой пойманных им щеглят. Всё было обижено, над всем посмеялась глупая и полновластная мачеха! Но бедному мальчику не могло и присниться то страшное оскорбление, которое было нанесено молодой мачехой его семье и свидетелем которого я был в тот же вечер, после разговора с ним. Всё меркло перед этим оскорблением, и остриженные волосы Саши в сравнении с ним являются ничтожным пустяком. Поздно вечером я сидел у графа. Мы, по обыкновению, пили. Граф был совершенно пьян, я же только слегка. — Сегодня мне уже позволили нечаянно коснуться талии, — бормотал он. — Завтра, стало быть, начнем еще дальше. — Ну, а Надя? С Надей как? — Шествуем! С нею пока только начало. Переживаем пока еще период разговора глазами. Я брат, люблю читать в ее черных, печальных глазах. В них что-то написано этакое, чего на словах не передашь, а можешь понять только душой. Выпьем? — Стало быть, ты ей нравишься, если она имеет терпение беседовать с тобой по целым часам. И папаше ее нравишься. — Папаше? Это ты про того болвана? Ха-ха! Дуралей подозревает во мне честные намерения! Граф закашлялся и выпил. — Он думает, что я женюсь! Не говорю уж о том, что мне нельзя жениться, но если честно рассуждать, то для меня лично честнее обольстить девушку, чем жениться на ней… Вечная жизнь с пьяным, кашляющим полустариком — бррр! Жена моя зачахла бы или убежала бы на другой день… Но что это за шум? Мы с графом вскочили… Захлопали почти одновременно несколько дверей, и к нам в комнату вбежала Ольга. Она была бледна, как снег, и дрожала, как струна, по которой сильно ударили. Волосы ее были распущены, зрачки расширены. Она задыхалась и мяла между пальцами грудные сборки своего ночного пеньюара… — Ольга, что с тобой? — спросил я, хватая ее за руку и бледнея. Графа должно было удивить это нечаянно пророненное «тобой», но его он не слыхал. Весь обратившийся в большой вопросительный знак, раскрыв рот и выпуча глаза, он глядел на Ольгу, как на привидение. — Что случилось? — спросил я. — Он бьет меня! — проговорила Ольга и, зарыдав, упала в кресла. — Он бьет! — Кто он? — Муж! Я не могу с ним жить! Я ушла! — Это возмутительно! — стукнул граф кулаком по столу. — Какое он имеет право! Это тирания… это… это чёрт знает что такое! Бить жену?! Бить! За что это он вас? — Ни за что ни про что, — заговорила Оля, утирая слезы. — Вынимаю я из кармана носовой платок, а из кармана и выпало то письмо, что вы мне вчера прислали… Он подскочил, прочел и… стал бить… Схватил меня за руку, сдавил — посмотрите, до сих пор на руке красные пятна, — и потребовал объяснений… Я, вместо того чтоб объяснять, прибежала сюда… Хоть вы заступитесь! Он не имеет права обращаться так грубо с женой! Я не кухарка! Я дворянка! Граф заходил из угла в угол и стал молоть пьяным, путающимся языком какую-то чушь, которая, в переводе на трезвый язык, должна была бы означать: «О положении женщин в России». — Это варварство! Это Новая Зеландия! Не думает ли также этот мужик, что на его похоронах будет зарезана его жена? Дикари ведь, уходя на тот свет, берут с собой и своих жен!.. Я же не мог опомниться… Как нужно было понять внезапный визит Ольги в ночном пеньюаре, что нужно было думать, что решить? Если ее побили, если оскорбили ее достоинство, то почему она бежала не к отцу, не к экономке… наконец, не ко мне, который для нее был все-таки близок? Да и впрямь ли ее оскорбили? Сердце мое говорило о невинности простака Урбенина; оно, чуя правду, сжималось тою болью, которую в это время должен был чувствовать ошеломленный муж. Не задавая вопросов и не зная, с чего начать, я стал успокоивать Ольгу и предложил ей вина. — Как я ошиблась! Как ошиблась! — вздохнула она сквозь слезы, поднося рюмку к губам. — А ведь каким тихоней прикидывался он, когда ухаживал за мной! Я думала, что это ангел, а не человек! — А вы хотели, чтоб ему понравилось то письмо, которое выпало из кармана? — спросил я. — Хотели, чтоб он расхохотался? — Не будем об этом говорить! — перебил меня граф. — Как бы там ни было, а его поступок подл! С женщинами так не обращаются! Я его на дуэль вызову! Я ему покажу! Верьте, Ольга Николаевна, что это не пройдет ему даром! Граф хорохорился, как молодой индюк, хотя его никто не уполномочивал становиться между мужем и женой. Я молчал и не противоречил ему, потому что знал, что мщение за чужую жену ограничится одним только пьяным словоизвержением в четырех стенах и что о дуэли будет забыто завтра же. Но почему молчала Ольга?.. Не хотелось думать, что она была не прочь от услуг, которые предлагал ей граф. Не хотелось верить, что у этой глупой красивой кошки было так мало достоинства, что она охотно согласится, чтобы пьяный граф стал судьею мужа и жены… — Я его с грязью смешаю! — провизжал новоиспеченный рыцарь. — Наконец я ему пощечину дам! Завтра же! И она не зажала рта этому прохвосту, оскорблявшему спьяна человека, который был виноват только в том, что обманулся и был обманут! Урбенин сдавил сильно ей руку, и это вызвало скандальный побег в графский дом, теперь же на ее глазах пьяный нравственный недоросль давил честное имя и лил грязными помоями на человека, который в это время должен был изнывать от тоски и неизвестности, сознавать себя обманутым, а она хоть бы бровью двинула! Пока граф изливал свой гнев, а Ольга утирала слезы, человек подал жареных куропаток. Граф положил гостье полкуропатки… Она отрицательно покачала головой, потом же как бы машинально взяла вилку и нож и начала есть. За куропаткой следовала большая рюмка вина, и скоро от слез не осталось никакого следа, кроме розовых пятен около глаз да редких глубоких вздохов. Скоро мы услышали смех… Ольга смеялась, как утешенное, забывшее обиду дитя. Граф, глядя на нее, тоже смеялся. — Знаете, что я надумал? — начал он, подсаживаясь к ней. — Я хочу устроить у себя любительский спектакль. Дадим пьесу с хорошими женскими ролями. А? Как вы думаете? Начали говорить в любительском спектакле. Как эта глупая беседа не вязалась с тем недавним ужасом, который был написан на лице Ольги, когда она вбежала час тому назад, бледная, плачущая, с распущенными волосами! Как дешевы этот ужас, эти слезы! А время между тем шло. Пробило двенадцать. Порядочные женщины в эту пору ложатся спать. Ольге пора уже была уходить. Но пробило половину первого, пробило час, а она всё сидела и беседовала с графом. — Пора уже спать, — сказал я, взглянув на часы. — Я ухожу… Вы позволите проводить вас, Ольга Николаевна? Ольга поглядела на меня, на графа. — Куда же я пойду? — прошептала она. — К нему я не могу идти. — Да, да, конечно, к нему вы уже не можете идти, — сказал граф. — Кто поручится, что он не побьет вас еще раз? Нет, нет! Я прошелся по комнате. Наступила тишина. Я ходил из угла в угол, а мой друг и моя любовница следили за моими шагами. Мне казалось, что я понимал и эту тишину и эти взгляды. В них было что-то выжидательное, нетерпеливое. Я положил шляпу и сел на диван. — Тэк-с, — бормотал граф, нетерпеливо потирая руки. — Тэк-с… Такие-то дела… Пробило половину второго. Граф быстро взглянул на часы, нахмурился и зашагал по комнате. По взглядам, которые он бросал на меня, видно было, что ему хотелось что-то сказать мне, что-то нужное, но щекотливое, неприятное. — Послушай, Сережа! — решился он наконец, садясь рядом со мной и шепча мне на ухо. — Ты, голубчик, не обижайся… Ты, конечно, поймешь мое положение, и тебе не покажется странной и дерзкой моя просьба. — Говори поскорее! Нечего мочалу жевать! — Видишь ли, в чем дело… тово… Уйди, голубчик! Ты нам мешаешь… Она у меня останется… Ты меня извини за то, что я тебя гоню, но… ты поймешь мое нетерпение. — Ладно. Друг мой был отвратителен. Не будь я брезглив, я, быть может, раздавил бы его, как жука, когда он, трясясь, как в лихорадке, просил меня оставить его с Урбениной. Поэтическую «девушку в красном», мечтавшую об эффектной смерти, воспитанную лесами и сердитым озером, хотел взять он, расслабленный анахорет, пропитанный насквозь спиртом и больной! Нет, она не должна быть даже за версту от него! Я подошел к ней. — Я ухожу, — сказал я. Она кивнула головой. — Мне уйти отсюда? Да? — спросил я, стараясь прочесть истину на ее хорошеньком, разгоревшемся личике. — Да? Чуть заметным движением своих длинных черных ресниц она ответила: «Да». — Ты обдумала? Она отвернулась от меня, как отворачиваются от надоевшего ветра. Ей не хотелось говорить. Да и к чему было говорить? Нельзя на длинную тему ответить коротко, а для длинных речей не было ни места, ни времени. Я взял шляпу и не простясь вышел. Впоследствии Ольга рассказывала мне, что тотчас же после моего ухода, как только шум от моих шагов смешался с шумом ветра и сада, пьяный граф сжимал уже ее в своих объятиях. А она, закрыв глаза, зажав себе рот и ноздри, едва стояла на ногах от чувства отвращения. Была даже минута, когда она чуть было не вырвалась из его объятий и не убежала в озеро. Были минуты, когда она рвала волосы на голове, плакала. Нелегко продаваться. Выйдя из дома и направляясь к конюшне, где стояла моя Зорька, я должен был проходить мимо дома управляющего. Я заглянул в окно. При тусклом свете сильно пущенной, коптящей лампы за столом сидел Петр Егорыч. Лица его я не видел. Оно было закрыто руками. Но во всей его толстой, неуклюжей фигуре чудилось столько горя, тоски и отчаяния, что не нужно было видеть лица, чтобы понять состояние души. Перед ним стояли две бутылки. Одна пустая, другая только что начатая. Обе были водочные. Бедняга искал мира не в себе самом, не в людях, а в алкоголе. Через пять минут я ехал домой. Темнота была ужасная. Озеро сердито бурлило и, казалось, гневалось, что я, такой грешник, бывший сейчас свидетелем грешного дела, дерзал нарушать его суровый покой. В потемках не видал я озера. Казалось, что ревела невидимое чудовище, ревела сама окутывавшая меня тьма. Я остановил Зорьку, закрыл глаза и задумался под рев чудовища. — А что если я ворочусь сейчас и уничтожу их? Страшная злоба бушевала в душе моей… Всё то немногое хорошее и честное, что осталось во мне после продолжительной жизненной порчи, всё то, что уцелело от тления, что я берег, лелеял, чем гордился, было оскорблено, оплевано, обрызгано грязью! Ранее знавал я продажных женщин, покупал их, изучал, но у тех не было невинного румянца и искренних голубых глаз, которые видел я в то майское утро, когда шел лесом на теневскую ярмарку… Я, сам испорченный до мозга костей, прощал, проповедовал терпимость ко всему порочному, снисходил до слабости… Был я того убеждения, что нельзя требовать от грязи, чтобы она не была грязью, и нельзя винить те червонцы, которые силою обстоятельств попадают в грязь… Но ранее не знал я, что червонцы могут растворяться в грязи и смешиваться с нею в одну массу. Растворимо, значит, и золото! Сильный порыв ветра сорвал с меня шляпу и унес ее в окружавший мрак. Сорвавшаяся шляпа на лету шмыгнула по морде Зорьки. Она испугалась, взвилась на дыбы и понеслась по знакомой дороге. Приехав домой, я повалился в постель. Поликарп, предложивший мне раздеваться, был ни за что ни про что обруган чёртом. — Сам — чёрт, — проворчал Поликарп, отходя от кровати. — Что ты сказал? Что ты сказал? — вскочил я. — Глухому попу две обедни не служат. — Ааа… ты еще смеешь говорить мне дерзости! — задрожал я, выливая всю свою желчь на бедного лакея. — Вон! Чтоб и духу твоего здесь не было, негодяй! Вон! И, не дожидаясь, пока человек выйдет из комнаты, я повалился в постель и зарыдал, как мальчишка. Напряженные нервы не вынесли. Бессильная злоба, оскорбленное чувство, ревность — всё должно было вылиться так или иначе. — Муж убил свою жену! — горланил мой попугай, ероша свои жидкие перья… Под влиянием этого крика мне пришла в голову мысль, что Урбенин мог убить свою жену… Засыпая, я видел убийство. Кошмар был душащий, мучительный… Мне казалось, что руки мои гладили что-то холодное и что стоило бы мне только открыть глаза, и я увидел бы труп… Мерещилось мне, что у изголовья стоит Урбенин и глядит на меня умоляющими глазами… После описанной ночи наступило затишье. Я засел дома, позволяя себе выходить и выезжать только по делам службы. Дел у меня накопилось пропасть, а потому скучать было невозможно. От утра до вечера я сидел за столом и усердно строчил или же допрашивал попавший в мои следовательские когти люд. В Карнеевку, в графскую усадьбу, меня более уже не тянуло. На Ольгу я махнул рукой. Что с воза упало, то пропало; а она была именно тем, что упало с моего воза и, как я думал, безвозвратно пропало. Я не думал о ней и думать не хотел. «Глупая, развратная дрянь!» — третировал я ее всякий раз, когда она во время моих усиленных занятий появлялась в моем воображении. Изредка разве, когда я ложился спать или просыпался утром, мне приходили на память различные моменты из знакомства и непродолжительного житья моего с Ольгой. Мне вспоминались: Каменная Могила, лесной домик, в котором жила «девушка в красном», дорога в Тенево, свидание в пещере… и сердце мое начинало усиленно биться… Я ощущал щемящую боль… Но всё это было непродолжительно. Светлые воспоминания быстро стушевывались под напором тяжелых воспоминаний. Какая поэзия прошлого могла устоять перед грязью настоящего? И теперь, покончив с Ольгой, я далеко уже не так глядел на эту «поэзию», как прежде… Теперь я глядел на нее, как на оптический обман, ложь, фарисейство… и она утратила в моих глазах половину прелести. Граф же мне опротивел окончательно. Я рад был, что не вижу его, и меня всегда злило, когда его усатая физиономия робко появлялась в моем воображении. Он каждый день присылал мне письма, в которых умолял меня не хандрить и посетить «уже не одинокого отшельника». Послушаться его писем — значило бы сделать для себя неприятность. «Кончено! — думал я. — И слава богу… Надоело…» Я решил прервать с графом сношения, и эта решимость не стоила мне ни малейшей борьбы. Теперь я был уже не тот, что недели три тому назад, когда после ссоры из-за Пшехоцкого едва сидел дома. Приманки уже не было… Посидев безвыходно дома, я заскучал и написал доктору Павлу Ивановичу письмо с просьбой приехать поболтать. Ответа на письмо я почему-то не получил и послал другое. На второе был такой же ответ, как и на первое… Очевидно, милый «щур» делал вид, что сердится… Бедняга, получив отказ от Наденьки Калининой, причиной своего несчастья считал меня. Он имел право сердиться, и если ранее никогда не сердился, то потому, что не умел. «Когда же это он успел научиться?» — недоумевал я, не получая ответа на свои письма. На третьей неделе моего упорного, безвыходного сиденья меня посетил граф. Побранив меня за то, что я не езжу к нему и не отвечаю на его письма, он разлегся на диване и прежде, чем захрапеть, поговорил на свою любимую тему — о женщинах… — Я понимаю, — сказал он, томно щуря глаза и кладя под голову руки, — ты деликатен и щепетилен. Ты не ездишь ко мне из боязни нарушить наш дуэт… помешать… Гость не вовремя хуже татарина, гость же в медовый месяц хуже чёрта рогатого. Я тебя понимаю. Но, друг мой, ты забываешь, что ты друг, а не гость, что тебя любят, уважают… Да своим присутствием ты только дополнил бы гармонию… А уж и гармония, братец ты мой! Такая гармония, что и описать тебе не могу! Граф вытащил из-под головы руку и махнул ею. — Сам не разберу, хорошо ли мне с нею живется, или скверно. И чёрт не разберет! Бывают действительно минуты, когда полжизни бы отдал за «bis», но зато бывают деньки, когда ходишь из угла в угол, как очумелый, и реветь готов… — Чего же ради? — Не понимаю, брат, я этой Ольги. Какая-то лихорадка, а не женщина… В лихорадке то жар, то озноб, так вот и у нее, пять перемен на день. То ей весело, то скучно до того, что глотает слезы и молится… То любит меня, то нет… Бывают минуты, когда она ласкает меня, как отроду не ласкала меня еще ни одна женщина. Но зато бывает и так. Проснешься нечаянно, откроешь глаза и видишь обращенное на тебя лицо… этакое какое-то ужасное, дикое… Перекошено оно, это лицо, злобой, отвращением… Как увидишь этакую штуку, всё обаяние пропало… И часто она так на меня смотрит… — С отвращением? — Ну да!.. Не пойму никак… Сошлась со мной, как уверяет, только по любви, а между тем не проходит ночи, чтоб я этакого лица не видел. Чем объяснить? Мне начинает казаться, чему я, конечно, верить не хочу, что она меня терпеть не может, а отдалась мне только из-за тех тряпок, которые я теперь ей покупаю. Ужасно любит тряпки! В новом платье она в состоянии простоять перед зеркалом от утра до вечера; из-за испорченной оборки она в состоянии проплакать день и ночь… Ужасно суетна! Более всего во мне нравится ей то, что я граф. Не будь я графом, она не полюбила бы меня. Не проходит ни одного обеда и ужина, чтоб она не упрекнула меня со слезами, что я не окружаю себя аристократическим обществом. Ей, видишь, хотелось бы царить в этом обществе… Странная! Граф устремил свой мутный взор в потолок и задумался. К великому моему удивлению, я заметил, что он на этот раз, сверх обыкновения, был трезв. Это меня поразило и даже тронуло. — А ты сегодня нормален, — сказал я, — и не пьян, и водки не просишь. Что сей сон означает? — Да так! Некогда было пить, всё время думал… Я, надо сказать тебе, Сережа, увлекся серьезно, не на шутку. Она мне понравилась страшно. Да оно и понятно… Женщина она редкая, недюжинная, не говоря уж о наружности. Умишко неособенный, но сколько чувства, изящества, свежести!.. Сравнивать ее с моими обычными Амалиями, Анжеликами да Грушами, любовью которых я доселе пользовался, невозможно. Она нечто из другого мира, мира, который мне незнаком. — Философствуй! — засмеялся я. — Увлекся, вроде как бы полюбил! Но теперь вижу, что напрасно я стараюсь ноль возвести в квадратную степень. То была маска, вызвавшая во мне фальшивую тревогу. Яркий румянец невинности оказывается суриком, поцелуй любви — просьбой купить новое платье… Я взял ее в дом, как жену, она же держит себя, как любовница, которой платят деньги. Но теперь шабаш! Смиряю в душе тревогу и начинаю видеть в Ольге любовницу… Шабаш! — Ну, что? Как муж? — Муж? Гм… А как ты думаешь, что с ним? — Я думаю, что несчастнее его человека и вообразить теперь трудно. — Ты думаешь? Напрасно… Это такой негодяй, такая шельма, что я нисколько его не жалею. Шельма никогда не может быть несчастлива, она всегда найдет себе выход… — За что же ты его так ругаешь? — За то, что он плут. Ты знаешь, что я его уважал, я ему верил, как другу… Я и даже ты — все вообще считали его человеком честным, порядочным, неспособным на обман. А между тем он меня обкрадывал, грабил! Пользуясь своим положением управляющего, он распоряжался моим добром, как хотел. Не брал только то, чего нельзя было сдвинуть с места. Я, знавший Урбенина как человека в высшей степени честного и бескорыстного, услышав слова графа, вскочил, как ужаленный, и подошел к графу. — Ты поймал его на воровстве? — спросил я. — Нет, но я знаю о его воровских проделках из достоверных источников. — Из каких же это источников, позвольте узнать? — Не беспокойся, напрасно не стану обвинять человека. Мне Ольга всё про него рассказала. Она, еще не бывши его женой, собственными глазами видела, как он отправлял в город возы битых кур и гусей. Не раз она видела, как мои гуси и куры шли в подарок каким-то благодетелям, у которых квартирует его сын-гимназист. Мало того, она видела, как он туда же отправлял муку, просо, сало. Допустим, что всё это пустяки, но разве эти пустяки ему принадлежат? Тут дело не в стоимости, а в принципе. Принцип оскорблен! Потом-с. Она видела у него в шкафу пачку денег. На вопрос ее, чьи это деньги и откуда он их взял, он попросил ее не проболтаться, что у него есть деньги. Милый мой, ты знаешь, что он гол, как сокол! Жалованья его едва хватает на пропитание… Объясни же мне, откуда у него взялись эти деньги? — И ты, глупец, даешь веру словам этой маленькой гадины? — закричал я, возмущенный до глубины души. — Ей мало того, что она бежала от него, опозорила его на весь уезд. Ей нужно было еще предать его! Такое маленькое, необъемистое тело, а сколько в нем таится всякой мерзости!.. Куры, гуси, просо… хозяин, хозяин! Твое политико-экономическое чувство, твоя сельскохозяйственная глупость оскорблены тем, что он к празднику посылал в подарок битую птицу, которую съели бы лисицы да хорьки, если бы ее не били да не дарили, но проверял ли ты хоть раз те громадные отчеты, которые подает тебе Урбенин? Считал ли тысячи и десятки тысяч? Нет! Да что с тобой говорить? Ты глуп и животен. Рад бы упечь мужа своей любовницы, да не знаешь как! — Моя связь с Ольгой тут ни при чем. Муж он ей или не муж, но, раз он украл, я должен открыто назвать его вором. Но оставим плутовство в стороне. Скажи мне: честно или не честно получать жалованье и по целым дням валяться без просыпу пьяным? Он пьян каждый день! Нет того дня, чтоб я не видел, как он пишет мыслете! Гадко и низко! Так дела порядочные люди не делают. — Потому-то он и пьет, что он порядочный, — сказал я. — У тебя какая-то страсть заступаться за подобных господ. Но я порешил быть беспощадным. Сегодня я отослал ему расчет и попросил очистить место для другого. Терпение мое лопнуло. Убеждать графа в том, что он несправедлив, непрактичен и глуп, я почел излишним. Не перед графом заступаться за Урбенина. Дней через пять я услышал, что Урбенин с сыном-гимназистом и с дочкой переехал на житье в город. Говорили мне, что он ехал в город пьяный, полумертвый, и что два раза сваливался с телеги. Гимназист и Саша всю дорогу плакали. Немного спустя после отъезда Урбенина мне, против моей воли, довелось побывать в графской усадьбе. У одной из графских конюшен воры сломали замок и утащили несколько дорогих седел. Дали знать судебному следователю, т. е. мне, и я volens-nolens должен был ехать. Графа застал я пьяным и сердитым. Он ходил по всем комнатам, искал убежища от тоски и не находил его. — Замучился я с этой Ольгой! — сказал он, махнув рукой. — Рассердилась на меня сегодня утром, пригрозила утопиться, ушла из дому, и вот, как видишь, до сих пор ее нет. Я знаю, что она не утопится, но все-таки скверно. Вчера целый день куксила и била посуду, третьего дня объелась шоколату. Чёрт знает что за натура! Я утешил графа, как умел, и сел с ним обедать. — Нет, пора бросить эти ребячества, — бормотал он во всё время обеда. — Пора, а то глупо и смешно. И к тому же, признаться, она начинает уже мне надоедать своими резкими переходами. Мне хочется чего-нибудь тихого, постоянного, скромного, вроде Наденьки Калининой, знаешь ли… Чудная девушка! После обеда, гуляя в саду, я встретился с «утопленницей». Увидев меня, она страшно покраснела и — странная женщина — засмеялась от счастья. Стыд на ее лице смешался с радостью, горе с счастьем. Поглядев на меня искоса, она разбежалась и, не говоря ни слова, повисла мне на шею. — Я люблю тебя, — зашептала она, сжимая мою шею. — Я по тебе так соскучилась, что если бы ты не приехал, то я бы умерла. Я обнял ее и молча повел к беседке. Через десять минут, расставаясь с нею, я вынул из кармана четвертной билет и подал ей. Она сделала большие глаза. — Зачем это? — Это я плачу тебе за сегодняшнюю любовь. Ольга не поняла и продолжала глядеть на меня с удивлением. — Есть, видишь ли, женщины, — пояснил я, — которые любят за деньги. Они продажные. Им следует платить деньги. Бери же! Если ты берешь у других, почему же не хочешь взять от меня? Я не желаю одолжений! Как я ни был циничен, нанося это оскорбление, но Ольга не поняла меня. Она не знала еще жизни и не понимала, что значит «продажные» женщины. Был хороший августовский день. Солнце грело по-летнему, голубое небо ласково манило вдаль, но в воздухе уже висело предчувствие осени. В зеленой листве задумчивых лесов уже золотились отжившие листки, а потемневшие поля глядели тоскливо и печально. Предчувствие неизбежной тяжелой осени залегало и в нас самих. Нетрудно было предвидеть, что развязка была уже близка. Должен же был когда-нибудь ударить гром и брызнуть дождь, чтоб освежить душную атмосферу! Перед грозой, когда на небе надвигаются темные, свинцовые тучи, бывает душно, а нравственная духота уже сидела в нас. Она сказывалась во всем: в наших движениях, улыбках, речах. Я ехал в легком шарабане. Возле меня сидела Наденька, дочь мирового. Она была бледна, как снег, подбородок и губы ее вздрагивали, как перед плачем, глубокие глаза были полны скорби, а между тем она всю дорогу смеялась и делала вид, что ей чрезвычайно весело. Впереди и сзади нас двигались экипажи всех родов, времен и калибров. По бокам скакали всадники и амазонки. Граф Карнеев, облеченный в зеленый охотничий костюм, похожий более на шутовской, чем охотничий, согнувшись вперед и набок, немилосердно подпрыгивал на своем вороном. Глядя на его согнувшееся тело и на выражение боли, то и дело мелькавшее на его испитом лице, можно было подумать, что он ездил верхом впервые. На спине его болталась новенькая двустволка, а на боку висела сумка, в которой ворочался подстреленный кулик. Украшением кавалькады была Оленька Урбенина. Сидя на вороном коне, подаренном ей графом, одетая в черную амазонку и с белым пером на шляпе, она уже не походила на ту девушку в красном, которая несколько месяцев тому назад встретилась нам в лесу. Теперь в ее фигуре было что-то величественное, «гран-дамское». Каждый взмах хлыстом, каждая улыбка — всё было рассчитано на аристократизм, на величественность. В ее движениях и улыбках было что-то вызывающее, зажигательное. Она надменно-фатовски поднимала вверх голову и с высоты своего коня обливала всё общество презрением, словно ей нипочем были громкие замечания, посылаемые по ее адресу нашими добродетельными дамами. Она бравировала и кокетничала своим нахальством, своим положением «при графе», словно ей было неизвестно, что она уже надоела графу и что последний каждую минуту ждал случая, чтоб отвязаться от нее. — Меня граф хочет прогнать! — сказала мне она с громким смехом, когда кавалькада выезжала со двора, — стало быть, ей было известно ее положение, и она понимала его… Но к чему же громкий смех? Я глядел на нее и недоумевал: откуда у этой лесной мещанки могло взяться столько прыти? Когда она успела научиться так грациозно покачиваться на седле, гордо шевелить ноздрями и щеголять повелительными жестами? — Развратная женщина — та же свинья, — сказал мне доктор Павел Иваныч. — Когда ее сажают за стол, она и ноги на стол… Но это объяснение слишком просто. Никто не мог быть так пристрастен к Ольге, как я, и я первый готов был бы бросить в нее камень; но смутный голос правды шептал мне, что то была не прыть, не бахвальство сытой, довольной женщины, а отчаянность, предчувствие близкой и неизбежной развязки. Мы возвращались с охоты, на которую отправились с самого утра. Охота вышла неудачна. Около болот, на которые мы возлагали большие надежды, мы встретили компанию охотников, которые объявили нам, что дичь распугана. Нам удалось отправить на тот свет трех куликов и одного утенка — вот и всё, что выпало на долю десятка охотников. В конце концов у одной из амазонок разболелись зубы, и мы должны были поспешить обратно. Возвращались мы прекрасной дорогой по полю, на котором желтели снопы недавно сжатой ржи, в виду угрюмых лесов… На горизонте белели графская церковь и дом. Вправо от них широко расстилалась зеркальная поверхность озера, влево темнела Каменная Могила… — Какая ужасная женщина! — шептала мне Наденька всякий раз, когда Ольга равнялась с нашим шарабаном. — Какая ужасная! Она столько же зла, сколько и красива… Давно ли вы были шафером на ее свадьбе? Не успела она еще износить с тех пор башмаков[146], как ходит уже в чужом шелку и щеголяет чужими бриллиантами… Не верится даже этой странной и быстрой метаморфозе… Если уж у нее такие инстинкты, то была бы хоть тактична и подождала бы год, два… — Торопится жить! Ждать некогда! — вздохнул я. — А знаете, что делается с ее мужем? — Говорят, пьянствует… — Да… Папа третьего дня был в городе и видел, как он откуда-то ехал на извозчике. Голова, знаете ли, набок, шапки нет, на лице грязь… Погиб человек! Бедность, говорят, страшная: есть нечего, за квартиру не заплачено. Бедная девочка Саша по целым дням сидит не евши. Папа описал всё это графу… Но ведь вы знаете графа! Он честный, добрый, но не любит задумываться и рассуждать. «Я, говорит, пошлю ему сто рублей». Взял и послал… Я думаю, что большего оскорбления нельзя было нанести Урбенину, как послать ему денег… Он оскорбится этой графской подачкой и станет пить еще больше… — Да, граф глуп, — сказал я. — Он мог бы послать эти деньги через меня и от моего имени. — Он не имел права посылать ему денег! Имею ли я право кормить вас, если я вас душу и вы меня ненавидите? — Это правда… Мы умолкли и задумались… Мысль о судьбе Урбенина была для меня всегда тяжела; теперь же, когда перед моими глазами гарцевала погубившая его женщина, эта мысль породила во мне целый ряд тяжелых мыслей… Что станется с ним и с его детьми? Чем в конце концов кончит она? В какой нравственной луже кончит свой век этот тщедушный, жалкий граф? Возле меня сидело существо, единственно порядочное и достойное уважения… Двух только людей знал я в нашем уезде, которых я в силах был любить и уважать, которые одни только имели право отвернуться от меня, потому что стояли выше меня… Это были Надежда Калинина и доктор Павел Иванович… Что ожидало их? — Надежда Николаевна! — сказал я ей. — Сам того не желая, я причинил вам немало зла и менее, чем кто-либо, имею право рассчитывать на вашу откровенность. Но, клянусь вам, никто не поймет вас так, как я пойму. Ваше горе — мое горе, ваше счастье — мое счастье… Если я задам вам сейчас вопрос, то не заподозрите в нем праздное любопытство. Скажите мне, моя дорогая, зачем вы позволяете этому пигмею графу приближаться к вам? Что вам мешает гнать его от себя и не слушать его гнусных любезностей? Ведь его ухаживанья не делают чести порядочной женщине! Зачем вы даете повод этим сплетницам ставить ваше имя рядом с его именем? Наденька поглядела на меня своими ясными глазами и, словно прочитав на моем лице искренность, весело улыбнулась. — Что же они говорят? — спросила она. — Они говорят, что ваш папенька и вы ловите графа и что граф, в конце концов, натянет вам нос. — Не знают они графа, а потому так и говорят! — вспыхнула Наденька. — Бесстыдные сплетницы! Они привыкли видеть в людях одно только дурное… Хорошее недоступно их пониманию! — А вы нашли в нем хорошее? — Да, я нашла! Вы первый должны были бы знать, что я не допустила бы его к себе, если бы не была уверена в его честных намерениях! — Стало быть, у вас дело дошло уже до «честных намерений»? — удивился я. — Скоро… А на что вам сдались его честные намерения? — Вы хотите знать? — спросила она, и глаза ее заблистали. — Те сплетницы не лгут: я хочу выйти за него замуж! Не стройте удивленной физиономии и не улыбайтесь! Вы скажете, что выходить не любя нечестно и прочее, что уже тысячу раз было сказано, но… что же мне делать? Чувствовать себя на этом свете лишнею мебелью очень тяжело… Жутко жить, не зная цели… Когда же этот человек, которого вы так не любите, сделает меня своею женою, то у меня уже будет задача жизни… Я исправлю его, я отучу его пить, научу работать… Взгляните на него! Теперь он не похож на человека, а я сделаю его человеком. — И так далее и так далее, — сказал я. — Вы сбережете его громадное состояние, будете творить благие дела… Весь уезд будет благословлять вас и видеть в вас ангела, ниспосланного на утешение несчастных… Вы будете матерью и воспитаете его детей… Да, великая задача! Умная вы девушка, а рассуждаете, как гимназист! — Пусть моя идея никуда не годится, пусть она смешна и наивна, но я живу ею… Под влиянием ее я стала здоровей и веселей… Не разочаровывайте же меня! Пусть я сама разочаруюсь, но не теперь, а когда-нибудь… после, в далеком будущем… Оставим этот разговор! — Еще один нескромный вопрос: вы ждете предложения руки? — Да… Судя по его записке, которую я сегодня получила от него, судьба моя решится вечером… сегодня… Он пишет мне, что имеет сказать что-то очень важное… От моего ответа, пишет он, будет зависеть счастье всей его жизни… — Спасибо за откровенность, — сказал я. Смысл записки, полученной Наденькой, для меня был ясен. Бедную девушку ожидало гнусное предложение… Я порешил избавить ее от него. — Мы уже приехали к нашему лесу, — сказал граф, поравнявшись с нашим шарабаном. — Не желаете ли, Надежда Николаевна, устроить привал? И, не дожидаясь ответа, он захлопал в ладоши и скомандовал громким, дребезжащим тенорком: — Прива-а-ал! Мы расположились на опушке леса. Солнце спряталось за деревья, крася в золотистый пурпур одни только верхушки самых высоких ольх да играя на золотом кресте видневшейся вдали графской церкви. Над нашими головами залетали встревоженные кобчики и иволги. Кто-то из мужчин выстрелил и еще более встревожил пернатое царство. Поднялся неугомонный птичий концерт. Этот концерт имеет свою прелесть весною и летом, но, когда в воздухе чувствуется приближение холодной осени, он раздражает нервы и напоминает о скором перелете. Из чащи потянуло вечернею свежестью. Носы дам посинели, и зябкий граф стал потирать руки. Как нельзя более кстати запахло самоварной гарью и зазвякала чайная посуда. Одноглазый Кузьма, пыхтя и путаясь в высокой траве, притащил ящик с коньяком. Мы принялись греться. Продолжительная прогулка на свежем, прохладном воздухе действует на аппетит лучше всяких аппетитных капель. После нее балык, икра, жареные куропатки и прочая снедь ласкают взоры, как розы в раннее весеннее утро. — Ты сегодня умен, — сказал я графу, отрезывая себе кусок балыка. — Умен, как никогда. Трудно распорядиться умнее… — Это мы вместе с графом распоряжались! — захихикал Калинин, мигнув глазом на кучеров, таскавших из шарабанов кульки с закуской, вина и посуду. — Пикничок выйдет на славу… К концу шампанея будет… Лицо мирового на этот раз лоснилось таким довольством, как никогда. Не думал ли он, что в этот вечер его Наденьке будет сделано предложение? Не для того ли он припас и шампанского, чтобы поздравить молодых? Я пристально взглянул на его физиономию, но, по обыкновению, не прочел ничего, кроме бесшабашного довольства, сытости и тупой важности, разлитой во всей его солидной фигуре. Мы весело набросились на закуски. К съедобной роскоши, лежавшей перед нами на коврах, отнеслись безучастно только двое: Ольга и Наденька Калинина. Первая стояла в стороне и, облокотившись о задок шарабана, неподвижно и молча глядела на ягдташ, сброшенный на землю графом. В ягдташе ворочался подстреленный кулик. Ольга следила за движением несчастной птицы и словно ждала ее смерти. Надя сидела рядом со мною и безучастно глядела на весело жевавшие рты. «Когда же всё это кончится?» — говорили ее утомленные глаза. Я предложил ей бутерброд с икрой. Она поблагодарила и положила его в сторону. Очевидно, ей было не до еды. — Ольга Николаевна! Вы же чего не садитесь? — крикнул граф Ольге. Ольга не ответила и продолжала стоять неподвижно, как статуя, и глядеть на птицу. — Какие есть бессердечные люди, — сказал я, подходя к Ольге. — Неужели вы, женщина, в состоянии равнодушно созерцать мучения этого кулика? Чем глядеть, как он корчится, вы бы лучше приказали его добить. — Другие мучаются, пусть и он мучается, — сказала Ольга, не глядя на меня и хмуря брови. — Кто же еще мучается? — Оставь меня в покое! — прохрипела она. — Я не расположена сегодня говорить ни с тобой… ни с твоим дураком графом! Отойди от меня прочь! Она вскинула на меня глазами, полными злобы и слез. Лицо ее было бледно, губы дрожали. — Какая перемена! — сказал я, поднимая ягдташ и добивая кулика. — Какой тон! Поражен! Совсем поражен! — Оставь меня в покое, говорят тебе! Мне не до шуток! — Что же с тобой, моя прелесть? Ольга окинула меня взором снизу вверх и отвернулась. — Таким тоном разговаривают с развратными и продажными женщинами, — проговорила она. — Ты меня такой считаешь… ну и ступай к тем, святым!.. Я здесь хуже, подлее всех… Ты, когда ехал с этой добродетельной Наденькой, боялся глядеть на меня… Ну, и иди к ним! Чего же стоишь? Иди! — Да, ты здесь хуже и подлее всех, — сказал я, чувствуя, как мною постепенно овладевает гнев. — Да, ты развратная и продажная. — Да, я помню, как ты предлагал мне проклятые деньги… Тогда я не понимала значения их, теперь же понимаю… Гнев овладел всем моим существом. И этот гнев был так же силен, как та любовь, которая начинала когда-то зарождаться во мне к девушке в красном… Да и кто бы, какой камень остался бы равнодушен? Я видел перед собою красоту, брошенную немилосердной судьбою в грязь. Не были пощажены ни молодость, ни красота, ни грация… Теперь, когда эта женщина казалась мне прекрасней, чем когда-либо, я чувствовал, какую потерю в лице ее понесла природа, и мучительная злость на несправедливость судьбы, на порядок вещей наполняла мою душу… В минуты гнева я не умею себя сдерживать. Не знаю, что бы еще пришлось Ольге выслушать от меня, если бы она, повернувшись ко мне спиной, не отошла. Она тихо направилась к деревьям и скоро скрылась за ними… Мне казалось, что она заплакала… — Вы, милостивые государыни и милостивые государи! — услышал я речь Калинина. — В сей день, в который мы все соединились для… для того, чтоб объединиться… Мы здесь все в сборе, все между собою знакомы, все веселимся и этим давно желанным объединением нашим мы обязаны не кому другому, как нашему светилу, звезде нашей губернии… Вы, граф, не конфузьтесь… Дамы понимают, о ком я говорю… Хе-хе-хе!.. Ну-с, будем продолжать… Так как всем этим мы обязаны нашему просвещенному и юному… юному… графу Карнееву, то предлагаю выпить сей тост за… Но кто-то едет! Кто это? К опушке, где мы сидели, по направлению от графской усадьбы катила коляска… — Кто бы это мог быть? — удивился граф, направляя свой бинокль в сторону коляски. — Гм… странно… Это, должно быть, проезжие… Ах, нет! Я вижу рожу Каэтана Казимировича… С кем это он? И граф вдруг вскочил, как ужаленный… Лицо его покрылось смертельною бледностью, из рук выпал бинокль. Глаза его забегали, как у пойманной мыши, и, словно прося о помощи, останавливались то на мне, то на Наде… Не все уловили его смущение, потому что внимание большинства было отвлечено приближавшейся коляской. — Сережа, поди сюда на минутку! — зашептал он, хватая меня под руку и отводя в сторону. — Голубчик, умоляю тебя, как друга, как лучшего из людей… Ни вопросов, ни вопрошающих взглядов, ни удивления! Всё расскажу после! Клянусь, что ни одна йота не останется для тебя тайной… Это такое несчастье в моей жизни, такое несчастье, что и выразить тебе не могу! Всё узнаешь, а теперь без вопросов! Помоги мне! Между тем коляска была всё ближе и ближе… Наконец она остановилась, и глупая тайна нашего графа стала достоянием уезда. Из коляски, пыхтя и улыбаясь, вылез Пшехоцкий, облеченный в новый чечунчовый костюм. За ним ловко выпрыгнула молодая дама, лет 23-х. Это была высокая стройная блондинка с правильными, но несимпатичными чертами лица и с синими глазами. Я помню только эти синие, ничего не выражающие глаза, напудренный нос, тяжелое, но роскошное платье и несколько массивных браслетов на обеих руках… Я помню, что запах вечерней сырости и пролитого коньяка уступил свое место пронзительному запаху каких-то духов. — Как вас здесь много! — проговорила незнакомка ломаным русским языком. — Должно быть, очень весело! Здравствуй, Алексис! Она подошла к Алексису и подставила ему свою щеку. Граф быстро чмокнул и тревожно взглянул на своих гостей. — Моя жена, рекомендую! — забормотал он. — А это, Созя, мои хорошие знакомые… Гм… Кашель у меня. — А я только что приехала! Каэтан говорит мне: отдохни! Но я говорю, зачем мне отдыхать, если я всю дорогу спала! И я лучше поеду на охоту! Оделась и поехала… Каэтан, где мои сигареты? Пшехоцкий подскочил к блондинке и подал ей золотой портсигар. — А это — брат моей жены… — продолжал граф бормотать, указывая на Пшехоцкого. — Да помоги же мне! — толкнул он меня под локоть. — Выручи, ради бога! Говорят, что с Калининым сделалось дурно и что Надя, желая помочь ему, не могла подняться с места. Говорят, что многие поспешили сесть в свои экипажи и уехать. Я всего этого не видел. Помню, что я пошел в лес и, ища тропинки, не глядя вперед, направился, куда ноги пойдут.[147] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . На ногах моих висели куски липкой глины, и весь я был в грязи, когда вышел из лесу. Вероятно, мне приходилось перепрыгивать через ручей, но обстоятельства этого я не помню. Словно меня сильно избили палками, до того я чувствовал себя утомленным и замученным. Нужно было отправиться в графскую усадьбу, сесть на Зорьку и ехать. Но я этого не сделал, а отправился домой пешком. Не мог я видеть ни графа, ни его проклятой усадьбы.[148] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дорога моя лежала по берегу озера. Водяное чудовище уже начинало реветь свою вечернюю песню. Высокие волны с белыми гребнями покрывали всю громадную поверхность. В воздухе стояли гул и рокот. Холодный, сырой ветер пронизывал меня до костей. Слева было сердитое озеро, а справа несся монотонный шум сурового леса. Я чувствовал себя с природой один на один, как на очной ставке. Казалось, весь ее гнев, весь этот шум и рев были для одной только моей головы. При других обстоятельствах я, быть может, ощутил бы робость, но теперь я едва замечал окружавших меня великанов. Что гнев природы был в сравнении с той бурей, которая кипела во мне?[149] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Придя домой, я не раздеваясь повалился в постель. — Опять, бесстыжие глаза, в озере в одёже купался! — заворчал Поликарп, стаскивая с меня мокрую и грязную одежу. — Опять, наказание мое! Еще тоже благородный, образованный, а хуже всякого трубочиста… Не знаю, чему там в ниверситете вас учили. Я, не вынося ни человеческого голоса, ни лица, хотел крикнуть на Поликарпа, чтоб он оставил меня в покое, но слово мое застряло в горле. Язык был так же обессилен и изнеможен, как и всё тело. Как это ни мучительно было, но пришлось позволить Поликарпу стащить с меня всё, даже измокшее нижнее белье. — И хоть бы повернулся! — ворчал мой слуга, ворочая меня с боку на бок, как маленькую куклу. — Завтра же расчет! Ни-ни… ни за какие деньги! Будет с меня, дурака! Чтобы мне провалиться, ежели останусь! Свежее, теплое белье не согрело и не успокоило меня. Я дрожал и от гнева и от страха до того сильно, что у меня стучали зубы. Страх был необъяснимый… Не пугали меня ни привидения, ни выходцы из могил, ни даже портрет моего предшественника, Поспелова, висевший над моей головой. Он не спускал с меня своих безжизненных глаз и, казалось, мигал ими, но меня нимало не коробило, когда я глядел на него. Будущее мое было не прозрачно, но все-таки можно было с большею вероятностью сказать, что мне ничто не угрожает, что черных туч вблизи нет. Смерть не скоро, болезни мне были не страшны, личным несчастьям я не придавал значения… Чего же я боялся и отчего стучали мои зубы? Не был мне понятен и мой гнев… «Тайна» графа не могла разозлить меня так сильно. Мне не было дела ни до графа, ни до его женитьбы, которую он скрыл от меня. Остается объяснить тогдашнее состояние моей души нервным расстройством и утомлением. Иное объяснение мне не под силу. По уходе Поликарпа я укрылся с головой, намереваясь уснуть. Было темно и тихо… Беспокойно ворочался в своей клетке попугай, да доносилось мерное постукивание стенных часов из Поликарповой комнаты, во всем же остальном царили мир и тишина. Физическое и душевное утомление взяли свое, и я стал засыпать… Я чувствовал, как с меня постепенно спадала какая-то тяжесть, как ненавистные образы сменялись в сознании туманом… Помню, я даже начинал видеть сон. Снилось мне, что в светлое зимнее утро шел я по Невскому в Петербурге и от нечего делать засматривал в окна магазинов. На душе моей было легко, весело… Некуда было спешить, делать было нечего — свобода абсолютная… Сознание, что я далеко от своей деревни, от графской усадьбы и сердитого, холодного озера, еще более настраивало меня на мирный, веселый лад. Я остановился у самого большого окна и стал рассматривать женские шляпки… Шляпки были мне знакомы… В одной из них я видел Ольгу, в другой Надю, третью я видел в день охоты на белокурой голове внезапно приехавшей Сози… Под шляпками заулыбались знакомые физиономии… Когда я хотел им что-то сказать, они все три слились в одну большую, красную физиономию. Эта сердито задвигала своими глазами и высунула язык… Кто-то сзади сдавил мне шею… — Муж убил свою жену! — крикнула красная физиономия. Я вздрогнул, вскрикнул и, как ужаленный, вскочил с постели… Сердце мое страшно билось, на лбу выступил холодный пот. — Муж убил свою жену! — повторил попугай. — Дай же мне сахару! Как вы глупы! Дурак! — Это попугай… — успокоил я себя, ложась в постель. — Слава богу… Слышался монотонный ропот… То о кровлю стучал дождь… Тучи, которые я видел на западе, когда шел по берегу озера, заволокли теперь всё небо. Слабо блеснула молния и осветила портрет покойного Поспелова… Над самой моей головой прогремел гром… «Последняя гроза за это лето», — подумал я. Вспомнилась мне одна из первых гроз… Точно такой же гром гремел когда-то в лесу, когда я первый раз был в домике лесничего… Я и девушка в красном стояли тогда у окна и глядели на сосны, которые освещала молния… В глазах прекрасного создания светился страх. Она сказала мне, что мать ее умерла от молнии и что она сама жаждет эффектной смерти… Хотелось бы ей одеться так, как одеваются богатейшие аристократки уезда. Она чуяла, что к ее красоте шла роскошь наряда. И, сознавая свое суетное величие, гордая им, она хотела бы взойти на Каменную Могилу и там эффектно умереть. Мечта ее сб…… хотя и не на Камен…..[150] Потеряв всякую надежду уснуть, я поднялся и сел на кровати. Тихий ропот дождя постепенно обращался в сердитый рев, который я так любил, когда душа моя была свободна от страха и злости… Теперь же этот рев казался мне зловещим. Удар грома следовал за ударом. — Муж убил свою жену! — каркнул попугай… Эта была последняя его фраза… Закрыв в малодушном страхе глаза, я нащупал в темноте клетку и швырнул ее в угол… — Черти бы тебя взяли! — крикнул я, услышав звон клетки и писк попугая… Бедная, благородная птица! Полет в угол не обошелся ему даром… На другой день его клетка содержала в себе холодный труп. За что я убил его? Если его любимая фраза о муже, убившем свою жену, напомн…….[151] Мать моего предшественника, Поспелова, уступая мне квартиру, взяла с меня деньги за всю обстановку, даже за фотографические изображения не знакомых мне людей. Но она ни копейки не взяла с меня за дорогого попугая. Накануне своего отъезда в Финляндию она всю ночь прощалась со своей благородной птицей. Я помню всхлипыванья и причитыванья, которыми сопровождалось это прощанье. Помню слезы, с которыми она просила меня сберечь ее друга до ее возвращения. Я дал ей честное слово, что ее попугай не пожалеет о том, что познакомился со мною. И не сдержал я этого слова. Я убил птицу. Воображаю, что сказала бы старуха, если бы узнала о судьбе своего крикуна! Кто-то осторожно постучался в мое окно. Домишко, в котором я жил, стоял по дороге одним из крайних, и стук в окно приходилось мне слышать нередко, в особенности в дурную погоду, когда проезжие искали ночлега. На сей раз стучались ко мне не проезжие. Пройдя к окну и дождавшись, когда блеснет молния, я увидел темный силуэт какого-то высокого и тонкого человека. Он стоял перед окном и, казалось, ежился от холода. Я отворил окно. — Кто здесь? Что нужно? — спросил я. — Сергей Петрович, это я! — услышал я жалобный голос, каким говорят сильно иззябшие и испуганные люди. — Это я! К вам, мой дорогой! В жалобном голосе темного силуэта узнал я, к своему великому удивлению, голос моего друга, доктора Павла Ивановича. Посещение «щура», ведущего регулярную жизнь и ложащегося спать раньше двенадцати, было непонятно. Что могло заставить его изменить своим правилам и явиться ко мне в два часа ночи да вдобавок еще в такую ужасную погоду? — Что вам нужно? — спросил я, послав в глубине души нежданного гостя к чёрту. — Извините, голубчик… Я хотел постучать в дверь, но ваш Поликарп, наверное, спит теперь, как мертвец.. Я решился постучать в окно. — Да что вам нужно? Павел Иваныч подошел ближе к моему окну и забормотал что-то непонятное. Он дрожал и походил на пьяного. — Я вас слушаю! — сказал я, теряя терпение. — Вы… вы, я вижу, сердитесь, но… если бы вы знали всё, что случилось, то вы перестали бы сердиться на такие пустяки, как прерванный сон и визит не в пору… Не до сна теперь! Господи боже мой! Жил я на свете три десятка и только впервые сегодня так страшно несчастлив! Я несчастлив, Сергей Петрович! — Ах, да что же случилось? И какое мне дело? Я сам еле стою на ногах… Не до людей мне! — Сергей Петрович! — проговорил «щур» плачущим голосом, протягивая в потемках к моему лицу мокрую от дождя руку. — Честный человек! Друг мой! И засим я услышал мужской плач. Плакал доктор. — Павел Иваныч, идите домой! — сказал я после некоторого молчания. — Сейчас я не могу с вами говорить… Я боюсь и своего и вашего настроения. Мы не поймем друг друга… — Дорогой мой! — проговорил доктор умоляющим голосом. — Женитесь на ней. — Вы с ума сошли! — сказал я, захлопывая окно… После попугая доктор был второй пострадавший от моего настроения. Я не пригласил его в комнату и захлопнул перед его носом окно. Две грубые, неприличные выходки, за которые я вызвал бы на дуэль даже женщину.[152] Но кроткий и незлобный «щур» не имел понятия о дуэли. Он не знал, что значит сердиться. Минуты через две блеснула молния, и я, взглянув на окно, увидел согнувшуюся фигуру моего гостя. Поза его на этот раз была просительная, выжидательная, как у нищего, стерегущего милостыню. Он ждал, вероятно, что я прощу его и позволю ему высказаться. К счастью, во мне зашевелилась совесть. Мне стало жаль себя, жаль, что природа всадила в меня столько жесткости и мерзости! Низкая душа моя была такой же кремень, как и мое здоровое тело…[153] Я подошел к окну и открыл его. — Войдите в комнату! — сказал я. — Некогда!… Каждая минута дорога! Бедная Надя отравилась, и врачу нельзя отходить от нее… Едва удалось спасти бедняжку… Это ли не несчастье? И вы можете не слушать, захлопывать окно? — Она жива все-таки? — Все-таки… Таким тоном не говорят о несчастных, мой хороший друг! Кто бы мог подумать, что эта умная, честная натура захочет расстаться с жизнью из-за такого субъекта, как граф? Нет, друг мой, к несчастью людей, женщины не могут быть совершенны! Как бы ни была умна женщина, какими бы совершенствами она ни была одарена, в ней все-таки сидит гвоздь, мешающий жить и ей и людям… Возьмем хоть Надю… Ну к чему она это сделала? Самолюбие и самолюбие! Болезненное самолюбие! Чтобы уколоть вас, она задумала выйти за этого графа… Не нужно ей было ни его денег, ни знатности… Ей нужно было только удовлетворить свое чудовищное самолюбие… И вдруг неудача!.. Вы знаете, что приехала его жена… Оказывается, что этот развратник женат… А еще тоже говорят, что женщины выносливы, что они умеют терпеть лучше мужчин!.. Где же тут выносливость, если такая жалкая причина заставляет хвататься за фосфорные спички? Это не выносливость, а суетность! — Вы простудитесь… — То, что я видел сейчас, хуже всякой простуды… Глаза эти, бледность… а! К неудавшейся любви, к неудавшейся попытке насолить вам прибавилось еще неудавшееся самоубийство… Большее несчастье и вообразить себе трудно!.. Дорогой мой, если у вас есть хотя капля сострадания, если… если бы вы ее увидели… ну, отчего бы вам не прийти к ней? Вы любили ее! Если уже не любите, то отчего бы и не пожертвовать ей своей свободой? Жизнь человеческая дорог Кто-то сильно постучал в мою дверь. Я вздрогнул… Сердце мое обливалось кровью!.. Я не верю в предчувствие, но на этот раз тревога моя была не напрасна… Стучались ко мне с улицы… — Кто там? — крикнул я в окно… — К вашей милости!.. — Что нужно? — От графа письмо, ваше благородие! Человека убили! Какая-то темная фигура, закутанная в тулуп, подошла к окну и, ропща на погоду, подала мне письмо… Я быстро отошел от окна, зажег свечу и прочел следующее: «Забудь, ради бога, всё на свете и приезжай сейчас же. Убита Ольга. Я потерял голову и сейчас сойду с ума. Твой А. К.». Убита Ольга! От этой короткой фразы у меня закружилась голова и потемнело в глазах… Я сел на кровать и, не имея сил соображать, опустил руки. — Это вы, Павел Иваныч? — услышал я голос присланного мужика. — А я только что к вам хотел ехать… И к вам письмо есть. Через пять минут я и «щур» сидели в крытом экипаже и ехали к графской усадьбе… По верху экипажа стучал дождь, впереди нас то и дело вспыхивала ослепительная молния. Слышался рев озера… Начиналось последнее действие драмы, и двое из действующих лиц ехали, чтобы увидеть раздирающую душу картину. — Ну, как вы думаете, что нас ждет? — спросил я дорогой Павла Иваныча. — Ничего я не думаю… Не знаю… — Я тоже не знаю… — Гамлет жалел когда-то, что господь земли и неба запретил грех самоубийства[154], так я теперь жалею, что судьба сделала меня врачом… Глубоко сожалею! — Боюсь, чтобы, в свою очередь, мне не пришлось пожалеть, что я судебный следователь, — сказал я. — Если граф не смешал убийства с самоубийством и если действительно Ольга убита, то достанется моим бедным нервам! — Вам можно отказаться от этого дела… Я вопросительно поглядел на Павла Иваныча и, конечно, благодаря потемкам, ничего не увидел… Откуда он знал, что я могу отказаться от этого дела? Я был любовником Ольги, но кому это было известно, кроме самой Ольги да, пожалуй, еще Пшехоцкого, угостившего меня когда-то аплодисментами?.. — Почему вы думаете, что мне можно отказаться? — спросил я «щура». — Так… Вы можете заболеть, подать в отставку… Всё это нисколько не бесчестно, потому что есть кому заменить вас, врач же поставлен совершенно в другие условия… «Только-то?» — подумал я. Экипаж после долгой, убийственной езды по глинистой почве остановился наконец у подъезда. Два окна над самым подъездом были ярко освещены, из крайнего правого, выходившего из спальной Ольги, слабо пробивался свет, все же остальные окна глядели темными пятнами. На лестнице нас встретила Сычиха. Она поглядела на меня своими колючими глазками, и морщинистое лицо ее наморщилось в злую, насмешливую улыбку. — Ужо будет вам сюрприз! — говорили ее глаза. Вероятно, она думала, что мы приехали покутить и не знали, что в доме горе. — Рекомендую вашему вниманию, — сказал я Павлу Ивановичу, стаскивая со старухи чепец и обнажая совершенно лысую голову. — Этой ведьме девяносто лет, душа моя. Если бы нам с вами пришлось когда-нибудь вскрывать этого субъекта, то мы сильно разошлись бы во мнениях. Вы нашли бы старческую атрофию мозга, я же уверил бы вас, что это самое умное и хитрое существо во всем нашем уезде… Чёрт в юбке! Войдя в залу, я был поражен. Картина, которую я здесь увидел, была совсем неожиданная. Все стулья и диваны были заняты людьми… В углах и около окон тоже стояли группы людей. Откуда они могли взяться? Если бы мне ранее сказал кто-нибудь, что я встречу здесь этих людей, то я бы расхохотался. До того невероятно и неуместно было их присутствие в доме графа в то время, когда, быть может, в одной из комнат лежала умершая или умиравшая Ольга. Это был цыганский хор обер-цыгана Карпова из ресторана «Лондон», тот самый хор, который известен читателю по одной из первых глав. Когда я вошел, от одной из групп отделилась моя старая приятельница Тина и, узнав меня, радостно вскрикнула. По ее бледному смуглому лицу разлилась улыбка, когда я подал ей руку, и из глаз брызнули слезы, когда она хотела мне что-то сказать… Слезы не дали ей говорить, и я не добился от нее ни одного слова. Я обратился к другим цыганам, и они объяснили мне свое присутствие таким образом. Утром граф прислал им в город телеграмму, требуя, чтобы весь хор в полном своем составе обязательно был в графской усадьбе к 9 часам вечера. Они, исполняя этот «заказ», сели на поезд и в восемь часов были уже в этой зале… — И мы мечтали доставить его сиятельству и господам гостям удовольствие… Мы знаем так много новых романсов!.. И вдруг… И вдруг прилетел верхом мужик с известием, что на охоте совершено зверское убийство, и с приказанием приготовить постель Ольги Николавны. Мужику не поверили, потому что мужик был пьян, «как свинья», по когда на лестнице послышался шум и через залу пронесли черное тело, сомневаться уже нельзя было… — И теперь мы не знаем, что нам делать! Оставаться нам здесь нельзя… Когда здесь священник, веселым людям нужно убираться… Да и к тому же все певицы встревожены и плачут… Они не могут быть в том доме, где покойник… Нужно уехать, а между тем нам не хотят дать лошадей! Господин граф лежат больны и никого к себе не впускают, а прислуга на просьбу о лошадях отвечает насмешками… Не идти же нам пешком в такую погоду и в такую темную ночь! Прислуга вообще ужасно груба!.. Когда мы попросили для наших дам самовар, нас послали к чёрту… Все эти жалобы кончились слезным обращением к моему великодушию: не выхлопочу ли я для них экипажи, чтобы они могли убраться из этого «проклятого» дома? — Если лошади не в загоне и если кучера не разосланы, то вы уедете, — сказал я. — Я прикажу… Беднягам, одетым в шутовские костюмы и привыкшим кокетничать своими ухарскими манерами, были очень не к лицу их постные физиономии и нерешительные позы. Своим обещанием отправить их на станцию я несколько расшевелил их. Мужской шёпот обратился в громкий говор, а женщины перестали плакать… Затем, проходя в графский кабинет через целую анфиладу темных, неосвещенных комнат, я заглянул в одну из многочисленных дверей и увидел умиляющую душу картину. За столом около шумевшего самовара сидели Созя и ее брат Пшехоцкий… Созя, одетая в легкую блузу, но всё в тех же браслетах и перстнях, нюхала что-то из флакона и, томничая, брезгливо отхлебывала из чашки. Глаза ее были заплаканы… Вероятно, событие на охоте сильно расстроило ее нервы и надолго испортило расположение ее духа. Пшехоцкий с таким же деревянным лицом, как и прежде, хлебал большими глотками из блюдечка и что-то говорил сестре. Судя по менторскому выражению его лица и манерам, он успокоивал и убеждал не плакать. Графа, само собою разумеется, я застал в самых разлохмаченных чувствах. Дряблый и хилый человек похудел и осунулся больше прежнего… Он был бледен, и губы его дрожали, как в лихорадке. Голова была повязана белым носовым платком, от которого на всю комнату разило острым уксусом. При моем входе он вскочил с софы, на которой лежал, и, запахнувши полы халата, бросился ко мне… — А? а? — начал он, дрожа и захлебываясь. — Ну? И, издав несколько неопределенных звуков, он потащил меня за рукав к софе и, дождавшись, когда я сяду, прижался ко мне, как испуганная собачонка, и принялся изливать свою жалобу… — Кто б мог ожидать? а? Постой, голубчик, я укроюсь пледом… у меня лихорадка… Убита, бедная! И как варварски убита! Еще жива, но земский врач говорит, что сегодня ночью умрет… Ужасный день!.. Приехала ни к селу ни к городу эта… чёрт бы ее взял совсем, жена… Это моя несчастнейшая ошибка. Меня, Сережа, в Петербурге пьяного женили. Я скрывал от тебя, мне совестно было, но вот она приехала, и ты можешь ее видеть… Гляди и казнись… О, проклятая слабость! Под влиянием минуты и водки я в состоянии сделать всё, что хочешь! Приезд жены — первый подарок, скандал с Ольгой — второй… Жду третьего… Я знаю, что еще случится… Знаю! Я сойду с ума! Всплакнувши, выпивши три рюмки водки и назвав себя ослом, негодяем и пьяницей, граф путающимся от волнения языком описал драму, имевшую место на охоте… Рассказал он мне приблизительно следующее. Минут через 20—30 после моего ухода, когда удивление по поводу приезда Сози несколько поулеглось и когда Созя, познакомившись с обществом, стала изображать из себя хозяйку, компания услышала вдруг пронзительный, раздирающий душу крик. Этот крик несся со стороны леса и раза четыре был повторен эхом. Был он до того необычаен, что люди, слышавшие его, вскочили на ноги, собаки залаяли, а лошади наострили уши. Крик был неестественный, но графу удалось узнать в нем женский голос… Звучали в нем отчаяние, ужас… Так должны вскрикивать женщины, когда видят привидение или внезапную смерть ребенка… Встревоженные гости поглядели на графа, граф на них… Минуты три царило гробовое молчание… И пока господа переглядывались и молчали, кучера и лакеи побежали к тому месту, откуда был слышен крик. Первым вестником скорби был лакей, старый Илья. Он прибежал из леса к опушке и, бледный, с расширенными зрачками, хотел что-то сказать, но одышка и волнение долго мешали ему говорить. Наконец, поборов себя и перекрестившись, он выговорил: — Убили барыню! Какую барыню? Кто убил? Но Илья не дал ответа на эти вопросы… Роль второго вестника выпала на долю человека, которого не ожидали и появлением которого были страшно поражены. Были поразительны и нежданное появление и вид этого человека… Когда граф увидел его и вспомнил, что Ольга гуляет в лесу, то у него замерло сердце и подогнулись от страшного предчувствия ноги. Это был Петр Егорыч Урбенин, бывший управляющий графа и муж Ольги. Сначала компания услышала тяжелые шаги и треск хвороста… Казалось, что из леса на опушку пробирался медведь. Потом же показалось массивное тело несчастного Петра Егорыча… Выйдя на опушку и увидев компанию, он сделал шаг назад и остановился как вкопанный. Минуты две он молчал и не двигался и таким образом дал себя осмотреть… На нем были его обиходные серенькие пиджак и брюки, достаточно уже поношенные… На голове шляпы не было, и всклокоченные волосы прилипли к вспотевшим лбу и вискам… Лицо его, обыкновенно багровое, а часто и багрово-синее, на этот раз было бледно… Глаза смотрели безумно, неестественно широко… Губы и руки дрожали… Но что поразительнее всего, что прежде всего обратило на себя внимание ошеломленных зрителей, так это окровавленные руки… Обе руки и манжеты были густо покрыты кровью, словно их вымыли в кровяной ванне. После трехминутного столбняка Урбенин, как бы очнувшись от сна, сел на траву по-турецки и простонал. Собаки, чуявшие что-то необычайное, окружили его и подняли лай… Обведя компанию мутными глазами, Урбенин закрыл обеими руками лицо, и наступил новый столбняк… — Ольга, Ольга, что ты наделала! — простонал он. Глухие рыдания вырвались из его груди и потрясли богатырские плечи… Когда он отнял от лица руки, то компания увидела на его щеках и на лбу кровь, перешедшую с рук на лицо… Дойдя до этого места, граф махнул рукой, выпил судорожно рюмку водки и продолжал: — Дальше мои воспоминания путаются. Как ты можешь себе представить, всё происшедшее так меня ошеломило, что я потерял способность мыслить… Ничего не помню, что потом было! Помню только, что мужчины принесли из лесу какое-то тело, одетое в порванное, окровавленное платье… Я не мог на него смотреть! Положили в коляску и повезли… Не слышал я ни стонов, ни плача… Говорят, что ей в бок засадили тот кинжальчик, который при ней всегда был… помнишь его? Эту вещь я ей подарил. Тупой кинжал, тупее, чем этот край стакана… Какую, стало быть, надо иметь силу, чтобы всадить его! Люблю я, братец, кавказское оружие, но теперь бог с ним, с этим оружием! Завтра же прикажу его выбросить вон!.. Граф выпил еще рюмку водки и продолжал: — Но какой срам! Какая мерзость! Подвозим мы ее к дому… Все, знаешь, в отчаянии, в ужасе. И вдруг, чёрт бы их взял, этих цыган, слышится разудалое пение!… Выстроились в ряд и давай, подлецы, орать!.. Хотели, видишь ли, с шиком встретить, а вышло очень некстати… Похоже на Иванушку-дурачка, который, встретивши похороны, пришел в восторг и заорал: «Таскать вам, не перетаскать!» Да, брат! хотел угодить гостям, выписал цыган, а вышла ерунда. Не цыган нужно приглашать, а докторов да духовенство. И теперь я не знаю, что делать! Что мне делать? Не знаю я этих формальностей, обычаев. Кого звать, за кем послать… Может быть, тут полиция нужна, прокурор… Ни черта я не смыслю, хоть убей!.. Спасибо, отец Иеремия, узнавши про скандал, пришел приобщить, а сам бы я не догадался его пригласить. Умоляю тебя, дружище, возьми на себя все эти хлопоты! Ей-богу, с ума схожу! Приезд жены, убийство… бррр!.. Где теперь моя жена? Ты ее не видел? — Видел. Она с Пшехоцким чай пьет. — С братцем, значит… Пшехоцкий — это шельма! Когда я удирал из Петербурга тайком, он пронюхал о моем бегстве и привязался… Сколько он у меня денег выжулил за всё это время, так это уму непостижимо! Разговаривать долго с графом мне было некогда. Я поднялся и направился к двери. — Послушай, — остановил меня граф. — Тово… а меня не пырнет этот Урбенин? — А Ольгу разве он пырнул? — Понятно, он… Недоумеваю только, откуда он взялся! Какие черти его принесли в лес? И почему именно в этот самый лес! Допустим, что он притаился там и поджидал нас, но почем он знал, что я захочу остановиться именно там, а не в другом месте? — Ты ничего не понимаешь, — сказал я. — Кстати, раз навсегда прошу тебя… Если я возьму на себя это дело, то, пожалуйста, не высказывай мне своих соображений… Ты потрудишься только отвечать на мои вопросы, но не больше. Оставив графа, я отправился в комнату, где лежала Ольга…[155] В комнате горела маленькая голубая лампа, слабо освещавшая лица… Читать и писать при ее свете было невозможно. Ольга лежала на своей кровати. Голова ее была в повязках; видны были только чрезвычайно бледный заостренный нос да веки закрытых глаз. Грудь в то время, когда я вошел, была обнажена: на нее клали пузырь со льдом.[156] Стало быть, Ольга еще не умерла. Около нее хлопотали два врача. Когда я вошел, Павел Иваныч, щуря глаза, бесконечно сопя и пыхтя, выслушивал ее сердце. Земский врач, чрезвычайно утомленный и на вид больной человек, сидел около кровати в кресле и, задумавшись, делал вид, что считает пульс. Отец Иеремия, только что кончивший свое дело, заворачивал в епитрахиль крест и собирался уходить… — А вы, Петр Егорыч, не скорбите! — говорил он, вздыхая и поглядывая в угол. — На все божья воля, к богу и прибегните. В углу на табурете сидел Урбенин. Он до того изменился, что я едва узнал его. Безделье и пьянство последнего времени сильно сказывались как на его платье, так и на наружности: платье было изношено, лицо тоже. Бедняга неподвижно сидел и, подперев кулаками голову, не отрывал глаз от кровати… Руки и лицо его всё еще были в крови… О мытье было забыто… О, пророчество моей души и моей бедной птицы! Когда моя благородная, убитая мной птица выкрикивала фразу о муже, убившем свою жену, в моем воображении всегда появлялся на сцену Урбенин. Почему?.. Я знал, что ревнивые мужья часто убивают жен-изменниц, знал в то же время, что Урбенины не убивают людей… И я отгонял мысль о возможности убийства Ольги мужем, как абсурд. «Он или не он?» — задал я себе вопрос, поглядев на его несчастное лицо. И, откровенно говоря, я не дал себе утвердительного ответа, несмотря даже на рассказ графа, на кровь, которую я видел на руках и лице. «Если бы он убил, то он давно бы уже смыл с рук и лица кровь… — вспомнилось мне положение одного приятеля-следователя. — Убийцы не выносят крови своих жертв». Если бы я захотел пошевелить мозгами, то я вспомнил бы немало сему подобных положений, но не следовало забегать вперед и набивать свою голову преждевременными заключениями. — Мое почтение! — обратился ко мне земский врач. — Очень рад, что хоть вы пришли… Скажите, пожалуйста, кто здесь хозяин? — Здесь нет хозяина… Здесь царит хаос… — сказал я. — Изречение очень милое, но, тем не менее, мне нисколько не легче, — желчно закашлялся земский врач. — Три часа прошу, умоляю дать сюда бутылку портвейна или шампанского, и хоть бы кто снизошел к мольбам! Все глухи, как тетерева! Льду только что сейчас принесли, хотя я приказал достать его три часа тому назад. Что же это такое? Человек умирает, а они словно смеются! Граф изволит в своем кабинете распивать ликеры, а сюда не могут дать рюмки! Посылаю в город, в аптеку, — говорят, что лошади заморены и ехать некому, потому что все пьяны… Хочу послать к себе в больницу за лекарствами и повязками, и мне делают одолжение: дают мне какого-то пьяницу, который еле на ногах стоит. Послал его два часа тому назад, и что же? Говорят, что он только что сейчас уехал! Ну не безобразие ли это? Все пьяны, грубы, неотесаны!.. Все какие-то идиоты! Клянусь богом, первый раз в жизни вижу таких бессердечных людей! Негодование врача было справедливо. Он нисколько не преувеличивал, а напротив… Чтоб излить желчь на все беспорядки и безобразия, имевшие место в графской усадьбе, не хватило бы целой ночи. Деморализованная бездельем и безначалием прислуга была отвратительна. Не было того лакея, который не мог бы служить типом зажившегося и зажиревшего человека. Я отправился добывать вино. Дав две-три оплеухи, я добыл и шампанского и валерьяновых капель, чем несказанно порадовал медиков. Через час[157] приехал из больницы фельдшер и привез с собою всё необходимое. Павлу Ивановичу удалось влить в рот Ольге столовую ложку шампанского. Она сделала глотательное движение и простонала. Затем ей впрыснули под кожу что-то вроде гофманских капель. — Ольга Николаевна! — крикнул земский врач, нагнувшись к ее уху. — Ольга Ни-ко-ла-евна! — Трудно ожидать, чтоб она пришла в сознание! — вздохнул Павел Иваныч. — Крови много потеряно, да и, кроме того, удар по голове каким-то тупым орудием, наверное, сопровождался сотрясением мозга. Было ли сотрясение мозга или нет, не мое дело решать, но только Ольга открыла глаза и попросила пить… Возбуждающие средства на нее подействовали. — Вы теперь можете спросить, что вам нужно… — толкнул меня под локоть Павел Иваныч. — Спрашивайте. Я подошел к кровати… Глаза Ольги были обращены на меня. — Где я? — спрашивала она. — Ольга Николаевна! — начал я. — Вы узнаёте меня? Ольга несколько секунд поглядела на меня и закрыла глаза. — Да! — простонала она. — Да! — Я — Зиновьев, судебный следователь. Имел честь быть с вами знаком и даже, если припомните, был шафером на вашей свадьбе… — Это ты? — прошептала Ольга, протягивая вперед левую руку. — Сядь… — Бредит! — вздохнул «щур». — Я — Зиновьев, следователь… — продолжал я. — Если помните, я присутствовал на охоте… Как вы себя чувствуете? — Задавайте вопросы по существу! — шепнул мне земский врач. — Я не ручаюсь, что сознание будет продолжительно… — Прошу, пожалуйста, не учить! — обиделся я. — Я знаю, что мне говорить… Ольга Николаевна, — продолжал я, обращаясь к Ольге, — вы потрудитесь припомнить события истекшего дня. Я помогу вам… В час дня вы сели на лошадь и поехали с компанией на охоту… Охота продолжалась часа четыре… Засим следует привал на опушке леса… Помните? — И ты… и ты… убил. — Кулика? После того, как я добил подстреленного кулика, вы поморщились и удалились от компании… Вы пошли в лес…[158] Теперь потрудитесь собрать все свои силы, поработать памятью. В лесу во время прогулки вы потерпели нападение от неизвестного нам лица. Спрашиваю вас как судебный следователь, это кто был? Ольга открыла глаза и поглядела на меня. — Назовите нам имя этого человека! Здесь, кроме меня, трое… Ольга отрицательно покачала головой. — Вы должны назвать его, — продолжал я. — Он понесет тяжелую кару… Закон дорого взыщет за его зверство! Он пойдет в каторжные работы…[159] Я жду. Ольга улыбнулась и отрицательно покачала головой. Дальнейший допрос не привел ни к чему. Больше я не добился от Ольги ни одного слова, ни одного движения. В без четверти пять она скончалась. В седьмом часу утра прибыли из деревни вытребованные мною староста и понятые. Ехать на место преступления было невозможно: дождь, начавшийся ночью, всё еще лил, как из ведра. Маленькие лужи обратились в озера. Серое небо глядело сурово и не обещало солнца; смоченные деревья, уныло свесив свои ветви, сыпали целый град крупных брызг при каждом дуновении ветра. Ехать было невозможно да и, пожалуй, незачем: следы преступления, как-то: кровяные пятна, человеческие следы и проч., вероятно, были за ночь размыты дождем. Но формальность требовала, чтобы место преступления было осмотрено, и я отложил эту поездку до приезда полиции, а пока занялся составлением начерно протокола и допросом. Прежде всего я допросил цыган. Бедные певцы всю ночь просидели в залах, ожидая, что им дадут лошадей для поездки на станцию. Но лошадей им не дали; прислуга посылала их к графу, предупреждая в то же время, что его сиятельство не велели никого «впущать». Не дали им и самовара, который они попросили утром. Это более чем странное, неопределенное положение в чужом доме, где лежала покойница, безызвестность относительно часа выезда и сырая, унылая погода — всё это вогнало бедных цыган и цыганок в такую тоску, что они за одну ночь похудели и побледнели. Они слонялись из угла в угол, словно испуганные или ожидающие строгого вердикта. Своим допросом я еще более увеличил их душевную тяжесть. Во-первых, мой продолжительный допрос надолго отсрочил их отъезд из «проклятого» дома и, во-вторых, испугал их. Простые люди, вообразив, что их сильно подозревают в убийстве, с плачем стали уверять меня, что они не виноваты и знать ничего не знают. Тина, увидав во мне официальное лицо, совсем забыла наши прежние отношения и, говоря со мной, дрожала и млела от страха, как высеченная девочка. На мою просьбу не волноваться и на уверения, что я вижу в них только свидетелей, помощников правосудия, они в один голос заявили мне, что никогда они свидетелями не были, знать ничего не знают и надеются, что бог и на будущее время избавит их от близкого знакомства с судейским людом. Я спросил их, какою дорогою ехали они со станции, не ехали ли они через тот лес, где произошло убийство, не отделялся ли кто-нибудь из них от компании, хотя бы даже на короткое время, и не был ли им слышен раздирающий душу крик Ольги.[160] Допрос этот не привел ни к чему. Испуганные им цыгане отрядили из хора двух молодцов и послали их в деревню нанять подводы. Бедняги страстно желали уехать. К их несчастью, в деревне, где уже шли разговоры об убийстве в лесу, подозрительно взглянули на смуглых послов и, задержав их, привели ко мне. Только вечером измученный хор избавился от кошмара и вздохнул свободно, нанявши втридорога пять мужицких подвод и выехав из графского дома. Впоследствии за их приезд было им заплачено, но никто не заплатил им за нравственные муки, которые претерпели они в графских хоромах… Допросив их, я произвел у Сычихи обыск.[161] В ее сундуках я нашел пропасть всякого старушечьего хлама, но, перебрав все поношенные чепцы и перештопанные чулки, я не нашел ни денег, ни драгоценных вещей, которые старуха воровала у графа и его гостей… Не нашел я и вещей, которые были когда-то украдены у Тины… Очевидно, у Яги было другое складочное место, известное ей одной… Я не привожу здесь своего протокола, предварительных сведений и осмотра… Длинен он, да и забыл я его… Сообщаю его здесь в общих чертах вкратце… Прежде всего я описал, в каком положении я застал Ольгу, и во всех подробностях изложил приведенный мною допрос ее. Из этого допроса видно было, что Ольга давала мне ответы сознательно и сознательно же скрыла от меня имя убийцы. Она не хотела, чтоб убийца понес кару, и это неминуемо наводит на предположение, что преступник был для нее дорог и близок. Осмотр платья, произведенный мною вместе с приехавшим вскоре становым, дал очень многое… Козак от амазонки, бархатный, на шёлковой подкладке, был еще влажен… Правый бок, где находилось отверстие, сделанное кинжалом, был пропитан кровью и местами носил на себе кровяные сгустки… Кровотечение было сильное, и удивительно, как это Ольга не умерла на месте. Левый бок был тоже в крови… Левый рукав был порван на плече и у кисти руки… Верхние две пуговицы были оторваны, и при осмотре мы их не нашли. Юбка амазонки, черная кашемировая, найдена страшно измятой: ее смяли, когда несли Ольгу из лесу к экипажу и из экипажа к кровати. Потом ее стащили с Ольги и, безобразно скомкав, швырнули под кровать. У пояса она была разорвана; этот продольный разрыв, имевший в длину семь вершков, получился, вероятно, при переноске и стаскивании; он мог быть также сделан при жизни: Ольга, не любившая заниматься починками и не зная, кому отдать починить юбку, могла прятать этот разрыв под казакином. Думаю, что здесь ни при чем дикое остервенение преступника, на которое впоследствии напирал в своей речи товарищ прокурора. Правая часть пояса и правый карман были пропитаны кровью. Носовой платок и перчатка, лежавшие в этом кармане, представляли собой два бесформенных комочка ржавого цвета. На всей юбке, от пояса до конца шлейфа, были рассыпаны кровяные пятна различной величины и формы… Большинство из них были отпечатками окровавленных пальцев и ладоней, принадлежавших, как потом выяснилось на допросе, кучерам и лакеям, несшим Ольгу… Сорочка была окровавлена, и более всего на правой стороне, где находилась дыра, произведенная режущим орудием. Так же, как и в козаке, на левом плече и около кисти были разрывы… Манжетка была наполовину оторвана. Вещи, бывшие при Ольге, как-то: золотые часы, длинная золотая цепочка, брошка с бриллиантом, серьги, кольца и портмоне с серебряной монетой, были найдены при одежде. Ясно, что преступником руководили не корыстные побуждения. Судебно-медицинское вскрытие, произведенное в моем присутствии «щуром» и земским врачом, на другой день после смерти Ольги, дало в конечном результате очень длинный протокол, который привожу здесь в общих чертах. При наружном осмотре были найдены врачами следующие повреждения. На голове, на границе с левой височной и теменной костями, — рана, имеющая полтора дюйма длины и проникающая до кости. Края раны не ровны и не прямолинейны… Нанесена она тупым орудием, вероятно, как мы потом порешили, клинком кинжала. На шее, на уровне шейного позвонка, замечается красная полоса, имеющая вид полукруга и обхватывающая циркулярно заднюю половину шеи. На всем протяжении этой полосы усмотрены повреждения кожицы и незначительные кровоподтеки. На левой руке, на один вершок выше кисти, найдено четыре синих пятна: одно на тыльной стороне и другие три на ладонной. Произошли они от давления и, вероятнее всего, пальцами… Последнее подтверждается еще тем, что на одном из пятен усмотрена маленькая ссадина, произведенная ногтем… Соответственно месту, где находились эти пятна, как припомнит читатель, был разорван левый рукав казакина и наполовину оторвана левая манжетка сорочки… Между четвертым и пятым ребром на линии, мысленно проведенной от середины подмышковой впадины вертикально вниз, находится большая, зияющая рана, длиною в дюйм. Края ее ровные, как бы порезанные, пропитаны жидкой и свернувшейся кровью… Рана проникающая… Произведена она режущим орудием и, как видно из собранных предварительных сведений, кинжалом, ширина которого вполне соответствовала величине раны. Внутренний осмотр показал поранение правых легкого и плевры, воспаление легкого и кровоизлияние в полость плевры. Врачи, насколько помню, дали приблизительно такое заключение: а) смерть произошла от малокровия, которое последовало за значительной потерей крови; потеря крови объясняется присутствием на правой стороне груди зияющей раны; b) рану головы следует отнести к тяжким повреждениям, а рану груди к безусловно смертельным; последнюю следует признать за непосредственную причину смерти; с) рана головы нанесена тупым орудием, а рана груди — режущим, и притом, вероятно, обоюдоострым; d) все вышеописанные повреждения не могли быть нанесены собственною рукою умершей и е) покушения на оскорбление женской чести, вероятно, не было. Чтобы не откладывать в долгий ящик и потом не повторяться, передам тут же читателю картину убийства, набросанную мною под первым впечатлением осмотров, двух-трех допросов и чтения протокола вскрытия. Ольга, отделившись от компании, гуляла в лесу. Замечтавшись или поддавшись печальным мыслям (читатель помнит ее настроение в тот злополучный вечер), она забрела далеко в чащу. Тут ей встретился убийца. Когда она стояла под деревом и думала свои думы, к ней подошел человек и заговорил с ней… Человек этот не был подозрителен, иначе бы она крикнула на помощь, но этот крик не был бы раздирающим душу. Поговорив с ней, убийца схватил ее за левую руку, и так сильно, что порвал рукав казакина и сорочки и оставил след в виде четырех пятен. Тут вероятно, она вскрикнула тем криком, который слышала компания, — вскрикнула от боли и, вероятно, прочитав на лице и в движениях убийцы его намерение. Желая ли, чтоб она не вскрикнула еще раз, или, может быть, под влиянием злобного чувства он схватил ее за грудь около воротника, о чем свидетельствуют две оторванные верхние пуговки и красная полоса, найденная врачами на шее… Убийца, хватая за грудь и потрясая, натянул золотую цепочку, бывшую на шее… От трения и давления цепочкой произошла полоса. Затем убийца наносит ей удар по голове каким-то тупым орудием, например палкой или, быть может, даже клинком кинжала, висевшего у Ольги на поясе. Придя в азарт или найдя, что одной этой раны недостаточно, он обнажает кинжал и с силой вонзает его в правый бок, — я говорю: с силой, потому что кинжал был туп. Таков мрачный вид картины, которую я имел право набросать на основании вышеизложенных данных. Вопрос, кто был убийцей, по-видимому, не был труден и решался сам собою. Во-первых, убийцей руководили не корыстные цели, а какие-то другие… Подозревать, стало быть, какого-нибудь заблудившегося бродягу или оборванцев, занимавшихся на озере рыбною ловлей, не было надобности. Крик жертвы не мог обезоружить грабителя: снять брошку и часы было делом одной секунды… Во-вторых, Ольга намеренно не назвала мне убийцы, чего бы она не сделала, если бы убийца был простым грабителем. Очевидно, убийца был ей дорог, и она не хотела, чтобы его подвергали из-за нее тяжелому наказанию… Такими людьми могли быть ее сумасшедший отец, ее муж, которого она не любила, но перед которым, вероятно, чувствовала себя виноватой, граф, которому она, быть может, в душе чувствовала себя обязанной… Сумасшедший отец в вечер убийства, как показала потом прислуга, сидел у себя в лесном домике и весь вечер сочинял письмо к исправнику, прося его обуздать мнимых воров, день и ночь будто бы окружавших квартиру сумасшедшего… Граф до и в момент убийства не отделялся от компании. Оставалось всю тяжесть подозрения взвалить на одного только несчастного Урбенина. Его внезапное появление, вид и прочее могли служить только хорошими уликами. В-третьих, жизнь Ольги в последнее время состояла из сплошного романа. Роман этот был такого сорта, что обыкновенно оканчиваются уголовщиной. Старый, любящий муж, измена, ревность, побои, бегство к любовнику-графу через месяц-два после свадьбы… Если прекрасная героиня такого романа убита, то не ищите воров и мошенников, а поисследуйте героев романа. По этому третьему пункту самым подходящим героем-убийцей был всё тот же Урбенин… Предварительное дознание делал я в мозаиковой гостиной, в которой любил когда-то валяться на мягких диванах и любезничать с цыганками… Первым, кого я допросил, был Урбенин. Его привели ко мне из комнаты Ольги, где он всё еще продолжал сидеть в углу на табурете и не отрывал глаз от опустевшей постели… Минуту он стоял передо мной молча, глядя на меня безучастно, потом же, догадавшись, вероятно, что я намереваюсь говорить с ним как судебный следователь, он проговорил голосом утомленного, убитого горем и тоскою человека: — Допросите, Сергей Петрович, других свидетелей, а меня уж после… Не могу… Урбенин считал себя свидетелем или думал, что его таковым считают… — Нет, мне нужно допросить вас именно теперь, — сказал я. — Потрудитесь сесть… Урбенин сел против меня и склонил голову. Он был утомлен и болен, отвечал неохотно, и я с большим трудом выжал из него показание. Он показал, что он — Петр Егорыч Урбенин, дворянин, 50 лет, православного вероисповедания. Имеет имение в соседнем К — м уезде, где служил по выборам и два трехлетия состоял почетным мировым судьей. Разорившись, заложил имение и почел за нужное поступить на службу. В управляющие к графу поступил он шесть лет тому назад. Любя агрономию, он не стыдился служить частному лицу и находит, что только глупцы стыдятся труда. Жалованье получал он от графа исправно, и жаловаться ему не на что. От первого брака имеет сына и дочь, и т. д. и т. д. На Ольге женился по страстной любви. С чувством своим он долго и мучительно боролся, но ни здравый смысл, ни логика практического пожилого ума — ничего не поделали: пришлось поддаться чувству и жениться. Что Ольга выходит за него не по любви, он знал, но, считая ее в высокой степени нравственной, он решил довольствоваться одной только ее верностью и дружбою, которую надеялся заслужить. Дойдя до того места, где начинаются разочарование и оскорбление седин, Урбенин попросил позволения не говорить о «прошлом, которое ей простит господь», или же, по крайней мере, отложить разговор об этом до будущего. — Не могу… Тяжело… Да и сами вы видели. — Хорошо, оставим до будущего раза… Теперь только скажите мне: правда ли, что вы били вашу жену? Говорят, что, найдя однажды у нее записку графа, вы ударили ее… — Это неправда… Я только схватил ее за руку, она же расплакалась и побежала в тот вечер с жалобой… — Отношения ее к графу были вам известны? — Я просил отложить этот разговор… Да и к чему он? — Ответьте мне только на один этот вопрос, имеющий большую важность… Были ли вам известны отношения вашей жены к графу? — Конечно… — Я так и запишу, а об остальном, касающемся неверности вашей жены, до следующего раза… Теперь мы перейдем к другому, а именно: я попрошу вас объяснить мне, как вы попали вчера в лес, где была убита Ольга Николаевна… Ведь вы, как говорите, в городе были… Как же вы очутились в лесу? — Да-с, я в городе живу, у двоюродной сестры, с самого того времени, как потерял место… Занимался тем, что искал место и пьянствовал с горя… Особенно сильно пил в этом месяце… Прошлой недели, например, совсем не помню, потому что пил без просыпа… Третьего дня напился тоже… одним словом, пропал… Пропал безвозвратно!.. — Вы хотели рассказать, каким образом вы очутились вчера в лесу… — Да-с… Вчера утром проснулся я рано, часа в четыре… Голова болела от вчерашнего пьянства, тело всё ломило, словно в горячке… Лежу я на постели, вижу в окно, как солнце всходит, и вспомнилось мне… разное… Тяжело стало… Захотелось вдруг увидать ее, увидать хоть раз, может, в последний. И злоба охватила и тоска… Вытащил я из кармана сто рублей, что мне граф прислал, поглядел на них и давай ногами топтать… Топтал-топтал и порешил пойти и бросить ему эту милостыню в лицо. Как бы я ни был голоден и оборван, но чести своей я продать не могу и всякую попытку купить ее считаю оскорблением моей личности. Так вот-с, захотелось взглянуть на Олю, а ему, обольстителю, швырнуть в харю деньги. И так охватило меня это желание, что я чуть с ума не сошел. Чтоб ехать сюда, денег у меня не было. Его сто рублей на себя потратить я не мог. Пошел пешком. Спасибо, на пути попался мне знакомый мужичонка, который за гривенник провез меня восемнадцать верст, а то бы я до сих пор пешком шел. Мужичок ссадил меня в Теневе. Оттуда пошел я пешком сюда и пришел этак часа в четыре. — Вас видел кто-нибудь здесь в это время? — Да-с. Сторож Николай сидел у ворот и сказал мне, что господ дома нет и что они на охоте. Я изнемогал от усталости, но желание видеть жену было сильнее боли. Пришлось, ни минуты не отдыхая, идти пешком к месту, где охотились. По дороге я не пошел, а отправился лесочками… Мне каждое дерево знакомо, и заблудиться в графских лесах мне так же трудно, как в своей квартире. — Но, идя по лесу, а не по дороге, вы могли разминуться с охотниками. — Нет-с, я всё время держался дороги, и так близко, что мог услышать не только выстрелы, но и разговор. — Стало быть, вы не предполагали, что встретитесь в лесу с женой? Урбенин поглядел на меня с удивлением и, подумав немного, ответил: — Вопрос, извините, странный. Нельзя предполагать, что с волком встретишься, а предполагать страшные несчастья невозможно и подавно: бог посылает их внезапно. Взять хоть этот ужасный случай… Иду я по Ольховскому лесу, никакого горя не жду, потому что у меня и без того много горя, и вдруг слышу страшный крик. Крик был до того резкий, что мне показалось, что меня кто-то резанул в ухо… Бегу на крик… Рот Урбенина перекосило в сторону, подбородок его задрожал. Он замигал глазами и зарыдал. — Бегу на крик и вдруг вижу… лежит Оля. Волоса и лоб в крови, лицо ужасное. Начинаю кричать, звать ее по имени… Она не движется… Целую ее, поднимаю. Урбенин захлебнулся и закрыл лицо рукавом. Через минуту он продолжал: — Негодяя я не видал… когда бежал к ней, слышал чьи-то поспешные шаги… Вероятно, это он убегал. — Всё это прекрасно придумано, Петр Егорыч, — сказал я. — Но знаете ли, следователи плохо верят в такие редкие случайности, как совпадение убийства с вашей случайной прогулкой и проч. Придумано недурно, но объясняет очень мало. — То есть как придумано? — спросил Урбенин, делая большие глаза. — Я не придумывал-с… Урбенин вдруг покраснел и поднялся. — Словно вы подозреваете меня… — пробормотал он. — Подозревать, конечно, всякого можно, но вы-то, Сергей Петрович, знаете меня уже давно… Вам грех клеймить меня таким подозрением… Вы меня ведь знаете. — Я вас знаю — это так… но мои личные мнения тут ни при чем… Личные мнения закон предоставляет только одним присяжным заседателям, в распоряжение же следователя отданы одни только улики… Улик много, Петр Егорыч. Урбенин испуганно поглядел на меня и пожал плечами. — Да какие ни были бы улики, — проговорил он, — вы должны понимать… Ну разве я могу… Я! И кого же?! Убить перепелку или кулика еще, пожалуй, можно, а человека… человека, который дороже мне жизни, моего спасения… одна мысль о котором просветляла мое мрачное состояние, как солнце… И вдруг вы подозреваете! Урбенин махнул рукой и сел. — Тут и так смерти хочется, а вы еще оскорбляете! Добро бы оскорблял незнакомый чиновник, а то вы, Сергей Петрович… Позвольте мне уйти-с! — Можете… Еще раз я допрошу вас завтра, а пока, Петр Егорыч, я должен заключить вас под стражу… Надеюсь, что к завтрашнему допросу вы оцените всю важность имеющихся против вас улик, не станете затягивать понапрасну времени и сознаетесь. Что Ольга Николавна убита вами, я убежден… Больше я вам сегодня ничего не скажу… Можете идти. Я проговорил это и нагнулся к бумагам… Урбенин поглядел на меня с недоумением, поднялся и как-то странно растопырил руки. — Вы это шутите или… серьезно? — проговорил он. — Нам с вами не до шуток… — сказал я. — Можете идти. Урбенин всё еще продолжал стоять. Я взглянул на него. Он был бледен и растерянно глядел на мои бумаги. — А отчего это у вас руки в крови, Петр Егорыч? — спросил я. Он взглянул на свои руки, на которых всё еще была кровь, и пошевелил пальцами. — Отчего кровь?.. Гм… Если это одна из улик, то это плохая улика… Поднимая окровавленную Ольгу, я не мог не опачкать рук в крови… Не в перчатках же я был. — Вы говорили сейчас мне, что, увидев свою жену, вы кричали, звали на помощь… Отчего же никто не слыхал вашего крика? — Не знаю, меня так ошеломил вид Оли, что я не мог громко кричать… Впрочем, ничего не знаю… Незачем мне оправдываться, да и не в моих это правилах. — Едва ли вы кричали… Убив жену, вы побежали и были ужасно поражены, когда увидели на опушке людей. — Я и не заметил ваших людей. Не до людей мне было. Этим допрос Урбенина на сей раз кончился. После него Урбенин был взят под стражу и заперт в одном из графских флигелей. На другой или на третий день прикатил из города товарищ прокурора Полуградов — человек, которого я не могу вспомнить без того, чтобы не испортить себе расположение духа. Представьте себе высокого и тощего человека, лет тридцати, гладко выбритого, завитого, как барашек, и щегольски одетого; черты лица его тонки, но до того сухи и малосодержательны, что по ним нетрудно угадать пустоту и хлыщеватость изображаемого индивида; голосок тихий, слащавый и до приторности вежливый. Приехал он рано утром в наемной коляске с двумя чемоданами. Прежде всего он, с сильно озабоченным лицом и жеманно жалуясь на утомление, справился, есть ли в графском доме для него помещение. Ему по моей команде отвели маленькую, но очень уютную и светлую комнату, где поставили для него всё, начиная с мраморного рукомойника и кончая спичками. — Па-аслушайте, милый! Приготовьте мне теплой воды! — начал он, расположившись в комнате и брезгливо понюхивая воздух. — Чеаэк, я вам говорю! Теплой воды, пожалуйста… И, прежде чем приступить к делу, он долго одевался, умывался и причесывался; даже почистил себе зубы красным порошком и минуты три обрезал свои острые, розовые ногти. — Ну-с, — приступил он, наконец, к делу, перелистывая наши протоколы, — в чем дело? Я рассказал ему, в чем дело, не пропуская ни одной подробности… — А на месте преступления были? — Нет, еще не был. Товарищ прокурора поморщился, провел своей белой, женской рукой по свежевымытому лбу и зашагал по комнате. — Мне непонятны соображения, по которым вы еще там не были, — забормотал он: — это прежде всего нужно было сделать, полагаю. Вы забыли или не сочли нужным? — Ни то, ни другое: вчера ждал полицию, а сегодня поеду. — Там теперь ничего не осталось: все дни идет дождь, да и вы дали время преступнику скрыть следы. По крайней мере, вы поставили там сторожа? Нет? Н-не понимаю! И франт авторитетно пожал плечами. — Пейте чай, а то он простынет, — сказал я тоном равнодушного человека. — Я люблю холодный. Товарищ прокурора нагнулся к бумагам и, сопя на всю комнату, стал читать вполголоса, изредка вставляя свои замечания и поправки. Раза два его рот покривился в насмешливую улыбку: гусю лапчатому[162] не нравились почему-то ни мой протокол, ни протокол врачей. В вычищенном и вымытом чиновнике сильно высказывался педант, нафаршированный самомнением и чувством собственного достоинства. В полдень мы были на месте преступления. Шел проливной дождь. Конечно, не нашли мы ни пятен, на следов: всё было размыто дождем. Кое-как удалось мне найти пуговицу, недостававшую на амазонке убитой Ольги, да товарищ прокурора подобрал какую-то красную мякоть, которая впоследствии оказалась красной табачной оберткой. Сначала мы было набрели на куст, у которого были надломаны две боковые веточки; товарищ прокурора обрадовался этим веточкам: они могли быть сломаны преступником, а потому указывали бы направление, по которому шел преступник, убив Ольгу. Но радость прокурора была напрасна: скоро мы нашли много кустов с поломанными ветками и ощипанными листьями; оказалось, что через место преступления проходил скот. Набросав план местности и расспросив взятых с нами кучеров о положении, в котором была найдена Ольга, мы поехали обратно, чувствуя себя не солоно хлебавши. Когда мы исследовали место, в движениях наших посторонний наблюдатель мог бы уловить лень, вялость… Быть может, движения наши отчасти были парализованы тем обстоятельством, что преступник был уже в наших руках и, стало быть, не было надобности пускаться в лекоковские анализы. Возвратившись из леса, Полуградов опять долго умывался и одевался, опять требовал теплой воды. Покончивши с туалетом, он изъявил желание допросить еще раз Урбенина. На этом допросе бедный Петр Егорыч не сказал ничего нового: он по-прежнему отрицал свою виновность и ни во что ставил наши улики. — Я даже удивляюсь, как это можно меня подозревать, — сказал он, пожимая плечами, — странно! — Не наивничайте, любезнейший! — сказал ему Полуградов, — напрасно подозревать никто не станет, а если подозревают, то, значит, имеют на то причины! — Да какие ни были бы причины, как бы ни были тяжелы улики, но надо же ведь рассуждать по-человечески! Не могу я убить… понимаете? Не могу… Стало быть, чего же стоят ваши улики? — Ну! — махнул рукой товарищ прокурора, — беда с этими интеллигентными преступниками: мужику втолкуешь, а извольте-ка с этим поговорить! Не могу… по-человечески… так и бьют на психологию! — Я не преступник, — обиделся Урбенин, — прошу вас быть в ваших выражениях поосторожнее… — Замолчите, любезнейший! Некогда нам перед вами извиняться и выслушивать ваши неудовольствия… Не угодно вам сознаваться, так и не сознавайтесь, — только позвольте уж нам считать вас лгуном… — Как вам угодно, — проворчал Урбенин, — вы можете проделывать теперь со мной, что вам угодно… ваша власть… Урбенин махнул рукой и продолжал, глядя в окно: — Мне, впрочем, всё равно: жизнь пропала. — Послушайте, Петр Егорыч, — сказал я, — вчера и третьего дня вы были так убиты горем, что еле держались на ногах и едва выговаривали лаконические ответы; сегодня же, напротив, вы имеете такой цветущий, конечно, сравнительно, и веселый вид и даже пускаетесь в разглагольствования. Обыкновенно ведь горюющим людям не до разговоров, а вы мало того, что длинно разговариваете, но еще и высказываете мелочное неудовольствие. Чем объяснить такую резкую перемену? — А вы чем объясняете ее? — спросил Урбенин, насмешливо щуря на меня глаза. — Я это объясняю тем, что вы забыли свою роль. Трудно ведь долго актерствовать: или роль забудешь, или надоест… — Это следовательское измышление, — усмехнулся Урбенин, — и оно делает честь вашей находчивости… Да, вы правы: перемена произошла во мне большая… — Вы можете объяснить ее? — Извольте, скрывать не нахожу нужным: вчера я был так убит и придавлен своим горем, что думал наложить на себя руки или… сойти с ума… но сегодня ночью я раздумался… мне пришла мысль, что смерть избавила Олю от развратной жизни, вырвала ее из грязных рук того шелопая, моего губителя; к смерти я не ревную: пусть Ольга лучше ей достается, чем графу; эта мысль повеселила меня и подкрепила; теперь уже в моей душе нет такой тяжести. — Ловко придумано! — процедил сквозь зубы Полуградов, покачивая ногой. — За ответом в карман не лезет! — Я чувствую, что я говорю искренно, и мне удивительно, что вы, образованные люди, не можете отличить искренности от притворства! Впрочем, предубеждение слишком сильное чувство, под влиянием его не ошибаться трудно; я понимаю ваше положение, воображаю, что будет, когда, поверив вашим уликам, станут меня судить… воображаю: возьмут во внимание мою зверскую физиономию, мое пьянство… у меня не зверская наружность, но предубеждение возьмет свое… — Хорошо, хорошо, довольно, — сказал Полуградов, нагибаясь к бумагам, — ступайте… По уходе Урбенина мы приступили к допросу графа. Его сиятельство пожаловал к допросу в халате и с уксусной повязкой на голове; познакомившись с Полуградовым, он развалился на кресле и стал давать показания: — Я вам всё расскажу, с самого начала… Ну, что поделывает теперь ваш председатель Лионский? Всё еще не развелся с женой? Я с ним случайно в Петербурге познакомился… Господа, да что же вы не велите себе чего-нибудь подать? С коньяком как-то веселее и разговаривать… а что в этом убийстве виноват Урбенин, я не сомневаюсь… И граф рассказал нам всё то, что уже знакомо читателю. По просьбе прокурора, он во всех подробностях рассказал свое житье с Ольгой и, описывая прелести житья с хорошенькой женщиной, так увлекся, что несколько раз причмокнул губами и подмигнул глазом. Из его показания я узнал одну очень важную подробность, которая неизвестна читателю. Я узнал, что Урбенин, живя в городе, беспрестанно бомбардировал графа письмами; в одних письмах он проклинал, в других умолял возвратить ему жену, обещая забыть все обиды и бесчестия; бедняга хватался за эти письма, как за соломинку. Допросив двух-трех кучеров, товарищ прокурора плотно пообедал, прочел мне целую инструкцию и уехал. Перед отъездом он заходил во флигель, где содержался заключенный Урбенин, и объявил последнему, что наше подозрение в его виновности стало уверенностью. Урбенин махнул рукой и попросил позволения присутствовать на похоронах жены; последнее ему было разрешено. Полуградов не лгал Урбенину: да, наше подозрение стало уверенностью, мы были убеждены, что нам известен преступник и что он уже в наших руках; но недолго сидела в нас эта уверенность!.. В одно прекрасное утро, когда я запечатывал пакет, чтобы отправить с ним Урбенина в город, в тюремный замок, я услышал страшный шум. Выглянув в окно, я увидел занимательное зрелище: десяток дюжих молодцов волокли из людской кухни одноглазого Кузьму. Кузьма, бледный и растрепанный, упирался в землю ногами и, не имея возможности оборониться руками, бил своих врагов большой головой. — Ваше благородие, пожалуйте туда! — сказал мне встревоженный Илья. — Не хочет идтить! — Кто не хочет идти? — Убивец. — Какой убивец? — Кузьма… он убил, ваше благородие… Петр Егорыч занапрасну терпит… ей-богу-с… Я вышел на двор и направился к людской кухне, где Кузьма, вырвавшийся ужо из дюжих рук, рассыпал пощечины направо и налево… — В чем дело? — спросил я, подойдя к толпе… И мне рассказали нечто странное и неожиданное. — Ваше благородие, Кузьма убил! — Врут! — завопил Кузьма, — побей бог, врут! — А зачем же ты, чёртов сын, кровь отмывал, ежели у тебя совесть чистая? Постой, их благородие всё разберут! Объездчик Трифон, проезжая мимо реки, заметил, что Кузьма что-то старательно мыл. Трифон думал сначала, что тот стирает белье, но, вглядевшись, он увидел поддевку и жилетку. Ему показалось это странным: суконного не стирают. — Что ты делаешь? — крикнул Трифон. Кузьма смутился. Вглядевшись еще пристальнее, Трифон заметил на поддевке бурые пятна… — Я сейчас же догадался, что это кровь… пошел на кухню и рассказал нашим; те подстерегли и видели, как он ночью сушил в саду поддевку. Ну, известно, испужались. Зачем ему мыть, ежели он не виноват? Стало быть, крива душа, коли прячется… Думали мы, думали и потащили его к вашему благородию… Его тащим, а он пятится и в глаза плюет. Зачем ему пятиться, ежели он не виноват? Из дальнейшего допроса оказалось, что Кузьма перед самым убийством, в то время, когда граф с гостями сидел на опушке и пил чай, отправился в лес. В переноске Ольги он не участвовал, а стало быть, испачкаться в крови не мог. Приведенный ко мне в комнату, Кузьма сначала не мог выговорить от волнения ни слова; вращая белком своего единственного глаза, он крестился и бормотал божбу… — Ты успокойся, расскажи мне, и я тебя отпущу, — сказал я ему. Кузьма повалился мне в ноги и, заикаясь, стал божиться… — Чтобы мне сгинуть, ежели это я… Чтобы ни отцу, ни матери моей… Ваше благородие! Убей бог мою душу… — Ты уходил в лес? — Это правильно-с, я уходил… подавал господам коньяк и, извините, хлебнул малость; ударило мне в голову и захотелось полежать, пошел, лег и заснул… А кто убил и как, не знаю и ведать — не ведаю… Истинно вам говорю! — А зачем ты отмывал кровь? — Боялся, чтобы чего не подумали… чтобы в свидетели не забрали… — А откуда на твоей поддевке взялась кровь? — Не могу знать, ваше благородие. — Как же не можешь знать? Ведь поддевка твоя? — Это точно, что моя, но не могу знать: увидал кровь, когда уже был проснувшись. — Так, стало быть, ты во сне запачкал поддевку в кровь? — Точно так… — Ну, ступай, братец, подумай… Ты несешь чепуху; подумай, завтра мне скажешь… Иди. На другой день, когда я проснулся, мне доложили, что Кузьма желает со мной говорить. Я велел его привести. — Надумал? — спросил я его. — Точно так, — надумал… — Откуда же у тебя на поддевке кровь? — Я, вашескоблагородие, как во сне помню: припоминается что-то, как в тумане, а правда это или нет, не разберу. — Что же тебе припоминается? Кузьма поднял вверх свой глаз, подумал и сказал: — Чудное… словно, как во сне или в тумане… Лежу я на траве пьяный и дремлю, не то я дремлю, не то совсем сплю… Только слышу, кто-то идет мимо и ногами сильно стучит… открываю глаз и вижу, словно как бы в беспамятстве или во сне: подходит ко мне какой-то барин, нагинается и вытирает руки о мои полы… вытер о полы, а потом рукой по жилетке мазнул… вот так. — Какой же это барин? — Не могу знать; помню только, что это был не мужик, а барин… в господском платье, а какой это барин, какое у него лицо, совсем не помню. — Какого же цвета у него было платье? — А кто его знает! Может, белое, а может, и черное… помнится только, что это был барин, а больше ничего не помню… Ах, да, вспомнил! Нагнувшись, они вытерли свои ручки и сказали: «Пьяная сволочь!» — Это тебе снилось? — Не знаю… может, и снилось… Только откуда же кровь взялась? — Барин, которого ты видел, похож на Петра Егорыча? — Словно как бы нет… а может быть, это и они были… Только они сволочью ругаться не станут. — Ты припомни… ступай, посиди и припомни… может быть, вспомнишь как-нибудь. — Слушаю. Это неожиданное вторжение одноглазого Кузьмы в почти уже законченный роман произвело неосветимую путаницу. Я решительно потерялся и не знал, как понимать мне Кузьму: виновность свою он отрицал безусловно, да и предварительное следствие было против его виновности: убита была Ольга не из корыстных целей, покушения на ее честь, по мнению врачей, «вероятно, не было»; можно было разве допустить, что Кузьма убил и не воспользовался ни одною из этих целей только потому, что был сильно пьян и потерял соображение или же струсил, что не вязалось с обстановкой убийства?.. Но если Кузьма был не виноват, то почему же он не объяснял присутствия крови на его поддевке и к чему выдумывал сны и галлюцинации? К чему приплел он барина, которого он видел, слышал, но не помнит настолько, что забыл даже цвет его одежды? Прилетал еще раз Полуградов. — Вот видите-с! — сказал он. — Осмотри вы место преступления тотчас же, то, верьте, теперь всё было бы ясно, как на ладони! Допроси вы тотчас же всю прислугу, мы еще тогда бы знали, кто нес Ольгу Николаевну, а кто нет, а теперь мы не можем даже определить, на каком расстоянии от места происшествия лежал этот пьяница! Часа два бился он с Кузьмой, но последний не сообщил ему ничего нового; сказал, что в полусне видел барина, что барин вытер о его полы руки и выбранил его «пьяной сволочью», но кто был этот барин, какие у него были лицо и одежда, он не сказал. — Да ты сколько коньяку выпил? — Я отпил полбутылки. — Да то, может быть, был не коньяк? — Нет-с, настоящий финь-шампань… — Ах, ты даже и названия вин знаешь! — усмехнулся товарищ прокурора… — Как не знать! Слава богу, при господах уж три десятка служим, пора научиться… Товарищу прокурора для чего-то понадобилась очная ставка Кузьмы с Урбениным… Кузьма долго глядел на Урбенина, помотал головой и сказал: — Нет, не помню… может быть, Петр Егорыч, а может, и не они… Кто его знает! Полуградов махнул рукой и уехал, предоставив мне самому из двух убийц выбирать настоящего. Следствие затянулось… Урбенин и Кузьма были заключены в арестантский дом, имевшийся в деревеньке, в которой находилась моя квартира. Бедный Петр Егорыч сильно пал духом; он осунулся, поседел и впал в религиозное настроение; раза два он присылал ко мне с просьбой прислать ему устав о наказаниях; очевидно, его интересовал размер предстоящего наказания. — Как же мои дети-то будут? — спросил он меня в один из допросов. — Будь я одинок, ваша ошибка не причинила бы мне горя, но ведь мне нужно жить… жить для детей! Они погибнут без меня, да и я… не в состоянии с ними расстаться! Что вы со мной делаете?! Когда стража стала говорить ему «ты» и когда раза два ему пришлось пройти пешком из моей деревни до города и обратно под стражей, на виду знакомого ему народа, он впал в отчаяние и стал нервничать. — Это не юристы! — кричал он на весь арестантский дом, — это жестокие, бессердечные мальчишки, не щадящие ни людей, ни правды! Я знаю, почему я здесь сижу, знаю! Свалив на меня вину, они хотят скрыть настоящего виновника! Граф убил, а если не граф, то его наемник! Когда ему стало известно о задержании Кузьмы, он на первых порах очень обрадовался. — Вот и нашелся наемник! — сказал он мне, — вот и нашелся! Но скоро, когда он увидел, что его не выпускают, и когда сообщили ему показание Кузьмы, он опять запечалился. — Теперь я погиб, — говорил он, — окончательно погиб: чтоб выйти из заключения, этот кривой чёрт, Кузьма, рано или поздно назовет меня, скажет, что это я утирал свои руки о его полы. Но ведь видели же, что у меня руки были не вытерты! Рано или поздно наши сомнения должны были разрешиться. В конце ноября того же года, когда перед окнами моими кружились снежинки, а озеро глядело бесконечно белой пустыней, Кузьма пожелал меня видеть: он прислал ко мне сторожа сказать, что он «надумал». Я приказал привести его к себе. — Я очень рад, что ты, наконец, надумал, — встретил я его, — пора уж бросить скрытничать и водить нас за нос, как малых ребят. Что же ты надумал? Кузьма не отвечал; он стоял посреди моей комнаты и молча, не мигая глазами, глядел на меня… В глазах его светился испуг; да и сам он имел вид человека, сильно испуганного: он был бледен и дрожал, с лица его струился холодный пот. — Ну, говори, что ты надумал? — повторил я. — Такое, что чуднее и выдумать нельзя… — выговорил он. — Вчера я вспомнил, какой на том барине галстух был, а нынче ночью задумался и самое лицо вспомнил. — Так кто же это был? Кузьма болезненно усмехнулся и вытер со лба пот. — Страшно сказать, ваше благородие, уж позвольте мне не говорить: больно чудно и удивительно, думается, что это мне снилось или причудилось… — Но кто же тебе причудился? — Нет, уж позвольте мне не говорить: если скажу, то засудите… Дозвольте мне подумать и завтра сказать… Боязно. — Тьфу! — рассердился я. — Зачем же ты меня беспокоил, если не хочешь говорить? Зачем ты шел сюда? — Думал, что скажу, а теперь вот страшно. Нет, ваше благородие, отпустите меня… лучше завтра скажу… Если я скажу, то вы так разгневаетесь, что мне пуще Сибири достанется, — засудите… Я рассердился и велел увести Кузьму.[163] В тот же день вечером, чтобы не терять времени и покончить раз навсегда с надоевшим мне «делом об убийстве», я отправился в арестантский дом и обманул Урбенина, сказав ему, что Кузьма назвал его убийцею. — Я ждал этого… — сказал Урбенин, махнув рукой, — мне всё равно… Одиночное заключение сильно повлияло на медвежье здоровье Урбенина: он пожелтел и убавился в весе чуть ли не наполовину. Я обещал ему приказать сторожам пускать его гулять по коридору днем и даже ночью. — Нет нужды опасаться, что вы уйдете, — сказал я. Урбенин поблагодарил меня и после моего ухода уже гулял по коридору: его дверь уж более не запиралась. Уходя от него, я постучался в дверь, за которой сидел Кузьма. — Ну что, надумал? — спросил я. — Нет, барин… — послышался слабый голос, — пущай господин прокурор приезжает, ему объявлю, а вам не стану сказывать. — Как знаешь… Утром другого дня всё решилось. Сторож Егор прибежал ко мне и сообщил, что одноглазый Кузьма найден в своей постели мертвым. Я отправился в арестантскую и убедился в этом… Здоровый, рослый мужик, который еще вчера дышал здоровьем и измышлял ради своего освобождения разные сказки, был неподвижен и холоден, как камень… Не стану описывать ужас мой и стражи: он понятен читателю. Для меня дорог был Кузьма как обвиняемый или свидетель, для сторожей же это был арестант, за смерть или побег которого с них дорого взыскивалось… Ужас наш был тем сильнее, что произведенное вскрытие констатировало смерть насильственную… Кузьма умер от задушения… Убедившись в том, что он задушен, я стал искать виновника и искал его недолго… Он был близко… Я отправился в камеру Урбенина и, не имея сил сдержать себя, забыв, что я следователь, назвал его в самой резкой и жесткой форме убийцей. — Мало вам было, негодяй, смерти вашей несчастной жены, — сказал я, — вам понадобилась еще смерть человека, который уличил вас! И вы станете после этого продолжать вашу грязную, воровскую комедию! Урбенин страшно побледнел и покачнулся… — Вы лжете! — крикнул он, ударяя себя кулаком по груди. — Не лгу я! Вы проливали крокодиловы слезы на наши улики, издевались над ними… Бывали минуты, когда мне хотелось верить более вам, чем уликам… о, вы хороший актер!.. Но теперь я не поверю вам, даже если из ваших глаз вместо этих актерских, фальшивых слез потечет кровь! Говорите, вы убили Кузьму? — Вы или пьяны, или же издеваетесь надо мной! Сергей Петрович, всякое терпение и смирение имеет свои границы! Я этого не вынесу! И Урбенин, сверкая глазами, застучал кулаком по столу. — Вчера я имел неосторожность дать вам свободу, — продолжал я, — позволил вам то, чего не позволяют другим арестантам: гулять по коридору. И вот, словно в благодарность, вы ночью идете к двери этого несчастного Кузьмы и душите спящего человека! Знайте, что вы погубили не одного только Кузьму: из-за вас пропадут сторожа. — Что же я сделал такое, боже мой? — проговорил Урбенин, хватая себя за голову. — Вы хотите знать доказательства? Извольте… ваша дверь, по моему приказанию, была отперта… дурачье-прислуга отперла дверь и забыла припрятать замок… все камеры запираются одинаковыми замками… Вы ночью взяли свой ключ и, выйдя в коридор, отперли им дверь своего соседа… Задушив его, вы дверь заперли и ключ вставили в свой замок. — За что же я мог его задушить? За что? — За то, что он назвал вас… Не сообщи я вам вчера этой новости, он остался бы жив… Грешно и стыдно, Петр Егорыч! — Сергей Петрович, молодой человек! — заговорил вдруг нежным, мягким голосом убийца, хватая меня за руку. — Вы честный и порядочный человек… Не губите и не пятнайте себя неправедными подозрениями и опрометчивыми обвинениями! Вы не можете только понять, как жестоко и больно вы оскорбили меня, взвалив на мою ни в чем не повинную душу новое обвинение… Я мученик, Сергей Петрович! Бойтесь обидеть мученика! Будет время, когда вам придется извиняться передо мной, и это время скоро… Не обвинят же меня в самом деле! Но извинение это не удовлетворит вас… Чем набрасываться на меня и оскорблять так ужасно, вы бы лучше по-человечески, — не говорю, по-дружески: вы уже отказались от наших хороших отношений, — вы бы лучше расспросили меня… Как свидетель и ваш помощник я для правосудия принес бы больше пользы, чем в роли обвиняемого. Взять бы хоть это новое обвинение… Я мог бы многое вам сообщить: ночью-то я не спал и всё слышал… — Что вы слышали? — Ночью, часа в два… были потемки… слышу, кто-то тихонько ходит по коридору и всё за дверь мою трогает… ходил-ходил, а потом отворил мою дверь и вошел. — Кто? — Не знаю: темно было — не видал… Постоял в моей камере минутку и вышел… и именно так, как вот вы говорите, — вынул из двери моей ключ и отпер соседскую камеру. Минутки через две я услышал хрипенье, а потом возню. Думал я, что это сторож ходит и возится, а хрипенье принял за храп, а то бы я поднял шум. — Басни! — сказал я. — Некому тут, кроме вас, Кузьму убивать. Дежурные сторожа спали. Жена одного из них, не спавшая всю ночь, показала, что все три сторожа в течение ночи спали, как убитые, и не оставляли своих постелей ни на минуту; бедняги не знали, что в этой жалкой арестантской могут водиться такие звери. Служат они здесь уже более двадцати лет, и за всё это время у них не было ни одного случая побега, не говорю уж о такой мерзости, как убийство. Теперь жизнь их, благодаря вам, перевернута вверх дном; да и мне достанется за то, что я не отправил вас в тюремный замок и дал вам здесь свободу гулять по коридорам. Благодарю вас! Это была последняя моя беседа с Урбениным. Больше я уж с ним никогда не беседовал, если не считать тех двух-трех вопросов, которые задал он мне как свидетелю, сидя на скамье подсудимых… Мой роман в заголовке назван «уголовным», и теперь, когда «дело об убийстве Ольги Урбениной» осложнилось еще новым убийством, мало понятным и во многих отношениях таинственным, читатель вправе ожидать вступления романа в самый интересный и бойкий фазис. Открытие преступника и мотивов преступления составляет широкое поле для проявления остроумия и мозговой гибкости. Тут злая воля и хитрость ведут войну с знанием, войну интересную во всех своих проявлениях… Я вел войну, и читатель вправе ожидать от меня описания средств, которые дали мне победу, и он, наверное, ждет следовательских тонкостей, которыми так блещут романы Габорио и нашего Шкляревского; и я готов оправдать ожидания читателя, но… одно из главных действующих лиц оставляет поле битвы, не дождавшись конца сражения, — его не делают участником победы; всё, что было им сделано ранее, пропадает даром, — и оно идет в толпу зрителей. Это действующее лицо — ваш покорнейший слуга. На другой день после описанной беседы с Урбениным я получил приглашение, или, вернее, приказ подать в отставку. Сплетни и разговоры наших уездных кумушек сделали свое дело… Моему увольнению много способствовали также убийство в арестантском доме, показания, взятые товарищем прокурора тайком от меня у прислуги, и, если помнит читатель, удар, нанесенный мною мужику веслом по голове в один из прошлых ночных кутежей. Мужик поднял дело. Произошла сильная перетасовка. В какие-нибудь два дня я должен был сдать дело об убийстве следователю по особо важным делам. Благодаря толкам и газетным корреспонденциям, поднялся на ноги весь прокурорский надзор. Прокурор наезжал в графскую усадьбу через день и принимал участие в допросах. Протоколы наших врачей были отправлены во врачебную управу и далее. Поговаривали даже о вырытии трупов и новом осмотре, который, кстати сказать, ни к чему бы не повел. Урбенина раза два таскали в губернский город для освидетельствования его умственных способностей, и оба раза он был найден нормальным. Я стал фигурировать в качестве свидетеля.[164] Новые следователи так увлеклись, что в свидетели попал даже мой Поликарп. Год спустя после моей отставки, когда я жил в Москве, мною была получена повестка, звавшая меня на разбирательство урбенинского дела. Я обрадовался случаю повидать еще раз места, к которым меня тянула привычка, и поехал. Граф, живший в Петербурге, не поехал и послал вместо себя медицинское свидетельство. Дело разбиралось в нашем уездном городе, в отделении окружного суда. Обвинял Полуградов, тот самый, который раза четыре на день чистил свои зубы красным порошком; защищал некий Смирняев, высокий худощавый блондин с сентиментальным лицом и длинными, гладкими волосами. Присяжные всплошную состояли из мещан и крестьян; из них только четверо были грамотные, остальные же, когда им были поданы для просмотра письма Урбенина к жене, потели и конфузились. В старшины попал лавочник Иван Демьяныч, тот самый, который дал имя моему покойному попугаю. Войдя в зал суда, я не узнал Урбенина: он совершенно поседел и постарел телом лет на двадцать. Я ожидал прочесть на лице его равнодушие к своей судьбе и апатию, но ожидания мои были ошибочны, — Урбенин горячо отнесся к суду: он отвел трех присяжных, давал длинные объяснения и допрашивал свидетелей; вину свою отрицал он безусловно и каждого свидетеля, говорившего не за него, допрашивал очень долго. Свидетель Пшехоцкий показал на суде, что я жил с покойной Ольгой. — Это ложь! — крикнул Урбенин, — он лжец! Жене моей я не верю, но ему я верю! Когда я давал показания, защитник спросил меня, в каких отношениях я находился с Ольгой, и познакомил меня с показанием Пшехоцкого, когда-то мне аплодировавшего. Сказать правду — значило бы дать показание в пользу подсудимого: чем развратнее жена, тем снисходительнее присяжные к мужу-Отелло, — я понимал это… С другой стороны, моя правда оскорбила бы Урбенина… он, услыхав ее, почувствовал бы неизлечимую боль… Я счел за лучшее солгать. — Нет! — сказал я. Прокурор в своей речи, описывая в ярких красках убийство Ольги, обращал особенное внимание на зверство убийцы, на его злобу… «Старый, поношенный сластолюбец увидал девушку, красивую собой и молодую. Зная весь ужас ее положения в доме сумасшедшего отца, он манит ее к себе куском хлеба, жильем и цветными покоями… Она соглашается: состоятельный муж-старик все-таки выносимее сумасшедшего отца и бедности. Но она молода, а молодость, гг. присяжные, имеет свои неотъемлемые права… Девушка, воспитанная на романах и среди природы, рано или поздно должна была полюбить…» и т. д. в том же роде. Кончается тем, что «он, не давший ей ничего, кроме своей старости и цветных тряпок, видя ускользающую добычу, впадает в ярость животного, к носу которого поднесли раскаленное железо. Любил он животно и ненавидеть должен животно» и проч. Обвиняя Урбенина в убийстве Кузьмы, Полуградов указывал на те воровские приемы, здраво обдуманные и взвешенные, которыми сопровождалось убийство «спящего человека, имевшего неосторожность показать накануне против него. А что Кузьма хотел рассказать следователю именно про него, в этом вы, я полагаю, не сомневаетесь». Защитник Смирняев не отрицал виновности Урбенина; он просил только признать, что Урбенин действовал под влиянием аффекта, и дать ему снисхождение. Описывая, как мучительно бывает чувство ревности, он привел в свидетели шекспировского Отелло. Взглянул он на этот «всечеловеческий тип» всесторонне, приводя цитаты из разных критиков, и забрел в такие дебри, что председатель должен был остановить его замечанием, что «знание иностранной литературы для присяжных необязательно». Воспользовавшись последним словом, Урбенин призвал бога в свидетели, что он не виноват ни делом, ни мыслью. — Мне лично всё равно, где ни быть: в этом ли уезде, где всё напоминает мне мой незаслуженный позор и жену, или на каторге, но меня смущает судьба моих детей. И, повернувшись к публике, Урбенин заплакал и просил приютить его детей. — Возьмите их. Граф, конечно, не упустит случая щегольнуть своим великодушием, но я уже предупредил детей: они не возьмут от него ни одной крохи. Заметив меня среди публики, он поглядел на меня умоляющими глазами и сказал: — Защитите моих детей от благодеяний графа. Он, видимо, забыл о предстоящем вердикте и весь предался мысли о детях. Говорил он о них до тех пор, пока не был остановлен председателем. Присяжные совещались недолго. Урбенин был признан виновным безусловно и ни на один пункт не получил снисхождения. Приговорен он был к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы на 15 лет. Так дорого обошлась ему встреча в майское утро с поэтической «девушкой в красном»… Со времени описанных событий прошло уже более восьми лет. Одни участники драмы умерли и уже сгнили, другие несут наказание за свой грех, третьи влачат жизнь, борясь с будничной скукой и ожидая смерти со дня на день. В восемь лет изменилось многое… Граф Карнеев, не перестававший питать ко мне самую искреннюю дружбу, уже окончательно спился. Усадьба его, давшая место драме, ушла от него в руки жены и Пшехоцкого. Он теперь беден и живет на мой счет. Иногда, под вечер, лежа у меня в номере на диване, он любит вспомнить былое. — Хорошо бы теперь цыган послушать, — бормочет он, — пошли, Сережа, за коньяком! Я тоже изменился. Силы мои оставляют меня постепенно, и я чувствую, как выходят из моего тела здоровье и молодость. Нет уж той физической силы, нет ловкости, нет выносливости, которой я щеголял когда-то, бодрствуя несколько ночей подряд и выпивая количество, которое я теперь едва ли подниму. На лице одна за другой появляются морщины, волосы редеют, голос грубеет и слабеет… Жизнь прошла… Прошлое я помню, как вчерашний день. Как в тумане, вижу я места и образы людей. Беспристрастно относиться к ним нет у меня сил; люблю и ненавижу я их с прежней силой, и не проходит того дня, чтобы я, охваченный чувством негодования или ненависти, не хватал бы себя за голову. Граф для меня по-прежнему гадок, Ольга отвратительна, Калинин смешон своим тупым чванством. Зло считаю я злом, грех — грехом. Но бывают нередко минуты, когда я, вглядевшись в стоящий на моем столе портрет, чувствую непреодолимое желание пройтись с «девушкой в красном» по лесу под шумок высоких сосен и прижать ее к груди, несмотря ни на что. В эти минуты прощаю я и ложь и падение в грязную пропасть, готов простить всё для того, чтобы повторилась еще раз хотя бы частица прошлого… Утомленный городской скукой, я хотел бы еще раз послушать рев великана озера и промчаться по его берегу на моей Зорьке… Я простил и забыл бы все, чтобы еще раз пройтись по теневской дороге и встретить садовника Франца с его водочным бочонком и жокейским картузиком… Бывают минуты, когда я готов даже пожать руку, обагренную кровью, и потолковать с благодушным Петром Егорычем о религии, урожае, народном образовании… Я хотел бы повидаться со «щуром», с его Наденькой… Жизнь бешеная, беспутная и беспокойная, как озеро в августовскую ночь… Много жертв скрылось навсегда под ее темными волнами… На дне лежит тяжелый осадок… Но за что я люблю ее в иные минуты? За что я прощаю ее и мчусь к ней душой, как нежный сын, как птица, выпущенная из клетки?.. Жизнь, которую я вижу сейчас сквозь номерное окно, напоминает мне серый круг: серый цвет и никаких оттенков, никаких светлых проблесков… Но, закрыв глаза и припоминая прошлое, я вижу радугу, какую дает солнечный спектр… Да, там бурно, но там светлее… С. Зиновьев. Конец Внизу рукописи написано: Милостивый государь, г. редактор! Предлагаемый роман (или повесть, как хотите) прошу печатать, по возможности, без сокращений, урезок и вставок. Впрочем, изменения можно делать по соглашению с автором. В случае же негодности прошу рукопись сохранить для возвращения. Жительство (временное) имею в Москве, на Тверской, в номерах «Англия». Иван Петрович Камышев. P. S. Гонорар — по усмотрению редакции. Год и число. Теперь, познакомив читателя с романом Камышева, продолжаю прерванную с ним беседу. Прежде всего я должен предупредить, что обещание, данное мною читателю в начале повести, не сдержано: роман Камышева напечатан не без пропусков, не in toto, как я обещал, а по значительном сокращении. Дело в том, что «Драма на охоте» не могла быть напечатана в газете, о которой шла речь в первой главе этой повести: газета прекратила свое существование, когда рукопись поступила в набор… Настоящая же редакция, давшая приют роману Камышева, нашла невозможным печатать его без урезок. Всякий раз, во всё время печатания, она присылала мне корректуры отдельных глав с просьбой «изменить». Я же не хотел брать греха на душу, изменять чужое, и находил лучшим и полезным совсем выпускать, чем изменять неудобное место. По соглашению со мной, редакция выпустила много мест, поражавших своим цинизмом, длиннотами и небрежностью в литературной отделке. Эти выпуски и урезки требовали осторожности и времени — причина, отчего многие главы запаздывали. Выпущены нами, между прочим, два описания ночных оргий. Одна оргия происходила в доме графа, другая на озере. Выпущено описание библиотеки Поликарпа и оригинальная манера его чтения: это место найдено слишком растянутым и утрированным. Более всего я отстаивал и редакция более всего невзлюбила главу, в которой описывается отчаянная игра в карты, свирепствовавшая среди графской прислуги. Самыми страстными игроками были садовник Франц и старуха Сычиха; играли они преимущественно в стуколку и три листика. В период следствия Камышев, проходя однажды мимо одной из беседок и заглянув в нее, увидел сумасшедшую игру: играли Сычиха, Франц и… Пшехоцкий. Играли в стуколку, втемную, со ставкой в 90 коп.; ремиз достигал до 30 руб. Камышев подсел к игрокам и «обчистил» их, как куропаток. Обыгранный Франц, желая продолжать игру, отправился на озеро, где он прятал свои деньги. Камышев проследил его путь и, подметив, где он прячет свои деньги, обокрал садовника, не оставив ему ни одной копейки. Взятые деньги он отдал рыбаку Михею. Эта странная благотворительность прекрасно характеризует взбалмошного следователя, но описана она так небрежно и беседы партнеров пещрят такими перлами сквернословия, что редакция не согласилась даже на изменения. Выпущено несколько описаний свиданий Ольги с Камышевым; пропущено одно объяснение его с Наденькой Калининой и т. д. Но думаю, что и напечатанного достаточно для характеристики моего героя. Sapienti sat…[165] Ровно через три месяца редакционный сторож Андрей доложил мне о приходе «господина с кокардой». — Проси! — сказал я. Вошел Камышев, такой же краснощекий, здоровый и красивый, как и три месяца назад. Шаги его были по-прежнему бесшумны… Он положил на окно свою шляпу так осторожно, что можно было подумать, что он клал какую-нибудь тяжесть… В голубых глазах его светилось по-прежнему что-то детское, бесконечно добродушное… — Опять я вас беспокою! — начал он, улыбаясь и осторожно садясь. — Простите, ради бога! Ну что? Какой приговор произнесен для моей рукописи? — Виновна, но заслуживает снисхождения, — сказал я. Камышев засмеялся и высморкался в душистый платок. — Стало быть, ссылка в огонь камина? — спросил он. — Нет, зачем так строго? Карательных мер она не заслуживает, мы употребим исправительные. — Исправить нужно? — Да, кое-что… по взаимному соглашению… Четверть минуты мы помолчали. У меня страшно билось сердце и стучало в висках, но подавать вид, что я взволнован, не входило в мои планы. — По взаимному соглашению, — повторил я. — В прошлый раз вы говорили мне, что фабулой своей повести вы взяли истинное происшествие. — Да, и теперь я готов повторить это же самое. Если вы читали мой роман, то… честь имею представиться: Зиновьев. — Стало быть, это вы были шафером у Ольги Николаевны?.. — И шафером и другом дома. Не правда ли, я симпатичен в этой рукописи? — засмеялся Камышев, поглаживая колено и краснея, — хорош? Бить бы нужно, да некому. — Так-с… Ваша повесть мне нравится: она лучше и интереснее очень многих уголовных романов… Только нам с вами, по взаимному соглашению, придется произвести в ней кое-какие весьма существенные изменения… — Это можно. Например, что вы находите нужным изменить? — Самый habitus[166] романа, его физиономию. В нем, как в уголовном романе, всё есть: преступление, улики, следствие, даже пятнадцатилетняя каторга на закуску, но нет самого существенного. — Чего же именно? — В нем нет настоящего виновника… Камышев сделал большие глаза и приподнялся. — Откровенно говоря, я вас не понимаю, — сказал он после некоторого молчания. — если вы не считаете настоящим виновником человека, который зарезал и задушил, то… я уж не знаю, кого следует считать. Конечно, преступник есть продукт общества, и общество виновно, но… если вдаваться в высшие соображения, то нужно бросить писать романы, а взяться за рефераты. — Ах, какие тут высшие соображения! Не Урбенин ведь убил! — Как же? — спросил Камышев, придвигаясь ко мне. — Не Урбенин! — Может быть. Humanum est errare[167] — и следователи несовершенны: судебные ошибки часты под луной. Вы находите, что мы ошиблись? — Нет, вы не ошиблись, а пожелали ошибиться. — Простите, я вас опять не понимаю, — усмехнулся Камышев, — если вы находите, что следствие привело к ошибке и даже, как я вас стараюсь понять, к преднамеренной ошибке, то любопытно было бы знать ваш взгляд. По вашему мнению, кто убил? — Вы!! Камышев поглядел на меня с удивлением, почти с ужасом, покраснел и сделал шаг назад. Затем он отвернулся, отошел к окну и засмеялся. — Вот так клюква! — пробормотал он, дыша на окно и нервно рисуя на нем вензель. Я глядел на его рисующую руку и, казалось, узнавал в ней ту самую железную, мускулистую руку, которая одна только могла в один прием задушить спящего Кузьму, растерзать хрупкое тело Ольги. Мысль, что я вижу перед собой убийцу, наполняла мою душу непривычным чувством ужаса и страха… не за себя — нет! — а за него, за этого красивого и грациозного великана… вообще за человека… — Вы убили! — повторил я. — Если не шутите, то поздравляю с открытием, — засмеялся Камышев, всё еще не глядя на меня. — Впрочем, судя по дрожи вашего голоса и по вашей бледности, трудно допустить, что вы шутите. Экий вы нервный! Камышев повернул ко мне свое пылающее лицо и, силясь улыбнуться, продолжал: — Любопытно, откуда вам могла прийти в голову такая мысль! Не написал ли я чего-нибудь такого в своем романе, — это любопытно, ей-богу… Расскажите, пожалуйста! Раз в жизни стоит поиспытать это ощущение, когда на тебя смотрят, как на убийцу. — Убийца вы и есть, — сказал я, — и даже скрыть этого не можете: в романе проврались, да и сейчас плохо актерствуете. — Это совсем таки интересно — любопытно было бы послушать, честное слово. — Коли любопытно, так слушайте. Я вскочил и, волнуясь, заходил по комнате. Камышев заглянул за дверь и плотнее притворил ее. Эта осторожность выдала его. — Чего же вы боитесь? — спросил я. Камышев конфузливо закашлялся и махнул рукой. — Ничего я не боюсь, а просто так… взял да и взглянул за дверь. А вам и это понадобилось? Ну, рассказывайте. — Позвольте вам допрос сделать? — Сколько угодно. — Предупреждаю, что я не следователь и допрашивать не мастер; порядка и системы не ждите, а потому не извольте сбивать и путать. Прежде всего скажите мне, куда вы исчезли после того, как оставили опушку, на которой кутили после охоты? — В повести сказано: я пошел домой. — В повести описание вашего пути старательно зачеркнуто. Вы шли тем лесом? — Да. — И могли, стало быть, встретиться там с Ольгой? — Да, мог, — усмехнулся Камышев. — И вы с ней встретились. — Нет, не встречался. — На следствии вы забыли допросить одного очень важного свидетеля, а именно себя… Вы слышали крик жертвы? — Нет… Ну, батенька, допрашивать вы совсем не мастер… Это фамильярное «батенька» меня покоробило: оно плохо вязалось с теми извинениями и смущением, которыми началась наша беседа. Скоро я заметил, что Камышев глядел на меня снисходительно, свысока и почти любовался моим неуменьем выпутаться из массы волновавших меня вопросов… — Допустим, что в лесу вы не встретились с Ольгой, — продолжал я, — хотя, впрочем, Урбенину труднее было встретиться с Ольгой, чем вам, так как Урбенин не знал, что она в лесу, а стало быть, не искал ее, а вы, будучи пьяным и взбешенным, не могли не искать ее. Вы, наверное, искали ее — иначе зачем же вам было идти домой лесом, а не дорогой… Но допустим, что вы ее не видали… Чем объяснить ваше мрачное, почти бешеное настроение в вечер злополучного дня? Что побудило вас убить попугая, кричавшего о муже, убившем жену? Мне кажется, что он напоминал вам о вашем злодействе… Ночью вас позвали в графский дом, и вы, вместо того, чтобы тотчас же приступить к делу, медлили до приезда полиции почти целые сутки и, вероятно, сами того не замечая… Так медлят только те следователи, которым известен преступник… Вам он был известен… Далее — Ольга не назвала имени убийцы, потому что он был для нее дорог… Будь убийцей муж, она назвала бы его. Если она в состоянии была доносить на него своему любовнику-графу, то обвинить его в убийстве ей ничего бы не стоило: она его не любила, и он не был ей дорог… Любила она вас, и именно вы для нее были дороги… вас щадила она… Позвольте вас также спросить, почему это вы медлили задать ей прямой вопрос, когда она пришла в минутное сознание? К чему вы ей задавали совершенно не идущие к делу вопросы? Позвольте уж мне думать, что всё это вы делали ради проволочки времени, чтобы не дать ей назвать вас. Ольга затем умирает… В своем романе вы ни полслова не говорите о впечатлениях, которые произвела на вас ее смерть… Тут я вижу осторожность: не забываете писать о рюмках, которые выпиваете, а такое важное событие, как смерть «девушки в красном», проходит в романе бесследно… Почему? — Продолжайте, продолжайте… — Следствие ведете вы безобразно… Трудно допустить, что вы, умный и очень хитрый человек, делали это не нарочно. Всё ваше следствие напоминает письмо, нарочно писанное с грамматическими ошибками, — утрировка выдает вас… Почему вы не осмотрели места преступления? Не потому, что забыли об этом или считали это неважным, а потому что ждали, чтобы дождь размыл ваши следы. Вы мало пишете о допросе прислуги. Стало быть, Кузьма не был вами допрошен до тех пор, пока его не застали за мытьем поддевки… Вам, очевидно, не было надобности впутывать его в дело. Почему вы не допросили гостей, кутивших с вами на опушке? Они видели окровавленного Урбенина и слышали крик Ольги, — допросить их следовало. Но вы этого не сделали, потому что хотя бы один из них мог бы вспомнить на допросе, что вы незадолго до убийства отправились в лес и пропали. Впоследствии, вероятно, они были допрошены, но это обстоятельство было ими уже забыто… — Ловко! — проговорил Камышев, потирая руки, — продолжайте, продолжайте! — Неужели для вас недостаточно всего сказанного?.. Чтобы доказать окончательно, что Ольга убита именно вами, следует еще напомнить вам, что вы были ее любовником, любовником, которого променяли на презираемого вами человека!.. Муж может убить из ревности, любовник, полагаю, тоже… Засим перейдем к Кузьме… Судя по последнему допросу, бывшему накануне его смерти, он имел в виду вас; вы утерли руки об его поддевку, и вы назвали его сволочью… Если не вы, то зачем вам было прерывать допрос на самом интересном месте? Почему вы не спросили о цвете галстуха убийцы, когда Кузьма объявил вам, что он вспомнил, какого цвета этот галстух? Почему вы дали Урбенину свободу именно тогда, когда Кузьма уже вспомнил имя убийцы? Почему не раньше и не позже? Очевидно, вам нужно было взвалить на кого-нибудь вину, нужен был человек, который гулял бы ночью по коридору… Итак, Кузьму вы убили, боясь, чтоб он не назвал вас. — Ну, довольно! — проговорил Камышев, смеясь, — будет! Вы вошли в такой азарт и так побледнели, что, того и гляди, в обморок упадете. Не продолжайте. Действительно, вы правы: я убил. Наступило молчание. Я прошелся из угла в угол. Камышев сделал то же самое. — Я убил, — продолжал Камышев, — вы поймали секрет за хвост, — и ваше счастье. Редкому это удастся: больше половины ваших читателей ругнет старика Урбенина и удивится моему следовательскому уму-разуму. Ко мне в кабинет вошел сотрудник и прервал нашу беседу. Заметив, что я занят и взволнован, этот сотрудник повертелся около моего стола, с любопытством поглядел на Камышева и вышел. По уходе его Камышев отошел к окну и стал дышать на стекло. — С тех пор прошло уже восемь лет, — начал он после некоторого молчания, — и восемь лет носил я в себе тайну. Но тайна и живая кровь в организме несовместимы; нельзя безнаказанно знать то, чего не знает остальное человечество. Все восемь лет я чувствовал себя мучеником. Не совесть меня мучила, нет! Совесть — само собой… да и я не обращаю на нее внимания: она прекрасно заглушается рассуждениями на тему о ее растяжимости. Когда рассудок не работает, я заглушаю ее вином и женщинами. У женщин я имею прежний успех — это а propos. Мучило же меня другое: всё время мне казалось странным, что люди глядят на меня, как на обыкновенного человека; ни одна живая душа ни разу за все восемь лет пытливо не взглянула на меня; мне казалось странным, что мне не нужно прятаться; во мне сидит страшная тайна, и вдруг я хожу по улицам, бываю на обедах, любезничаю с женщинами! Для человека преступного такое положение неестественно и мучительно. Я не мучился бы, если бы мне приходилось прятаться и скрытничать. Психоз, батенька! В конце концов на меня напал какой-то задор… Мне вдруг захотелось излиться чем-нибудь: начхать всем на головы, выпалить во всех своей тайной… сделать что-нибудь этакое… особенное… И я написал эту повесть — акт, по которому только недалекий затруднится узнать во мне человека с тайной… Что ни страница, то ключ к разгадке… Не правда ли? Вы, небось, сразу поняли… Когда я писал, я брал в соображение уровень среднего читателя… Нам опять помешали. Вошел Андрей и принес на подносе два стакана чая… Я поспешил выслать его… — И теперь словно легче стало, — усмехнулся Камышев, — вы глядите на меня теперь как на необыкновенного, как на человека с тайной, — и я чувствую себя в положении естественном… Но… однако, уже три часа, и меня ждут на извозчике… — Постойте, положите шляпу… Вы рассказали мне о том, что довело вас до авторства, теперь скажите: как вы убили? — Это вы желаете знать в дополнение прочитанного? Извольте… Убил я под влиянием аффекта. Теперь ведь и курят и чай пьют под влиянием аффекта. Вы вот в волнении мой стакан захватили вместо своего и курите чаще обыкновенного… Жизнь есть сплошной аффект… так мне кажется… Когда я шел в лес, я далек был от мысли об убийстве; я шел туда с одною только целью: найти Ольгу и продолжать жалить ее… Когда я бываю пьян, у меня всегда является потребность жалить… Я встретил ее в двухстах шагах от опушки… Стояла она под деревом и задумчиво глядела на небо… Я окликнул ее… Увидев меня, она улыбнулась и протянула ко мне руки… — Не брани меня, я несчастна! — сказала она. В этот вечер она была так хороша, что я, пьяный, забыл всё на свете и сжал ее в своих объятиях… Она стала клясться мне, что никого никогда не любила, кроме меня… и это было справедливо: она любила меня… И, в самый разгар клятв, ей вздумалось вдруг сказать отвратительную фразу: «Как я несчастна! Не выйди я за Урбенина, я могла бы выйти теперь за графа!» — Эта фраза была для меня ушатом воды… Все накипевшее в груди забурлило… Меня охватило чувство отвращения, омерзения… Я схватил маленькое, гаденькое существо за плечо и бросил его оземь, как бросают мячик. Злоба моя достигла максимума… Ну… и добил ее… Взял и добил… История с Кузьмой вам понятна… Я взглянул на Камышева. На лице его я не прочел ни раскаяния, ни сожаления. «Взял и добил» — было сказано так же легко, как «взял и покурил». В свою очередь, и меня охватило чувство злобы и омерзения… Я отвернулся. — А Урбенин там, на каторге? — спросил я тихо. — Да… Говорят, что умер на дороге, но это еще неизвестно… А что? — А что… Невинно страдает человек, а вы спрашиваете: «А что?» — А что же мне делать? Идти да сознаваться? — Полагаю. — Ну, это положим!.. Я не прочь сменить Урбенина, но без борьбы я не отдамся… Пусть берут, если хотят, но сам я к ним не пойду. Отчего они не брали меня, когда я был в их руках? На похоронах Ольги я так ревел и такие истерики со мной делались, что даже слепые могли бы узреть истину… Я не виноват, что они… глупы. — Вы мне гадки, — сказал я. — Это естественно… И сам я себе гадок… Наступило молчание… Я открыл счетную книгу и стал машинально читать цифры… Камышев взялся за шляпу. — Вам, я вижу, со мной душно, — сказал он, — кстати: не хотите ли поглядеть графа Карнеева? Вон он, на извозчике сидит! Я подошел к окну и взглянул в него… На извозчике, затылком к нам, сидела маленькая, согбенная фигурка в поношенной шляпе и с полинявшим воротником. Трудно бьпо узнать в ней участника драмы! — Узнал я, что здесь, в Москве, в номерах Андреева, живет сын Урбенина, — сказал Камышев. — Хочу устроить так, чтобы граф принял от него подачку… Пусть хоть один будет наказан! Но, однако, adieu![168] Камышев кивнул головой и быстро вышел. Я сел за стол и предался горьким думам. Мне было душно. Последняя могиканша Я и помещик отставной штаб-ротмистр Докукин, у которого я гостил весною, сидели в одно прекрасное весеннее утро в бабушкиных креслах и лениво глядели в окно. Скука была ужасная. — Тьфу! — бормотал Докукин. — Такая тоска, что судебному приставу рад будешь! «Спать улечься, что ли?» — думал я. И думали мы на тему о скуке долго, очень долго, до тех пор, пока сквозь давно немытые, отливавшие радугой оконные стекла не заметили маленькой перемены, происшедшей в круговороте вселенной: петух, стоявший около ворот на куче прошлогодней листвы и поднимавший то одну ногу, то другую (ему хотелось поднять обе ноги разом), вдруг встрепенулся и, как ужаленный, бросился от ворот в сторону. — Кто-то идет или едет… — улыбнулся Докукин. — Хоть бы гостей нелегкая принесла. Все-таки повеселее бы… Петух не обманул нас. В воротах показалась сначала лошадиная голова с зеленой дугой, затем целая лошадь и, наконец, темная, тяжелая бричка с большими безобразными крыльями, напоминавшими крылья жука, когда последний собирается лететь. Бричка въехала во двор, неуклюже повернула налево и с визгом и тарахтеньем покатила к конюшне. В ней сидели две человеческие фигуры: одна женская, другая, поменьше — мужская. — Чёрт возьми… — пробормотал Докукин, глядя на меня испуганными глазами и почесывая висок. — Не было печали, так вот черти накачали. Недаром я сегодня во сне печь видел. — А что? Кто это приехал? — Сестрица с мужем, чтоб их… Докукин поднялся и нервно прошелся по комнате. — Даже под сердцем похолодело… — проворчал он. — Грешно не иметь к родной сестре родственных чувств, но — верите ли? — легче мне с разбойничьим атаманом в лесу встретиться, чем с нею. Не спрятаться ли нам? Пусть Тимошка соврет, что мы на съезд уехали. Докукин стал громко звать Тимошку. Но поздно было лгать и прятаться. Через минуту в передней послышалось шушуканье: женский бас шептался с мужским тенорком. — Поправь мне внизу оборку! — говорил женский бас. — Опять ты не те брюки надел! — Синие брюки вы дяденьке Василию Антипычу отдали-с, а пестрые приказали мне до зимы спрятать, — оправдывался тенорок. — Шаль за вами нести или тут прикажете оставить? Дверь наконец отворилась, и в комнату вошла дама лет сорока, высокая, полная, рассыпчатая, в шёлковом голубом платье. На ее краснощеком весноватом лице было написано столько тупой важности, что я сразу как-то почувствовал, почему ее так не любит Докукин. Вслед за полной дамой семенил маленький, худенький человечек в пестром сюртучке, широких панталонах и бархатной жилетке, — узкоплечий, бритый, с красным носиком. На его жилетке болталась золотая цепочка, похожая на цепь от лампадки. В его одежде, движениях, носике, во всей его нескладной фигуре сквозило что-то рабски приниженное, пришибленное… Барыня вошла и, как бы не замечая нас, направилась к иконам и стала креститься. — Крестись! — обернулась она к мужу. Человечек с красным носиком вздрогнул и начал креститься. — Здравствуй, сестра! — сказал Докукин, обращаясь к даме, когда та кончила молиться, и вздохнул. Дама солидно улыбнулась и потянула свои губы к губам Докукина. Человечек тоже полез целоваться. — Позвольте представить… Моя сестра Олимпиада Егоровна Хлыкина… Ее муж Досифей Андреич. А это мой хороший знакомый… — Очень рада, — сказала протяжно Олимпиада Егоровна, не подавая мне руки. — Очень рада… Мы сели и минуту помолчали. — Чай, не ждал гостей? — начала Олимпиада Егоровна, обращаясь к Докукину. — Я и сама не думала быть у тебя, братец, да вот к предводителю еду, так мимоездом… — А зачем к предводителю едешь? — спросил Докукин. — Зачем? Да вот на него жаловаться! — кивнула дама на своего мужа. Досифей Андреич потупил глазки, поджал ноги под стул и конфузливо кашлянул в кулак. — За что же на него жаловаться? Олимпиада Егоровна вздохнула. — Звание свое забывает! — сказала она. — Что ж? Жалилась я и тебе, братец, и его родителям, и к отцу Григорию его возила, чтоб наставление ему прочел, и сама всякие меры принимала, ничего же не вышло! Поневоле приходится господина предводителя беспокоить… — Но что же он сделал такое? — Ничего не сделал, а звания своего не помнит! Он, положим, не пьющий, смиренный, уважительный, но что с того толку, ежели он не помнит своего звания! Погляди-ка, сгорбившись сидит, словно проситель какой или разночинец. Нешто дворяне так сидят? Сиди как следует! Слышишь? Досифей Андреич вытянул шею, поднял вверх подбородок, вероятно для того, чтобы сесть как следует, и пугливо, исподлобья поглядел на жену. Так глядят маленькие дети, когда бывают виноваты. Видя, что разговор принимает характер интимный, семейный, я поднялся, чтобы выйти. Хлыкина заметила мое движение. — Ничего, сидите! — остановила она меня. — Молодым людям полезно это слушать. Хоть мы и не ученые, но больше вас пожили. Дай бог всем так пожить, как мы жили… А мы, братец, уж у вас и пообедаем заодно, — повернулась Хлыкина к брату. — Но небось сегодня у вас скоромное готовили. Чай, ты и не помнишь, что нынче среда… — Она вздохнула. — Нам уж прикажи постное изготовить. Скоромного мы есть не станем, это как тебе угодно, братец. Докукин позвал Тимошку и заказал постный обед. — Пообедаем и к предводителю… — продолжала Хлыкина. — Буду его молить, чтоб он обратил внимание. Его дело глядеть, чтоб дворяне с панталыку не сбивались… — Да нешто Досифей сбился? — спросил Докукин. — Словно ты в первый раз слышишь, — нахмурилась Хлыкина. — И то, правду сказать, тебе всё равно… Ты-то и сам не слишком свое звание помнишь… А вот мы господина молодого человека спросим. Молодой человек, — обратилась она ко мне, — по-вашему, это хорошо, ежели благородный человек со всякою шушвалью компанию водит? — Смотря с кем… — замялся я. — Да хоть бы с купцом Гусевым. Я этого Гусева и к порогу не допускаю, а он с ним в шашки играет да закусывать к нему ходит. Нешто прилично ему с писарем на охоту ходить? О чем он может с писарем разговаривать? Писарь не только что разговаривать, пискнуть при нем не смей, — ежели желаете знать, милостивый государь! — Характер у меня слабый… — прошептал Досифей Андреич. — А вот я покажу тебе характер! — погрозила ему жена, сердито стуча перстнем о спинку стула. — Я не дозволю тебе нашу фамилию конфузить! Хоть ты и муж мне, а я тебя осрамлю! Ты должен понимать! Я тебя в люди вывела! Ихний род Хлыкиных, сударь, захудалый род, и ежели я, Докукина урожденная, вышла за него, так он это ценить должен и чувствовать! Он мне, сударь, не дешево стоит, ежели желаете знать! Что мне стоило его на службу определить! Спросите-ка у него! Ежели желаете знать, так мне один только его экзамен на первый чин триста рубликов стоил! А из-за чего хлопочу? Ты думаешь, тетеря, я из-за тебя хлопочу? Не думай! Мне фамилия рода нашего дорога! Ежели б не фамилия, так ты у меня давно бы на кухне сгнил, ежели желаешь знать! Бедный Досифей Андреич слушал, молчал и только пожимался, не знаю, отчего — от страха или срама. И за обедом не оставляла его в покое строгая супруга. Она не спускала с него глаз и следила за каждым его движением. — Посоли себе суп! Не так ложку держишь! Отодвинь от себя салатник, а то рукавом зацепишь! Не мигай глазами! А он торопливо ел и ежился под ее взглядом, как кролик под взглядом удава. Ел он с женой постное и то и дело взглядывал с вожделением на наши котлетки. — Молись! — сказала ему жена после обеда. — Благодари братца. Пообедав, Хлыкина пошла в спальню отдохнуть. По уходе ее Докукин схватил себя за волосы и заходил по комнате. — Ну, да и несчастный же ты, братец, человек! — сказал он Досифею, тяжело переводя дух. — Я час посидел с ней — замучился; каково же тебе-то с ней дни и ночи… ах! Мученик ты, мученик несчастный! Младенец ты вифлеемский, Иродом убиенный![169] Досифей замигал глазками и проговорил: — Строги они, это действительно-с, но должен я за них денно и нощно бога молить, потому — кроме благодеяний и любви я от них ничего не вижу. — Пропащий человек! — махнул рукой Докукин. — А когда-то речи в собраниях говорил, новую сеялку изобретал! Заездила ведьма человека! Эхх! — Досифей! — послышался женский бас. — Где же ты? Поди сюда, мух от меня отгоняй! Досифей Андреич вздрогнул и на цыпочках побежал в спальню… — Тьфу! — плюнул ему вслед Докукин. Дипломат (Сценка) Жена титулярного советника Анна Львовна Кувалдина испустила дух. — Как же теперь быть-то? — начали совещаться родственники и знакомые. — Надо бы мужа уведомить. Он хоть не жил с нею, но все-таки любил покойницу. Намеднись приезжал к ней, на коленках ползал и всё: «Анночка! Когда же наконец ты простишь мне увлечение минуты?» И всё в таком, знаете, роде. Надо дать знать… — Аристарх Иваныч! — обратилась заплаканная тетенька к полковнику Пискареву, принимавшему участие в родственном совещании. — Вы друг Михаилу Петровичу. Сделайте милость, съездите к нему в правление и дайте ему знать о таком несчастье!.. Только вы, голубчик, не сразу, не оглоушьте, а то как бы и с ним чего не случилось. Болезненный. Вы подготовьте его сначала, а потом уж… Полковник Пискарев надел фуражку и отправился в правление дороги, где служил новоиспеченный вдовец. Застал он его за выведением баланса. — Михайлу Петровичу, — начал он, подсаживаясь к столу Кувалдина и утирая пот. — Здорово, голубчик! Да и пыль же на улицах, прости господи! Пиши, пиши… Я мешать не стану… Посижу и уйду… Шел, знаешь, мимо и думаю: а ведь здесь Миша служит! Дай зайду! Кстати же и тово… дельце есть… — Посидите, Аристарх Иваныч… Погодите… Я через четверть часика кончу, тогда и потолкуем… — Пиши, пиши… Я ведь так только, гуляючи… Два словечка скажу и — айда! Кувалдин положил перо и приготовился слушать. Полковник почесал у себя за воротником и продолжал: — Душно у вас здесь, а на улице чистый рай… Солнышко, ветерочек этакий, знаешь ли… птички… Весна! Иду себе по бульвару, и так мне, знаешь ли, хорошо!.. Человек я независимый, вдовый… Куда хочу, туда и иду… Хочу — в портерную зайду, хочу — на конке взад и вперед проедусь, и никто не смеет меня остановить, никто за мной дома не воет… Нет, брат, и лучше житья, как на холостом положении… Вольно! Свободно! Дышишь и чувствуешь, что дышишь! Приду сейчас домой и никаких… Никто не посмеет спросить, куда ходил… Сам себе хозяин… Многие, братец ты мой, хвалят семейную жизнь, по-моему же она хуже каторги… Моды эти, турнюры, сплетни, визг… то и дело гости… детишки один за другим так и ползут на свет божий… расходы… Тьфу! — Я сейчас, — проговорил Кувалдин, берясь за перо. — Кончу и тогда… — Пиши, пиши… Хорошо, если жена попадется не дьяволица, ну а ежели сатана в юбке? Ежели такая, что по целым дням стрекозит да зудит?.. Взвоешь! Взять хоть тебя к примеру… Пока холост был, на человека похож был, а как женился на своей, и захирел, в меланхолию ударился… Осрамила она тебя на весь город… из дому прогнала… Что ж тут хорошего? И жалеть такую жену нечего… — В нашем разрыве я виноват, а не она, — вздохнул Кувалдин. — Оставь, пожалуйста! Знаю я ее! Злющая, своенравная, лукавая! Что ни слово, то жало ядовитое, что ни взгляд, то нож острый… А что в ней, в покойнице, ехидства этого было, так и выразить невозможно! — То есть как в покойнице? — сделал большие глаза Кувалдин. — Да нешто я сказал: в покойнице? — спохватился Пискарев, краснея. — И вовсе я этого не говорил… Что ты, бог с тобой… Уж и побледнел! Хе-хе… Ухом слушай, а не брюхом! — Вы были сегодня у Анюты? — Заходил утром… Лежит… Прислугой помыкает… То ей не так подали, другое… Невыносимая женщина! Не понимаю, за что ты и любишь ее, бог с ней совсем… Дал бы бог, развязала бы она тебя, несчастного… Пожил бы ты на свободе, повеселился… на другой бы оженился… Ну, ну, не буду! Не хмурься! Я ведь так только, по-стариковски… По мне, как знаешь… Хочешь — люби, хочешь — не люби, а я ведь так… добра желаючи… Не живет с тобой, знать тебя не хочет… что ж это за жена? Некрасивая, хилая, злонравная… И жалеть не за что… Пущай бы… — Легко вы рассуждаете, Аристарх Иваныч! — вздохнул Кувалдин. — Любовь — не волос, не скоро ее вырвешь. — Есть за что любить! Акроме ехидства ты от нее ничего не видел. Ты прости меня, старика, а не любил я ее… Видеть не мог! Еду мимо ее квартиры и глаза закрываю, чтобы не увидеть… Бог с ней! Царство ей небесное, вечный покой, но… не любил, грешный человек! — Послушайте, Аристарх Иваныч… — побледнел Кувалдин. — Вы уже во второй раз проговариваетесь… Умерла она, что ли? — То есть кто умерла? Никто не умирал, а только не любил я ее, покойницу… тьфу! то есть не покойницу, а ее… Аннушку-то твою… — Да она умерла, что ли? Аристарх Иваныч, не мучайте меня! Вы как-то странно возбуждены, путаетесь… холостую жизнь хвалите… Умерла? Да? — Уж так и умерла! — пробормотал Пискарев, кашляя. — Как ты, брат, всё сразу… А хоть бы и умерла! Все помрем, и ей, стало быть, помирать надо… И ты помрешь, и я… Глаза Кувалдина покраснели и налились слезами… — В котором часу? — спросил он тихо. — Ни в котором… Уж ты и рюмзаешь! Да не умерла она! Кто тебе сказал, что она померла? — Аристарх Иваныч, я… я прошу вас. Не щадите меня! — С тобой, брат, и говорить нельзя, словно ты маленький. Ведь не говорил же я тебе, что она преставилась? Ведь не говорил? Чего же слюни распускаешь? Поди, полюбуйся — живехонька! Когда заходил к ней, с теткой бранилась… Тут отец Матвей панихиду служит, а она на весь дом орет. — Какую панихиду? Зачем ее служить? — Панихиду-то? Да так… словно как бы вместо молебствия. То есть… никакой панихиды не было, а что-то такое… ничего не было. Аристарх Иваныч запутался, встал и, отвернувшись к окну, начал кашлять. — Кашель у меня, братец… Не знаю, где простудился… Кувалдин тоже поднялся и нервно заходил около стола. — Морочите вы меня, — сказал он, теребя дрожащими руками свою бородку. — Теперь понятно… всё понятно. И не знаю, к чему вся эта дипломатия! Почему же сразу не говорить? Умерла ведь? — Гм… Как тебе сказать? — пожал плечами Пискарев. — Не то чтобы умерла, а так… Ну вот ты уж и плачешь! Все ведь умрем! Не одна она смертная, все на том свете будем! Чем плакать-то при людях, взял бы лучше да помянул! Перекрестился бы! Полминуты Кувалдин тупо глядел на Пискарева, потом страшно побледнел и, упавши в кресло, залился истерическим плачем… Из-за столов повскакивали его сослуживцы и бросились к нему на помощь. Пискарев почесал затылок и нахмурился. — Комиссия с такими господами, ей-богу! — проворчал он, растопыривая руки. — Ревет… ну, а отчего ревет, спрашивается? Миша, да ты в своем уме? Миша! — принялся он толкать Кувалдина. — Ведь не умерла же еще! Кто тебе сказал, что она умерла? Напротив, доктора говорят, что есть еще надежда! Миша! А Миша! Говорю тебе, что не померла! Хочешь, вместе к ней съездим? Как раз и к панихиде поспеем… то есть, что я? Не к панихиде, а к обеду. Мишенька! уверяю тебя, что еще жива! Накажи меня бог! Лопни мои глаза! Не веришь? В таком разе едем к ней… Назовешь тогда чем хочешь, ежели… И откуда он это выдумал, не понимаю? Сам я сегодня был у покойницы, то есть не у покойницы, а… тьфу! Полковник махнул рукой, плюнул и вышел из правления. Придя в квартиру покойницы, он повалился на диван и схватил себя за волосы. — Ступайте вы к нему сами! — проговорил он в отчаянии. — Сами его подготовляйте к известию, а меня уж избавьте! Не желаю-с! Два слова ему только сказал… Чуть только намекнул, поглядите, что с ним делается! Помирает! Без чувств! В другой раз ни за какие коврижки!.. Сами идите!.. О том, о сем Одна из пьес московского драматурга М—да[170] потерпела фиаско на первом же представлении. Прогуливаясь по театральному фойе и сумрачно поглядывая по сторонам, автор спросил встретившегося ему приятеля: — Что вы думаете о моей пьесе? — Я думаю, — отвечал приятель, — что вы гораздо лучше чувствовали бы теперь себя, если бы эта пьеса была написана не вами, а мною. Один помещик, зазвав к себе своего старого друга, велел подать полубутылку старого цимлянского… — Ну, как ты находишь вино? — спросил он друга, когда вино было выпито. — Каков букет, какова крепость! Сейчас видно, что ему пятьдесят лет… — Да, — согласился приятель, косясь на полубутылку, — только оно слишком мало для своих лет… Актер пристает к своему антрепренеру, моля о выдаче жалованья и грозя в противном случае умереть с голодухи. — Полноте, батенька, врать-то… — говорит антрепренер. — По вашим розовым, пухлым щекам не видать, чтоб вы с голоду дохли… — Да что вы на лицо-то глядите! Лицо-то ведь не мое, а хозяйкино! Хозяйка кормит меня в кредит! Одному офицеру под Севастополем лопнувшей гранатой оторвало ногу. Он не пал духом и стал носить искусственную конечность. В минувшую русско-турецкую кампанию во время взятия Плевны ему оторвало другую ногу. Бросившиеся к нему на помощь солдаты и офицеры были крайне озадачены его спокойным видом… — Вот дураки-то! — смеялся он. — Только заряд потеряли даром… Того не знают, что у меня в обозе есть еще пара хороших ног! Угроза У одного барина украли лошадь. На другой же день во всех газетах было напечатано следующее объявление: «Если лошадь не будет мне возвращена, то необходимость заставит меня прибегнуть к тем крайним мерам, к которым когда-то в подобном же случае прибег мой отец». Угроза подействовала. Вор, не зная, чего бояться, но предполагая нечто необыкновенно страшное, испугался и тайком возвратил лошадь. Барин, обрадованный таким исходом дела, признавался своим приятелям, что он очень счастлив тем, что ему не понадобилось последовать примеру своего отца. — Что же, однако, сделал ваш отец? — спросили его. — Вы спрашиваете, что сделал мой отец? Извольте, я вам скажу… Когда на постоялом дворе у него украли лошадь, он надел седло себе на спину и вернулся домой пешком. Клянусь, я сделал бы то же самое, если бы вор не был так добр и обязателен! Финтифлюшки Один российский самодур, некий граф Рубец-Откачалов, ужасно кичился древностью своего рода и доказывал, что род его принадлежит к самым древним… Не довольствуясь историческими данными и всем тем, что он знал о своих предках, он откопал где-то два старых, завалящих портрета, изображавших мужчину и женщину, и под одним велел подписать: «Адам Рубец-Откачалов», под другим — «Ева Рубец-Откачалова»… Другого графа, возведенного в графское достоинство за свои личные заслуги, спросили, почему на его карете нет герба. — А потому, — отвечал он, — что моя карета гораздо старее моего графства… Управляющий имениями одного помещика доложил своему барину, что на его землях охотятся соседи, и просил разрешения не дозволять больше подобного своевольства… — Оставь, братец! — махнул рукой помещик. — Мне много приятнее иметь друзей, нежели зайцев. Очень рассеянный, но любивший давать отеческие советы, мировой судья спросил однажды у судившегося у него вора: — Как это вы решились на воровство? — С голода, ваше высокородие! Голод ведь и волка из лесу гонит! — Напрасно, он должен работать! — строго заметил судья. Прокурор окружного суда, узнав в одном из подсудимых своего товарища по школе, спросил его между прочим, не знает ли он, что сталось и с остальными его товарищами? — Исключая вас и меня, все в арестантских ротах, — отвечал подсудимый. Ворона Было не больше шести часов вечера, когда блуждавший по городу поручик Стрекачев, идя мимо большого трехэтажного дома, случайно бросил взгляд на розовые занавески бельэтажа. — Тут мадам Дуду живет… — вспомнил он. — Давно уж я у нее не был. Не зайти ли? Но прежде, чем решить этот вопрос, Стрекачев вынул из кармана кошелек и робко взглянул в него. Увидел он там один скомканный, пахнущий керосином рубль, пуговицу, две копейки и — больше ничего. — Мало… Ну, да ничего, — решил он. — Зайду так, посижу немножко. Через минуту Стрекачев стоял уже в передней и полною грудью вдыхал густой запах духов и глицеринового мыла. Пахло еще чем-то, чего описать нельзя, но что можно обонять в любой женской, так называемой одинокой квартире: смесь женских пачулей с мужской сигарой. На вешалке висело несколько манто, ватер-пруфов и один мужской лоснящийся цилиндр. Войдя в залу, поручик увидел то же, что видел он и в прошлом году: пианино с порванными нотами, вазочку с увядающими цветами, пятно на полу от пролитого ликера… Одна дверь вела в гостиную, другая в комнатку, где m-me Дуду спала или играла в пикет с учителем танцев Вронди, старцем, очень похожим на Оффенбаха. Если взглянуть в гостиную, то прямо видна была дверь и из нее выглядывал край кровати с кисейным розовым пологом. Там жили «воспитанницы» m-me Дуду, Барб и Бланш. В зале никого не было. Поручик направился в гостиную и тут увидел живое существо. За круглым столом, развалясь на диване, сидел какой-то молодой человек с щетинистыми волосами и синими мутными глазами, с холодным потом на лбу и с таким выражением, как будто вылезал из глубокой ямы, в которой ему было и темно и страшно. Одет он был щегольски, в новую триковую пару, которая носила еще на себе следы утюжной выправки; на груди болтался брелок; на ногах лакированные штиблеты с пряжками, красные чулки. Молодой человек подпирал кулаками свои пухлые щеки и тускло глядел на стоявшую перед ним бутылочку зельтерской. Тут же на другом столе было несколько бутылок, тарелка с апельсинами. Взглянув на вошедшего поручика, франт вытаращил глаза, разинул рот. Удивленный Стрекачев сделал шаг назад… Во франте с трудом узнал он писаря Филенкова, которого он не далее как сегодня утром распекал в канцелярии за безграмотно написанную бумагу, за то, что слово «капуста» он написал так: «копусста». Филенков медленно поднялся и уперся руками о стол. Минуту он не спускал глаз с лица поручика и даже посинел от внутреннего напряжения. — Ты как же это сюда попал? — строго спросил у него Стрекачев. — Я, ваше благородие, — залепетал писарь, потупя взор, — на дне рождения-с… При всеобщей повинной военности, когда всех уравняли, которые… — Я тебя спрашиваю, как ты сюда попал? — возвысил голос поручик. — И что это за костюм? — Я, ваше благородие, чувствую свою виновность, но… ежели взять, что при всеобщей повинной… военной всеобщности всех уравняли, и к тому как я все-таки человек образованный, не могу на дне рождения мамзель Барб существовать в форме нижнего чина, то я и надел оный костюм соответственно своему домашнему обиходу, как я, значит, потомственный почетный гражданин. Увидев, что глаза поручика становятся всё сердитее, Филенков умолк и нагнул голову, словно ожидая, что его сейчас трахнут по затылку. Поручик раскрыл рот, чтобы произнести «пошел вон!», но в это время в гостиную вошла блондинка с поднятыми бровями, в капоте ярко-желтого цвета. Узнав поручика, она взвизгнула и бросилась к нему. — Вася! Офицер!! Увидев, что Барб (это была одна из воспитанниц m-me Дуду) фамильярна с поручиком, писарь оправился и ожил. Растопырив пальцы, он выскочил из-за стола и замахал руками. — Ваше благородие! — заговорил он, захлебываясь. — Со днем рождения имею честь поздравить любимого существа! В Париже такой не сыщешь! Именно-с! Огонь! Трех сотенных не пожалел, а сшил ей этот капот по случаю дня рождения любимого существа! Ваше благородие, шампанского! За новорожденную! — А где Бланш? — спросил поручик. — Сейчас выйдет, ваше благородие! — ответил писарь, хотя вопрос относился не к нему, а к Барб. — Сию минуту! Девица а ля компрене аревуар консоме! Намедни купец из Костромы приезжал, пятьсот отвалил… Легко ли дело, пятьсот! Я тыщу дам, только спервоначалу характер мой уважь! Так ли я рассуждаю? Ваше благородие, пожалуйте-с! Писарь подал поручику и Барб по стакану шампанского, а сам выпил рюмку водки. Поручик выпил, но тотчас же спохватился. — Ты, я вижу, позволяешь себе лишнее, — сказал он. — Ступай-ка отсюда и скажи Демьянову, чтобы он тебя посадил на сутки. — Ваше благородие, да, может, вы думаете, что я какой ни на есть свинья? Так вы думаете? Господи! Да ведь мой папаша потомственный почетный гражданин, орденов кавалер! Меня, ежели желаете знать, генерал крестил. А вы думаете, что я ежели писарь, то уж и свинья?.. Пожалуйте еще стаканчик… шипучечки… Барб, лупи! Не стесняйся, за всё можем заплатить. При современной образованности всех уравняли. Генеральский или купеческий сын идет на службу всё равно как мужик.[171] Я, ваше благородие, был и в гимназии, и в реальном, и в коммерческом… Везде выгоняли! Барб, лупи! Бери радужную, посылай за дюжинкой! Ваше благородие, стаканчик! Вошла m-me Дуду, высокая полная дама с ястребиным лицом. За ней семенил Вронди, похожий на Оффенбаха. Немного погодя вошла и Бланш, маленькая брюнетка, лет 19-ти, со строгим лицом и с греческим носом, по-видимому, еврейка. Писарь выбросил еще одну радужную. — Жарь на все! Жги! Позвольте мне эту вазу разбить! От чувств! M-me Дуду начала рассказывать, что теперь всякая честная девушка может составить себе приличную партию и что девушкам пить неприлично, а если она и позволяет своим девочкам пить, то только потому, что надеется, что мужчины порядочные, а будь мужчины другие, она и сидеть бы им здесь не позволила. От вина и соседства Бланш у поручика стала кружиться голова, и он забыл о писаре. — Музыку! — кричал отчаянным голосом писарь. — Подавай музыку! На основании приказа за номером сто двадцатым предлагаю вам танцевать! Ти-ише! — продолжал орать во всё горло писарь, думая, что это не он сам кричит, а кто-то другой. — Ти-ише! Я желаю, чтоб танцевали! Вы должны мой характер уважить! Качучу! Качучу! Барб и Бланш посоветовались с m-me Дуду, старик Вронди сел за пианино. Танец начался. Филенков, топая в такт ногами, следил за движениями четырех женских ног и ржал от удовольствия. — Рви! Верно! Чувствуй! Отдирай, примерзло! Немного погодя вся компания поехала в колясках в «Аркадию». Филенков ехал с Барб, поручик с Бланш, Вронди с m-me Дуду. В «Аркадии» заняли стол и потребовали ужин. Тут Филенков до того допился, что охрип и потерял способность махать руками. Он сидел мрачный и говорил, моргая глазами, как бы собираясь заплакать: — Кто я? Нешто я человек? Я ворона! Потомственный почетный гражданин… — передразнил он себя. — Ворона ты, а не гра…гражданин. Поручик, отуманенный вином, почти не замечал его. Раз только, увидев в тумане его пьяную физиономию, он нахмурил брови и сказал: — Ты, я вижу, позволяешь себе очень… Но тотчас же потерял способность соображать и чокнулся с ним. Из «Аркадии» поехали в Крестовский сад. Тут m-me Дуду простилась с молодежью, сказав, что она вполне надеется на порядочность мужчин, и уехала с Вронди. Потом потребовали для освежения кофе с коньяком и ликеров. Потом квасу, и водки, и зернистой икры. Писарь вымазал себе лицо икрой и сказал: — Я теперь араб или вроде как бы нечистый дух. На другой день утром поручик, чувствуя в голове свинец, а во рту жар и сухость, отправился к себе в канцелярию. Филенков сидел на своем месте в писарской форме и дрожащими руками сшивал какие-то бумаги. Лицо его было сумрачно, не гладко, точно булыжник, щетинистые волосы глядели в разные стороны, глаза слипались… Увидев поручика, он тяжело поднялся, вздохнул и вытянулся во фронт. Поручик, злой и не опохмелившийся, отвернулся и занялся своим делом. Минут десять длилось молчание, но вот глаза его встретились с мутными глазами писаря, и в этих глазах прочел он всё: красные занавесочки, раздирательный танец, «Аркадию», профиль Бланш… — При всеобщей повинной военности… — забормотал Филенков, — когда даже… профессоров в солдаты берут… когда всех уравняли… и даже свобода гласности… Поручик хотел распечь его, послать к Демьянову, но махнул рукой и сказал тихо: — А ну тебя к чёрту! И вышел из канцелярии. Кулачье гнездо Вокруг заброшенной барской усадьбы средней руки группируется десятка два деревянных, на живую нитку состроенных дач. На самой высокой и видной из них синеет вывеска «Трактир» и золотится на солнце нарисованный самовар. Вперемежку с красными крышами дач там и сям уныло выглядывают похилившиеся и поросшие ржавым мохом крыши барских конюшен, оранжерей и амбаров. Майский полдень. В воздухе пахнет постными щами и самоварною гарью. Управляющий Кузьма Федоров, высокий пожилой мужик в рубахе навыпуск и в сапогах гармоникой, ходит около дач и показывает их дачникам-нанимателям. На лице его написаны тупая лень и равнодушие: будут ли наниматели или нет, для него решительно всё равно. За ним шагают трое: рыжий господин в форме инженера-путейца, тощая дама в интересном положении и девочка-гимназистка. — Какие, однако, у вас дорогие дачи, — морщится инженер. — Всё в четыреста да в триста рублей… ужасно! Вы покажите нам что-нибудь подешевле. — Есть и подешевле… Из дешевых только две остались… Пожалуйте! Федоров ведет нанимателей через барский сад. Тут торчат пни да редеет жиденький ельник; уцелело одно только высокое дерево — это стройный старик тополь, пощаженный топором словно для того только, чтобы оплакивать несчастную судьбу своих сверстников. От каменной ограды, беседок и гротов остались одни только следы в виде разбросанных кирпичей, известки и гниющих бревен. — Как всё запущено! — говорит инженер, с грустью поглядывая на следы минувшей роскоши. — А где теперь ваш барин живет? — Они не барин, а из купцов. В городе меблированные комнаты содержат… Пожалте-с! Наниматели нагибаются и входят в маленькое каменное строение с тремя решетчатыми, словно острожными, окошечками. Их обдает сыростью и запахом гнили. В домике одна квадратная комнатка, переделенная новой тесовой перегородкой на две. Инженер щурит глаза на темные стены и читает на одной из них карандашную надпись: «В сей обители мертвых заполучил меланхолию и покушался на самоубийство поручик Фильдекосов». — Здесь, ваше благородие, нельзя в шапке стоять, — обращается Федоров к инженеру. — Почему? — Нельзя-с. Здесь был склеп, господ хоронили. Ежели которую приподнять доску и под пол поглядеть, то гробы видать. — Какие новости! — ужасается тощая дама. — Не говоря уж о сырости, тут от одной мнительности умрешь! Не желаю жить с мертвецами! — Мертвецы, барыня, не тронут-с. Не бродяги какие-нибудь похоронены, а ваш же брат — господа. Прошлым летом здесь, в этом самом склепе, господин военный Фильдекосов жили и остались вполне довольны. Обещались и в этом году приехать, да вот что-то не едут. — Он на самоубийство покушался? — спросил инженер, вспомнив о надписи на стене. — А вы откуда знаете? Действительно, это было, сударь. И из-за чего-то вся канитель вышла! Не знал он, что тут под полом, царствие им небесное, покойники лежат, ну и вздумал, значит, раз ночью под половицу четверть водки спрятать. Поднял эту доску, да как увидал, что там гробы стоят, очумел. Выбежал наружу и давай выть. Всех дачников в сумление ввел. Потом чахнуть начал. Выехать не на что, а жить страшно. Под конец, сударь, не вытерпел, руку на себя наложил. Мое то счастье, что я с него вперед за дачу сто рублей взял, а то так бы и уехал, пожалуй, от перепугу. Пока лежал да лечился, попривык… ничего… Опять обещался приехать: «Я, говорит, такие приключения смерть как люблю!» Чудак! — Нет, уж вы нам другую дачу покажите. — Извольте-с. Еще одна есть, только похуже-с. Кузьма ведет дачников в сторону от усадьбы, к месту, где высится оборванная клуня… За клуней блестит поросший травою пруд и темнеют господские сараи. — Здесь можно рыбу ловить? — спрашивает инженер. — Сколько угодно-с… Пять рублей за сезон заплатите и ловите себе на здоровье. То есть удочкой в реке можно, а ежели пожелаете в пруду карасей ловить, то тут особая плата. — Рыба пустяки, — замечает дама, — и без нее можно обойтись. А вот насчет провизии. Крестьяне носят сюда молоко? — Крестьянам сюда не велено ходить, сударыня. Дачники провизию обязаны у нас на ферме забирать. Такое уж условие делаем. Мы не дорого берем-с. Молоко четвертак за пару, яйца, как обыкновенно, три гривенника за десяток, масло полтинник… Зелень и овощь разную тоже у нас должны забирать. — Гм… А грибы у вас есть где собирать? — Ежели лето дождливое, то и гриб бывает. Собирать можно. Взнесете за сезон шесть рублей с человека и собирайте не только грибы, но даже и ягоды. Это можно-с. К нашему лесу дорога идет через речку. Желаете — в брод пойдете, не желаете — идите через лавы. Всего пятачок стоит через лавы перейтить. Туда пятачок и оттеда пятачок. А ежели которые господа желают охотиться, ружьем побаловаться, то наш хозяин не прекословит. Стреляй сколько хочешь, только фитанцию при себе имей, что ты десять рублей заплатил. И купанье у нас чудесное. Берег чистенький, на дне песок, глубина всякая: и по колено, и по шею. Мы не стесняем. За раз пятачок, а ежели за сезон, то четыре с полтиной. Хоть целый день в воде сиди! — А соловьи у вас поют? — спрашивает девочка. — Намеднись за рекой пел один, да сынишка мой поймал, трактирщику продал. Пожалте-с! Кузьма вводит нанимателей в ветхий сарайчик с новыми окнами. Внутри сарайчик разделен перегородками на три каморки. В двух каморках стоят пустые закрома. — Нет, куда же тут жить! — заявляет тощая дама, брезгливо оглядывая мрачные стены и закрома. — Это сарай, а не дача. И смотреть нечего, Жорж… Тут, наверное, и течет и дует. Невозможно жить! — Живут люди! — вздыхает Кузьма. — На бесптичье, как говорится, и кастрюля соловей, а когда нет дач, так и эта в добрую душу сойдет. Не вы наймете, так другие наймут, а уж кто-нибудь да будет в ней жить. По-моему, эта дача для вас самая подходящая, напрасно вы, это самое… супругу свою слушаете. Лучше нигде не найтить. А я бы с вас и взял бы подешевле. Ходит она за полтораста, а я бы сто двадцать взял. — Нет, милый, не идет. Прощайте, извините, что обеспокоили. — Ничего-с. Будьте здоровы-с. И, провожая глазами уходящих дачников, Кузьма кашляет и добавляет: — На чаек бы следовало с вашей милости. Часа два небось водил. Полтинничка-то уже не пожалейте! Кое-что об А. С. Даргомыжском Вот две маленькие были об А. С. Даргомыжском, слышанные мною о нем от одного из его почитателей и хороших знакомых, Вл. П. Б—ва.[172] Случилось, что Александр Сергеевич и автор «Тарантаса» граф В. А. Соллогуб[173] по приезде в Москву остановились в одно и то же время на квартире г. Б. Однажды в сумерках граф лежал на диване и что-то читал, а композитор стоял посреди комнаты и думал думу. — Послушай, Александр Сергеич, — обратился литератор к композитору, — будь другом, поставь поближе ко мне свечу, а то ничего не видно… — В данную минуту мне приходится оригинальничать, — сказал Даргомыжский, принимая с комода свечу и ставя ее на столик перед В. А. Соллогубом. — Обыкновенно я ставлю свечи перед образами, теперь же приходится ставить свечу перед образиной… В одно время мнительному А. С. казалось, что московское отделение Русского музыкального общества с Н. Г. Рубинштейном во главе питает к нему неприязненные чувства, и он стал избегать встреч с директором Общества, а при встречах на мнимую неприязнь отвечал холодом и сухостью. Заметив в приятеле такую перемену, Н. Г. Рубинштейн совершенно потерялся в догадках и в конце концов отнес ее на долю сплетен. — Что мне делать! — недоумевал он однажды, беседуя с г. Б—ым. — Даргомыжский совсем от рук отбился. Холоден, сентябрем глядит, избегает меня… Что я ему сделал? За что он на меня сердится? — А ты объяснись с ним, — посоветовал г. Б. — Где же я могу с ним объясниться? И как? Он бегает меня! — Погоди, я это устрою. Позову его к себе, а ты придешь и объяснишься с ним… Ты подойди к нему и, знаешь, этак дружески возьми его за руку и скажи: «Дорогой мой, откуда эта холодность? Ведь вы знаете, я вас всегда так любил, так уважал ваш талант…» и всё в таком же роде, потом обойми его и поцелуй… по-дружески… Раскиснет! Н. Г. Рубинштейн принял этот план целиком… Надо сказать, что покойный А. С. терпеть не мог целоваться с мужчинами. — С женщиной еще так и сяк, — говаривал он, — с мужчиной же — ну тебя к чёрту! Чтобы рассердить А. С. и вывести его из себя, достаточно было кому-либо из представителей непрекрасного пола подкрасться к нему и чмокнуть его в щеку… — Дурак! — бранился он, вытирая рукавом место поцелуя. — Дурак! Болван! Свидание было устроено. — Дорогой мой! — начал Н. Г. Рубинштейн, беря за руку композитора. — Скажите, ради бога, за что вы на меня сердитесь? Что я вам сделал худого? Напротив, я всегда любил вас, уважал ваш талант… И Н. Г. обнял А. С. и быстро поцеловал его в губы. Каково же было его удивление, когда А. С. вместо того, чтобы раскиснуть, вырвался из объятий Н. Г. и, выбегая из комнаты, пустил по адресу директора Общества и г. Б—ва внушительного «дурака». Впоследствии, когда мир был водворен, это свидание, устроенное г. Б. на потеху, долго смешило как Н. Г., так и самого А. С. Бумажник Три странствующих актера — Смирнов, Попов и Балабайкин шли в одно прекрасное утро по железнодорожным шпалам и нашли бумажник. Раскрыв его, они, к великому своему удивлению и удовольствию, увидели в нем двадцать банковых билетов, шесть выигрышных билетов 2-го займа и чек на три тысячи. Первым делом они крикнули «ура», потом же сели на насыпи и стали предаваться восторгам. — Сколько же это на каждого приходится? — говорил Смирнов, считая деньги. — Батеньки! По пяти тысяч четыреста сорока пяти рублей! Голубчики, да ведь это умрешь от таких денег! — Не так я за себя рад, — сказал Балабайкин, — как за вас, голубчики мои милые. Не будете вы теперь голодать да босиком ходить. Я за искусство рад… Прежде всего, братцы, поеду в Москву и прямо к Айе: шей ты мне, братец, гардероб… Не хочу пейзанов играть, перейду на амплуа фатов да хлыщей. Куплю цилиндр и шапокляк. Для фатов серый цилиндр. — Теперь бы на радостях выпить и закусить, — заметил jeune premier[174] Попов. — Ведь мы почти три дня питались всухомятку, надо бы теперь чего-нибудь этакого… А?.. — Да, недурно бы, голубчики мои милые… — согласился Смирнов. — Денег много, а есть нечего, драгоценные мои. Вот что, миляга Попов, ты из нас самый молодой и легкий, возьми-ка из бумажника рублевку и маршируй за провизией, ангел мой хороший… Воо-оон деревня! Видишь, за курганом белеет церковь? Верст пять будет, не больше… Видишь? Деревня большая, и ты всё там найдешь… Купи водки бутылку, фунт колбасы, два хлеба и сельдь, а мы тебя подождем здесь, голубчик, любимый мой… Попов взял рубль и собрался уходить. Смирнов со слезами на глазах обнял его, поцеловал три раза, перекрестил и назвал его голубчиком, ангелом, душой… Балабайкин тоже обнял и поклялся в вечной дружбе — и только после целого ряда излияний, самых чувствительных, трогательных, Попов спустился с насыпи и направил стопы свои к темневшей вдали деревеньке. «Ведь этакое счастье! — размышлял он дорогой. — Не было ни гроша, да вдруг алтын. Махну теперь в родную Кострому, соберу труппу и выстрою там свой театр. Впрочем… за пять тысяч нынче и сарая путного не выстроишь. Вот если бы весь бумажник был мой, ну, тогда другое дело… Такой бы театрище закатил, такой, что мое почтение. Собственно говоря, Смирнов и Балабайкин — какие это актеры? Это бездарности, свиньи в ермолке, тупицы… Они деньги на пустяки изведут, а я бы пользу отечеству принес и себя бы обессмертил… Вот что я сделаю… Возьму и положу в водку яду. Они умрут, но зато в Костроме будет театр, какого не знала еще Россия. Кто-то, кажется, Мак-Магон, сказал, что цель оправдывает средства, а Мак-Магон был великий человек. Пока он шел и рассуждал так, спутники его Смирнов и Балабайкин сидели и вели такую речь: — Наш друг Попов славный малый, — говорил Смирнов со слезами на глазах, — люблю я его, глубоко ценю за талант, влюблен в него, но… знаешь ли? — эти деньги сгубят его… Он или пропьет их, или же пустится в аферу и свернет себе шею. Он так молод, что ему рано еще иметь свои деньги, голубчик ты мой хороший, родной мой… — Да, — согласился Балабайкин и поцеловался со Смирновым. — К чему этому мальчишке деньги? Другое дело мы с тобой… Мы люди семейные, положительные… Для нас с тобой лишний рубль многое уж значит… (Пауза.) Знаешь что, брат? Не станем долго разговаривать и сентиментальничать: возьмем да и убьем его!.. Тогда тебе и мне придется по восьми тысяч. Убьем его, а в Москве скажем, что он под поезд попал…. Я тоже люблю его, обожаю, но ведь интересы искусства, полагаю, прежде всего. К тому же он бездарен и глуп, как эта шпала. — Что ты, что?! — испугался Смирнов. — Это такой славный, честный… Хотя с другой стороны, откровенно говоря, голубчик ты мой, свинья он порядочная, дурррак, интриган, сплетник, пройдоха… Если мы в самом деле убьем его, то он сам же будет благодарить нас, милый ты мой, дорогой… А чтобы ему не так обидно было, мы в Москве напечатаем в газетах трогательный некролог. Это будет по-товарищески. Сказано — сделано… Когда Попов вернулся из деревни с провизией, товарищи обняли его со слезами на глазах, поцеловали, долго уверяли его, что он великий артист, потом вдруг напали на него и убили. Чтобы скрыть следы преступления, они положили покойника на рельсы… Разделив находку, Смирнов и Балабайкин, растроганные, говоря друг другу ласковые слова, стали закусывать, в полной уверенности, что преступление останется безнаказанным… Но добродетель всегда торжествует, а порок наказывается. Яд, брошенный Поповым в бутылку с водкой, принадлежал к сильно действующим: не успели друзья выпить по другой, как уже бездыханные лежали на шпалах… Через час над ними с карканьем носились вороны. Мораль: когда актеры со слезами на глазах говорят о своих дорогих товарищах, о дружбе и взаимной «солидарности», когда они обнимают и целуют вас, то не очень увлекайтесь. Подписи к рисункам Свадебный сезон Рисунки Н. ЧЕХОВА  — Господа шафера! Черти! Подождите, Марья Власьевна потерялась.  Невеста. Прекрасна и невинна. Выходит замуж по любви. Жених. Телеграфист в отставке. Восхитительно грациозен, грациозно восхитителен и… глуп как пробка. Пахнет помадой и фиксатуаром. Женится из-за приданого.  Папа невесты. Пьет запоем. Влюблен в соседскую кухарку. Пророчит войну с немцами и взятие в плен Бисмарка. Ужасный политик. Чиновник.  Мама невесты. Гроза супруга. 20-го числа каждого месяца ходит в присутственное место и получает вместо мужа жалованье. Мужа величает разбойником, антихристом и егозой.  Посажёный отец жениха. Дон-Жуан, старожил и политик. Говорит почему-то по-итальянски. Отлично подрубляет платки и за неимением дела шьет на машине Надежды Ивановны.  Шафер невесты. Отставной прапорщик и забулдыга. Родившись, прежде чем крикнуть, выпил стакан водки. Ищет приличной партии с 100 000 приданого.  Шафер жениха. Губернский секретарь, всеобщий шафер и сердцеед. Отлично играет на гитаре.  Посажёная мать жениха. Петербургская тетушка. Говорит в нос и презирает «невежество». Молодость провела бурно. Музыканты 1-я скрипка Альт Кларнет Контрабас Прекрасные люди, но страшные пьяницы. Непризнанные таланты. Уверяют, что Бетховен очень хороший музыкант. Слова «композитор» не понимают.  Петрушка. Непременный член похоронных и свадебных процессий. Кос на оба глаза.  Кондитер Фай. ОПИСЬ ПРИДАНОГО Утюг. 3 стула. Зеленая лампа. Мышеловка. Кровать с клопами и прочими принадлежностями. Стол с пауками. Перина, на которой в прошлом году умерла бабушка. Кофейная мельница. Самоварная труба. 2 подушки. Щеколда от неизвестной двери. Картина масляными красками, изображающая «падение нравственности» от употребления горячих напитков. Картина, изображающая «борьбу стихий, или смерть от взгляда женщины». Еще что-то. Вексель на 300 р. сроком по 1889 год.  Царица бала. СЧЕТ РАСХОДЫ ПО СВАДЬБЕ Кондитеру с генералом — 27 р. 22 к. Музыкантам — 4 р. Музыкантам водка — 5 р. 75 к. Лакею из клуба — 1 р. На водку ему же — 25 К. Городовому за вывод из апартаментов буянившего Митрофана Егорыча[175] — 25 к. Фиксатуар жениху — 50 к. Кучерам на водку — 1 р. 80 к. 4 кареты — 8 р. Папиросы шаферам — 60 к. Нищим — 14 к. Сода и кислота — 30 к.  Настройщик Курт. И как ми все живем в Россия и ми имеем русски языки, то я желаю выпивать за здоровье наших дамов. Николай Стаматич.[176] Господа! Нас убивает индифферентизм! Будем же, пока молоды, нашептывать баллады женскому полонезу и глотать метральезы любви. Поднимаю фиал за здоровье молодых! Жених. Я па-ла-гаю, что любовь есть самое чувствительное чувство. Я чувствую такие чувства, каких вы никогда не чувствовали. Все. Урра!!. К сведению трутней Рисунок В. И. ПОРФИРЬЕВА.  — Пчелы убивают и изгоняют своих мужей и братьев. Уцелевшие трутни, изнеженные от природы, не способные к труду, лентяи и дармоеды, летают по миру и ищут дарового куска хлеба. Прилетев к улью, они встречают более чем холодный прием: в улье их жалят и гонят вон. Садясь же на цветок, они не знают, как взяться за дело, — ну и голодают. Зимой приходится замерзать… — Глупы эти трутни! — перебивает зоолога туз. — Они не знают, что у них есть прекрасный выход из их ужасного положения. Знаете, что бы я сделал, будучи на их месте? — А что? — На их месте я взял бы в аренду цветы… Не знаю, кто был бы тогда сытее: пчелы или я… Вероятно, я! Вагонное освещение Тема А. ЧЕХОНТЕ. Рисунок А. И. ЛЕБЕДЕВА.  — Ваш билет! Кому говорят! Ваш билет! Из театрального мира Тема А. ЧЕХОНТЕ. Рисунок В. И. ПОРФИРЬЕВА.  Антрепренер. Вы желаете служить у меня хористкой, но теперь у меня нет ваканции… Когда будет, с удовольствием. Оставьте ваш адрес. Она. Вот мои визитные карточки. Антрепренер. Для чего же так много? Мне довольно и одной. Она. Ничего… Остальные раздадите знакомым… На вечеринке Тема А. ЧЕХОНТЕ. Рисунок В. И. ПОРФИРЬЕВА.  — Виноват-с, позвольте пройти, ваше превосходительство!.. — Вы ошибаетесь: я не «ваше превосходительство». — Так чего ж вы в дверях-то остановились? Проходите… На Луне (Сцена, не попавшая в феерию Лентовского «Путешествие на Луну») Тема Ан. Ч—е. Рисунок В. И. ПОРФИРЬЕВА.  Первый лунный астроном. Посмотрите-ка, коллега, какой на Земле яркий свет, в том месте, где город Гродно находится! Это, должно быть, громадный пожар. Вероятно, горит целый город. Второй лунный астроном. Что вы, помилуйте! Просто где-нибудь блестящая увеселительная иллюминация. Первый лунный астроном. Почему вы так думаете, коллега? Второй лунный астроном. Я полагаю, что случись такой страшный пожар, то люди забегали бы, засуетились, начали бы собирать подписки на помощь несчастным погорельцам, образовались бы благотворительные комитеты, появился бы кружечный сбор в пользу лишившихся крова… А этого ничего нет; на Земле всё тихо, спокойно и все предаются крепкому, мирному сну. Очевидно, что всё обстоит благополучно. Поэтические грезы Тема А. ЧЕХОНТЕ. Рисунок А. И. ЛЕБЕДЕВА.  — Если бы вместо этой кошечки да сдобная купеческая дочка… А у купеческой дочки триста — четыреста тысяч… А на те триста тысяч да купить бы домик… вороных… На тройках с душками… Катюшу бы в люди вывел… Три рисунка Темы А. ЧЕХОНТЕ. Рисунки Н. А. БОГДАНОВА.  — А еще тоже дворники смеют утверждать, что у меня нет вида!  — Какая у вас беленькая шейка! — У меня и всё тело такое, честное слово!.. — Свидетельница Пожарова! Я зову вас к столу уже полчаса, и вы не являетесь… Где вы были? Вы глухи? — Нет-с… Я была здесь… Не подходила же потому, что я уже не Пожарова… Я вчера вышла замуж… В ученом мире Тема А. ЧЕХОНТЕ. Рисунки В. И. ПОРФИРЬЕВА. ЖЕРТВА НАУКИ  — Днем ты читаешь свои отвратительные лекции, после обеда спишь, как убитый, ночью в телескоп смотришь на звезды… Всю ночь! И это тянется со дня нашей свадьбы! Ужасно! Неужели, варвар, тебе не нужно потомства? ДЕТИ  Мой отец профессор, тайный советник, известен, книг много написал, но, между нами… он бездарность… тупица… — А мой-то? Ты не знаешь моего! Брось ты, говорю ему, свою дурацкую физиологию, займись ты практикой! Практика даст тебе двадцать тысяч в год! Так нет, не соглашается, старая скотина! Для него, видишь ли, жалованья одного достаточно… ЯРЫЙ  — Я доказал существование души! Я пойду еще далее, чёрт возьми! Я докажу им, что душа — газообразное тело и что она обращается в жидкое тело под давлением семисот атмосфер! Да-с!! СПЕЦИАЛИСТЫ В БАНЕ  — Когда я гляжу на этих людей, мне кажется, что я у себя в мертвецкой. — А мне кажется, что всё это натурщики. АНАТОМ ГРУБЕР ВИНОВАТ[177]  — Не беспокойте ее, господа! Уйдемте из комнаты… У нее, у бедняжки, семейное несчастье! Ее муж получил из анатомии двойку! УЧЕНЫЙ ЛОВЕЛАС 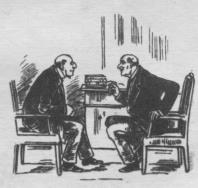 — Хе-хе-хе… Я ее зазвал… угостил ужином и шампанским… Браслетку ей пообещал купить… А когда она опьянела и склонилась ко мне на грудь, я взял да и измерил ее череп! Прекрасный галльский тип! Вы знаете, чему равен задне-передний диаметр ее черепа? Вы не поверите! Женщина-классик Тема А. ЧЕХОНТЕ. Рисунок А И. ЛЕБЕДЕВА.  — У вас страшное декольте! И вам не стыдно в таком костюме, в нашем обществе? — Нисколько! Римлянки не стыдились раздеваться и даже купаться при рабах. Я подражаю римским матронам. Самая бедная бедность Тема А. ЧЕХОНТЕ. Рисунок А. И. ЛЕБЕДЕВА.  — Пошел бы по миру, да подходящего костюма нет! Die russische Natur Рисунок Н. ЧЕХОВА.  Один честный, но глупый немец, патриот и большой любитель всего прекрасного, раскрыл однажды какую-то русскую книгу и на стр. 83 прочел следующее: «Был вечер… Солнце заходило и обливало золотистым пурпуром землю. Легкий зефир нежно колыхал спеющую рожь. В воздухе стоял вечерний концерт… Пели птицы… В синеве неба висел неподвижно жаворонок и щебетал свою звонкую песню. В траве трещали кузнечики, тянули свою однообразную песню скрипачи… На листьях, сверкавших росой, ползали божьи коровки… С цветка на цветок порхали чудные бабочки…» Это поэтическое описание произвело сильное впечатление на любителя всего прекрасного… Глубоко вздохнув, он взял в руки немецко-русский словарь и занялся переводом… Перевод вышел точный, буквальный, как всё немецкое… Честный патриот, однако, не довольствовался одним переводом. Он еще раз вдохновился, взял в руки карандаш и создал… Создав, он выпил пива… Его создание и предлагаем на рассмотрение поклонников хорошей живописи. Современная Маргарита Тема А. ЧЕХОНТЕ. Рисунок В. И. ПОРФИРЬЕВА.  — Ведь ты Маргарита… Где же твой жених Фауст? — Видишь ли, голубчик… Хотя мой папаша был сыщиком и нашел много воров и мошенников, но не мог найти мне ни одного жениха… Из этого я заключаю, что теперь гораздо больше воров, чем женихов… «Как мила ты сегодня…» Рисунок Н. ЧЕХОВА  — Как мила ты сегодня, сестренка! Как хороша! Твои глазки светятся таким умом и такой добротой, что, будь я мужчиной, я тебя каждый день угощала бы ужином! К тебе так идут эта бледность, грустное выражение лица, эти слезинки на ресницах, что я готова утопить тебя в шампанском! Зачем я не мужчина!? Троицын день Рисунок К. А. ТРУТОВСКОГО.  Наша поэтическая Малороссия любит Троицын день. Ее песни и обычаи из всех весенних дней отдают преимущество этому хорошему дню — и недаром. Можно держать пари, что в то время, когда мы видим зелень только на зеленых материях и в зеленых чертиках дачного винопийства там, в Хохландии, к этому дню уже успела развернуться во всей своей красоте весна. Там пахнет теперь сиренью, черемухой и акацией. Земля не грязна, не холодна, как у нас; в речках за зеленеющим камышом от утра до ночи уже горланят купающиеся парни и девки. Соловей спел уже свои лучшие романсы, а у степного донжуана — перепела уже начинает испаряться благородная страсть, ради которой он кричит день и ночь. Там только и возможен обычай, с которым знакомит читателя рисунок талантливого К. А. Трутовского. Этот интересный обычай заключается в следующем: девки плетут из цветов венки, идут к реке и бросают их в воду. В какую сторону венок поплывет, в той стороне и суженый живет. Коротко, ясно и просто. Тут вы имеете компас в его примитивной форме. Открыть Америку с ним едва ли можно, но зато будущее угадать очень нетрудно. Так, если венок плывет, то девке быть замужем во что бы то ни стало; если же в воздухе нет ветра и венок неподвижен, то гадальщице остается только повесить нос и разреветься: она не вкусит сладостей Гименея. Если в прошлом году венок плыл направо, а в этом году плывет налево, то это значит, что чубатый «он» за этот год справа налево переселился. Если венок поплывет и его съест корова, то из этого не следует, что жених обитает в коровьем желудке. Если венок плывет направо, потом налево, потом опять направо и начнет таким образом «ковылять», то быть гадальщице в солдатках и соломенных вдовах, и т. д. Сон золотых юнцов во время ноябрьского набора Тема Ан. Ч. Рисунок В. И. ПОРФИРЬЕВА.  … и снятся им приятные сны. Снится, что перед освидетельствованием для приема в число военных новобранцев они похудели, как спички, что рост их в десять раз превышает объем груди, что во рту недостает по тринадцати зубов, что они оказались страдающими пороком сердца, что Сюзетта откусила палец, о чем составлен законный полицейский протокол. Вместе с тем глаза их так близоруки, что они принуждены носить очки с зажигательными стеклами. Одним словом, воинское присутствие отказалось принять их в солдаты. Счастливые! Почерк по чину, или Метаморфозы подписи Карамболева Тема А. Ч. Рисунки А. И. ЛЕБЕДЕВА.    Аптекарская такса Тема А. Ч. Рисунок В. И. ПОРФИРЬЕВА.  — Батюшки! Иван Иванович! В каком вы виде!! — Жена заболела, в аптеке был… Микстуру для нее нужно было взять, да вот порошки… Спасибо — мне, по знакомству, скидку сделали: шляпу и галстук оставили… все-таки не так совестно, знаете ли, в галстуке… Распереканальство!! Тема А. ЧЕХОНТЕ. Рисунки М. М. ДАЛЬКЕВИЧА.  — 500 афганцев! Эка невидаль! Послушайте-ка, что я вам расскажу, так это будет почище всякого Герата![178]  — В 18** году я вступал со своим полком в город Наплюйск, имеющий 5375 жителей. Мои музыканты наяривали марш из «Бокачио»[179] с таким усердием, что кровавый пот тек даже с их лошадей. Обыватели, а в особенности обывательницы, были в восторге.  — Через час я сидел у окна отведенной мне квартиры и обозревал местность. Глаза мои мозолил мой vis-а-vis — полуразвалившийся, сгнивший домишко с вывеской «Повивальная бабка». Стало быть, решил я, здешние повитухи имеют плохой заработок, иначе бы не жили так по-свински. Чёрррт возьми, нужно поддержать промышленность!  Улица. — Я ходил по городу и производил рекогносцировку. Помпошки и амурчики попадались на каждом шагу, одна другой лучше. Глаза мои не успевали подмигивать. Поручик Дерябкин, шельма, лез уже через забор, а каналья фельдфебель шел с какими-то двумя толстыми бабами… Поощряю.  — Прошло полтора года. Я сидел у того же окна и обозревал. Ветхий домишко превратился уже в большой двухэтажный дом. Повитуха глядит на меня в свое окно, кланяется и говорит: «Благодетели вы наши!» Удивительно, что может сделать один энергичный начальник!  — Через 2 года мой полк выступает из Наплюйска. Музыканты валяют марш дефиле[180]. Оставил я Наплюйск, когда в нем было уже 11 000 жителей. А вы еще говорите про Герат да 500 афганцев! Эка невидаль! Шляпный сезон Тема А. Ч. Рисунки А. И. ЛЕБЕДЕВА.  Жил-был на свете дурак Иван Иваныч. Когда наступила весна, он купил себе шляпу — Вы сошли, батенька, с ума! — сказал ему один его приятель. — Нешто вы не знаете, кто теперь носит широкие поля?! Вы бы еще фригийскую шапку надели!![181]  Иван Иваныч струсил и купил себе картуз. Но не долго он был покоен… — В народники записались? — поддразнил его один знакомый старичок. — Хе-хе-хе… Ужо, погодите, расскажу, кому следует!  Знакомый шутил, но на всякий случай Иван Иваныч спрятал картуз и купил себе цилиндр. Цилиндр ему, как видите, очень к лицу, но нужно же ему было встретиться с двоюродным братом! — Что это ты, чучело, в цилиндр нарядился? — сказал брат. — Кто же теперь цилиндры носит? Старики да фаты!  Чтобы не казаться фатом, Иван Иваныч купил белую фуражку с кокардой. Состоя в чине коллежского регистратора, он имел право носить кокарду… — Какой вы, однако, честолюбец! — сказали ему барышни. — Бюрократ! — прошипел один семинарист, читавший Милля и Бокля.[182]  Что тут делать? Иван Иваныч оставил фуражку с кокардой, стал ходить по шляпным магазинам и покупать подходящие шляпы. Купил круглую котелком — ему сказали, что она ему не к лицу. Купил шляпу из панамской соломы — его пристыдили, сказав, что в наше время не патриотично носить шляпы английской работы[183] и к тому же еще из республиканской соломы, надел треуголку — ему сказали, что треуголки носят только в табельные дни… Долго шатался он по магазинам, долго менял шляпы, наконец ошалел, плюнул и стал ходить по городу без шляпы. Два дня проходил он таким образом, но на третий день городовой вежливо заметил ему, что так невозможно, что в благоустроенном государстве нельзя ходить по улицам без шапки: что иностранцы подумают?   И, не зная, что делать, в отчаянии, пришел он домой и, остановившись перед портретом дорогого существа, выстрелил себе в висок. Мир праху твоему, честный труженик!  И после смерти злая судьба не оставила его в покое. Явился в его квартиру судебный пристав и продал с аукциона все шляпы, оставшиеся после покойного. Было выручено 101 р. 82 к. Примечания УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ Архивохранилища ГБЛ — Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина (Москва). ГЛМ — Государственный литературный музей (Москва). ГМТ — Государственный музей Л. Н. Толстого (Москва). ГЦТМ — Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина (Москва). ИРЛИ — Институт русской литературы Академии наук СССР (Ленинград). ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва). ЦГАМ — Центральный государственный архив г. Москвы. ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив в Ленинграде. Печатные источники В ссылках на настоящее издание указываются серия (Сочинения или Письма) и том (соответственно — римскими или арабскими цифрами). Антон Чехов и его сюжеты — М. П. Чехов. Антон Чехов и его сюжеты. М., 1923. Вокруг Чехова — М. П. Чехов. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления. Изд. 4-е. М., 1964. ЛН — Литературное наследство. Т. 68. Чехов. М., изд-во АН СССР, 1960. Письма Ал. Чехова — Письма А. П. Чехову его брата Александра Чехова. Подготовка текста писем к печати, вступительная статья и комментарии И. С. Ежова. Всес. б-ка им. В. И. Ленина. М., 1939. ПР1—14 — А. Чехонте (Ан. П. Чехов). Пестрые рассказы. Издание журнала «Осколки». СПб., 1886; Антон Чехов. Пестрые рассказы. Изд. 2-е, исправленное. Изд. и тип. А. Суворина. СПб., 1891; изд. 3-е, 1892; изд. 4-е, 1893; изд. 5-е, 1894; изд. 6-е, 1895; изд. 7-е, 1895; изд. 8-е, 1896; изд. 9-е, 1897; изд. 10-е, 1897; изд. 11-е, 1898; изд. 12-е, 1898; изд. 13-е, 1899; изд. 14-е, 1899. ПСС — А. П. Чехов. Полное собрание сочинений под ред. А. В. Луначарского и С. Д. Балухатого. Тт. 1—12. М. — Л., Госиздат, 1930—1933. ПССП — А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем Тт. I—XX. М., Гослитиздат, 1944—1951. Чехов — Антон Чехов. Рассказы. Изд. А. Ф. Маркса. СПб., 1899 ‹Сочинения, том 1›; Повести и рассказы. СПб., 1900 ‹Сочинения, том II›; Рассказы. СПб., 1901 ‹Сочинения, том III›. Чехов в воспоминаниях современников — Чехов в воспоминаниях современников. Изд. 4-е. М., Гослитиздат, 1960. Чехов, Лит. архив — А. П. Чехов. Сборник документов и материалов. Подготовили к печати П. С. Попов и И. В. Федоров. Под общей ред. А. Б. Дермана. М., Гослитиздат, 1947 (Литературный архив, т. 1). В третий том Полного собрания сочинений А. П. Чехова вошли произведения, написанные с мая 1884 по май 1885 г., — рассказы, юморески и повесть «Драма на охоте». В особом разделе собраны подписи к рисункам, относящиеся к 1881—1885 годам. В собрание сочинений (издание А. Ф. Маркса) Чехов включил 25 рассказов из 86 произведений основного состава тома. Число рассказов, просмотренных автором при этом, было больше. В архиве Чехова сохранились писарские копии с первопечатных публикаций и журнальные, газетные вырезки рассказов «Идеальный экзамен», «Водевиль». «Кавардак в Риме», «В приюте для неизлечимо больных и престарелых», «О драме», «Задача», «Разговор человека с собакой», «Дипломат», «Кулачье гнездо». На них авторская помета: «В полное собрание не войдет». Известны также перечни рассказов, составленные Чеховым при подготовке издания А. Ф. Маркса (ГБЛ и ЦГАЛИ). В этих списках, сверх перечисленных рассказов, упомянуты: «Дачница», «Либеральный душка», «Оба лучше», «Безнадежный». Рассказы «На гулянье в Сокольниках» и «Бумажник» были в 1899 г. отредактированы Чеховым для собрания сочинений, а затем исключены из его состава. Семь юморесок этой поры — «Самообольщение», «Письмо к репортеру», «Затмение Луны», «Новейший письмовник», «Предписание», «Донесение», «Жизнь прекрасна» — вошли в переработанном виде в подборку «Из записной книжки Ивана Иваныча (Мысли и заметки)» (т. XI Сочинений). В разделе «Варианты» даны своды вариантов к 28 рассказам. Есть образцы сплошной правки Чеховым текста ранних рассказов — см., например, варианты к рассказу «Маска», который был опубликован в журнале «Развлечение» в 1884 г., а через пятнадцать лет переписан Чеховым для собрания сочинений. С другой стороны, Чехов почти не вносил поправок в тексты рассказов «Хамелеон», «Винт», «Устрицы», которые перепечатывались после появления в юмористической прессе во всех четырнадцати изданиях «Пестрых рассказов» и затем вошли в собрание сочинений. Очевидно, для объяснения в одних случаях обилия вариантов, а в других случаях — их малочисленности нужен подробный сопоставительный анализ поэтики раннего и позднего Чехова. Рукописи рассказов 1884 — начала 1885 г., за исключением рассказа «В бане», не сохранились. Расположение по дате написания рассказов привело к изменениям в традиционном размещении их (по дате публикации). Так, из числа произведений конца 1884 г. выведен рассказ «Речь и ремешок», написанный за два года до этого (см. т. I Сочинений). С другой стороны, состав тома пополнился рассказами «Сон» и «Ночь перед судом», которые до этого относили по дате публикации, к декабрю 1885 г. и к 1886 г. Изучение переписки Чехова позволило уточнить даты написания в некоторых случаях с точностью почти до одного дня. С мая 1884 г. по май 1885 г. Чехов публиковал рассказы под прежними псевдонимами: А. Чехонте, Человек без селезенки, Брат моего брата, Ан. Ч., А. Ч. Кроме того, известен псевдоним Дяденька, которым Чехов собирался подписать в «Стрекозе» рассказ «Ночь перед судом» (в «Осколках» появился под псевдонимом: А. Чехонте). Подпись А. Ч., которая совпадала у Чехова с братом, дала впоследствии повод без достаточных оснований приписывать Чехову не принадлежащие ему рассказы — так, например, Ю. Соболев приписал Чехову рассказ «Непонятные речи», опубликованный в журнале «Развлечение» 29 ноября 1884 г. (Ю. Соболев. Антон Чехов. Неизданные страницы. М., 1916, стр. 21). 1 Летом 1884 года Чехов окончил университет и начал врачебную практику. Врачебная деятельность летом в небольшом городке Воскресенске, зимой — в Москве, присутствие на процессе Скопинского банка в качестве судебного хроникера, работа над исследованием «Врачебное дело в России» отнимали у Чехова почти всё время. Но всё это служило источником новых впечатлений, нашедших отражение в творчестве 1884 и последующих годов. И. А. Бунин в своей книге о Чехове писал: «Конечно, кроме лавки, помогло еще узнать людей и то, что он с шестнадцати лет жил среди чужих, зарабатывая себе на хлеб, а затем в Москве еще студентом много толкался в „мелкой прессе“, где человеческие недостатки и даже пороки не очень скрываются ‹…› Помогла и профессия врача. Он чуть ли не с первых курсов стал летом работать в земских больницах в Новом Иерусалиме, в Воскресенске ‹…› При его восприимчивости и наблюдательности, семь лет в этих местах дали ему как писателю очень много» (ЛН, т. 68, стр. 641). С мая 1884 по май 1885 г. Чехов продолжал сотрудничать в петербургском журнале «Осколки». Большую часть написанного в это время — 62 из 86 рассказов — Чехов опубликовал на его страницах. Из переписки с Н. А. Лейкиным видно, сколько стараний приложил редактор журнала, чтобы всё выходящее из-под пера Чехова появлялась только в «Осколках». Из номера в номер на страницах журнала печатались его рассказы и фельетоны, обозрения московской жизни и мелкие заметки, юморески и подписи к рисункам, «филологические заметки» и художественно-публицистические очерки. Степень участия Чехова в «Осколках» определяла для Лейкина успех журнала. 29 сентября 1884 г. он писал Л. Н. Трефолеву: «Третьего для вернулся из Москвы, виделся с столпами моих „Осколков“ Чехонте и Пальминым, пображничал с ними, дал им родительское наставление о том, что именно нужно для журнала, и вообще поговорил по душе» (ЦГАЛИ, ф. 507, оп. 1, ед. хр. 201). Письма Лейкина этого периода Чехову полны просьб присылать побольше материала в самых разных жанрах. Он настойчиво требовал, чтобы у него всегда был хотя бы один рассказ Чехова в запасе, не считая мелочей. «В „Осколках“ непременно должен лежать один из Ваших рассказов…» — писал он 19 мая 1885 г. (ГБЛ). Лейкин, как и в предыдущие годы, ревниво относился к появлению чеховских рассказов в других юмористических журналах. 28 апреля 1885 г. Чехов в очередной раз оправдывался перед редактором «Осколков» за публикацию в московском журнале «Будильник»: «Ведь я не дам туда того, что годится для „Осколков“… Божие — богови, кесарево — кесареви…» Чехов продолжал в это время работать в качестве постоянного сотрудника в «Будильнике», с которым был связан еще до того, как журнал перешел в собственность В. Д. Левинского, превратившего его из сатирического журнала в орган «семейного смеха», по его собственному определению. Ал. Амфитеатров, также сотрудник «Будильника», вспоминал о редакторе журнала А. Д. Курепине и его отношении к Чехову: «Он выдвинул Чехова из сотрудников на почетное место, дал ему полную свободу в выборе тем, — значит, возможность развиваться и зреть естественным порядком, — печатал решительно всё, что выходило из-под чеховского пера» (Ал. Амфитеатров. Мои перворедакторы. — «Иллюстрированная жизнь» (Париж), 1934, № 13 от 7 июня). Чехов не прекращал работу в «Будильнике», хотя это и не давало ему большого заработка, как писал он В. В. Билибину 28 февраля 1886 г. «Работал А. П. не из-за гонорара только, не как обычный рядовой сотрудник, но жил жизнью журнала», — рассказывал впоследствии редактор журнала В. Д. Левинский (А. Измайлов. Чехов. М., 1916, стр. 150). В юбилейном, двенадцатом номере «Будильника» за 1885 г., посвященном двадцатилетию журнала, Чехов фигурировал в качестве одного из основных сотрудников. Чехов дорожил возможностью публиковать в «Будильнике» рассказы, которые по своему характеру не отвечали требованиям редактора «Осколков». 29 октября 1886 г. Чехов писал М. В. Киселевой об одном из ее рассказов: «В „Осколки“ пихнуть его нельзя, ибо он не юмористический. Остается одно только — сдать его в „Будильник“, где в фельетонах печатают „серьезные“ этюды (например, мои „Устрицы“) ‹…›». Однако с мая 1884 по май 1885 г. Чехов помещал здесь в основном не большие рассказы, а мелкие заметки (всего 13 художественных произведений). На все значительные рассказы претендовал Лейкин (см. примечания к рассказу «Безнадежный»). Да и сама редакция «Будильника» с большей охотой помещала «мелочи», а не крупные рассказы. 23 ноября 1885 г. Чехов писал Лейкину: «Печатает меня „Буд‹ильник›“, правда, редко, ибо я для него дорог…». 6 июня 1885 г. издатель журнала Левинский просил Чехова: «Дайте мелочишки для „Буд‹ильника› на даче“ и вообще мелочи, ибо Ваши крупности по необходимости должны лежать» (ГБЛ). Из переписки Чехова видно, что большое количество мелочей он помещал в «Будильнике» анонимно. Амфитеатров, говоря о необходимости найти и опубликовать всё написанное в 1882—1886 гг. и не вошедшее в издание А. Ф. Маркса, замечал: «Об анонимном материале, заключенном по преимуществу в „Будильнике“ указанных годов, я уже не говорю» (Ал. Амфитеатров. Собр. соч. СПб., 1912, т. XIV, стр. 162). Изучение переписки Чехова с издателями «Будильника» дало возможность установить, что в эти годы Чехов был постоянным автором фельетонных статей в обозрении «Среди милых москвичей». Самое большое по объему произведение этого периода — «Драма на охоте» — Чехов опубликовал в московской газете «Новости дня», куда он был приглашен летом 1883 г. С сентября 1884 г. по январь 1885 г. Чехов сотрудничал в московском юмористическом журнале «Развлечение» и поместил в нем за этот период семь рассказов. Публикацией в первом номере 1885 г. рассказа «Праздничная повинность» кончилась работа Чехова в этом журнале. «В „Развлечении“ я не работал с Нового года», — писал он Лейкину 28 апреля 1885 г. В 1884 году прекратилось сотрудничество Чехова и в журнале «Стрекоза». Опубликовав в «Альманахе „Стрекозы“ на 1884 год» «Шведскую спичку», Чехов только в ноябре 1884 г. послал в «Стрекозу» рассказ «Ночь перед судом» (см. примечания, стр. 562). 7 января 1885 г. редактор журнала И. Ф. Василевский возвратил Чехову рассказ, мотивируя это чрезмерным его объемом, и выразил сожаление, что не «сумел сблизить» Чехова с журналом (ГБЛ). 15 января 1885 г. издатель «Стрекозы» Г. Корнфельд писал Чехову: «Очень рады будем Вашему участию в „Стрекозе“ по возможности мелкими статейками» (ГБЛ). Чехов более в этом журнале не печатался. Вместе с тем в 1884 г. возникли новые возможности. А. С. Лазарев (Грузинский), делясь с Н. М. Ежовым тем, «как стал знаменит между юмористами Чехонте», прибавлял: «К нему ведь посылают пригласительные письма! Только пишите!» (письмо от 25 сентября 1884 г. — ЦГАЛИ, ф. 189, оп. 1, ед. хр. 7). 7 октября 1884 г. Чехов сообщил Лейкину, что «получил приглашение» от редакции литературного вестника «Новь». Однако сотрудничество Чехова в «Нови» не состоялось. Есть основания предполагать, что Чехову повредила в данном случае его работа фельетониста. В «Осколках московской жизни» Чехов касался не только событий, но и лиц, и это не проходило незамеченным. Псевдоним Чехова — Рувер — скоро был раскрыт и потому заменен другим. 10 декабря 1884 г. Чехов предупреждал Лейкина: «Храните маску Улисса2… Пальмин, кажется, разболтал в „России“…». Л. И. Пальмин, не признавая за собой вины в раскрытии псевдонима Чехова, также поставил конфликт Чехова с редакциями журналов «Россия» и «Новь» в связь с очерками из «Осколков московской жизни» в октябре — декабре 1884 г. 14 декабря 1884 г. он писал Лейкину: «Заметка Антоши Чехова в прошедшем номере „Осколков“ в москов‹ском› обозрении насчет Скрипицына1 произвела целую бурю негодования против него между сотрудниками „России“, тем более, что Чехов сам сотрудник „России“ ‹…› незадолго перед этим Чехов отдал в редакцию „России“, где Скрипицын редактором, статью свою, даже с посвящением мне, которая и была принята ‹…› И за что он напал (на) Скрипицына, да притом еще чисто на его внешность? Это же, должно быть, повлекло за собою то, что в „Нови“ не хотят печатать его две статьи, в которых будто бы не нашли литературного достоинства. Передавал мне об этом Линев, недавно бывший в Петербурге и состоящий в „Нови“ сотрудником» (ЦГАЛИ, ф. 289 (Н. А. Лейкин), оп. 2, ед. хр. 12). О каких рассказах или фельетонах идет речь, неизвестно. Но письмо Пальмина говорит о том, что потенциальные возможности сотрудничества Чехова в периодических изданиях 1884—1885 гг. были шире, чем это представлялось до сих пор. Публикацией рассказа «Последняя могиканша» 6 мая 1885 г. началось сотрудничество Чехова в «Петербургской газете». Приглашение редактора «Петербургской газеты» С. Н. Худекова Чехову передал Лейкин. 26 апреля 1885 г. он писал: «Есть у меня к Вам предложение Худекова. Не желаете ли Вы писать в „Петербургской газете“ рассказы каждый понедельник, то есть в тот день, когда я не пишу? Теперь пишет Леонидов, но он ужасно надоел публике своими бессодержательными еврейскими сценками, и его хотят сплавить. Но согласившись писать каждый понедельник, надо уж стараться не подводить редакцию газеты, а доставлять рассказы аккуратно к субботе. Гонорар 7 коп. за строчку» (ГБЛ). Чехов отвечал 28 апреля 1885 г.: «Насчет „Петербургской газеты“ отвечаю согласием и благодарственным молебном по Вашему адресу. Буду доставлять туда рассказы аккуратнее аккуратного». По воспоминаниям А. А. Плещеева, Лейкин так аттестовал Чехова в редакции «Петербургской газеты»: «Господа, я Щедрина нового открыл» («Петербургский дневник театрала», 1904, № 28, 11 июля). Редактор «Осколков», впрочем, почти сразу же пожалел о своей рекомендации. Увидев у Худекова рукопись рассказа «Дипломат», он едва не расстроил то сотрудничество, которому сам же способствовал: «Маия 13-го дня, — писал Ал. П. Чехов, — зашел я за получением гонорария к гг. Лейкиным и услышал речь такую (приблизительно дословно): „А ваш брат (т. е. ты, грешный иерей) в „Петербургскую газету“ второй рассказ прислал, а для „Осколков“ — ничего. Я, как хозяин „Осколков“, постарался остановить вторую статью, и она в „Петербургской газете“ не пойдет… Не могу же я!..“ (Письма Ал. Чехова, стр. 120; о том же — в примечаниях к рассказу „Дипломат“, стр. 595). Рассказы мая 1884 — мая 1885 г., опубликованные впервые на страницах юмористических журналов, частично вошли затем в авторские сборники. 20 рассказов этой поры составили более четвертой части сборника «Пестрые рассказы» (СПб., 1886). Во втором издании «Пестрых рассказов» (СПб., 1891) Чехов оставил только 9 из них; они перепечатывались в последующих изданиях сборника (о нем см. в т. II Сочинений). Два рассказа 1884 г. — «Ночь перед судом» и «Страшная ночь» — были опубликованы в сборнике «Невинные речи А. Чехонте (А. П. Чехова)». Издание журнала «Сверчок». М., тип. бр. Вернер, 1887. Предложение издать сборник Чехов получил в первой половине сентября 1887 г.: 2 сентября он только что вернулся из Бабкина, а 13-го уже сообщал М. В. Киселевой о согласии, данном издателям Вернерам. Вначале Чехов отобрал для сборника 15 рассказов (см. письмо Н. А. Лейкину от 7 октября 1887 г.). Затем их число было увеличено до 21: «Скорая помощь», «Битая знаменитость», «Ночь перед судом», «Дорогая собака», «Житейские невзгоды», «Страшная ночь», «Счастливчик», «Беззаконие», «Драма»,«Произведение искусства», «То была она!», «Тссс!..», «Месть», «На чужбине», «Один из многих», «Нервы», «Злоумышленники», «Зиночка», «В потемках», «Лишние люди», «Нахлебники». Все они были опубликованы до этого, с декабря 1884 г. по август 1887 г., главным образом в «Осколках» и «Петербургской газете». К концу октября 1887 г. сборник был отпечатан (см. письмо Чехова брату Александру Павловичу от 29 октября 1887 г.). Чехов внес в тексты для сборника отдельные поправки. Шесть рассказов — «Беззаконие», «Драма», «Произведение искусства», «На чужбине», «Зиночка», «Нахлебники» — были включены во второе издание сборника «Пестрые рассказы», с примечанием к оглавлению: «Сюда вошли и некоторые рассказы из сборника „Невинные речи“, издание которых повторено не будет» (СПб., 1891). Затем все рассказы сборника, кроме двух — «Один из многих» и «Злоумышленники», — были включены Чеховым в собрание сочинений. 2 Рассказы 1884 г. и начала 1885 г. были оценены критикой при их появлении в основном как юмористика, преследующая чисто развлекательные цели. Так, К. К. Арсеньев в статье «Беллетристы последнего времени» отнес большую часть «Пестрых рассказов» к числу «легковесных анекдотов», комизм которых основан на несообразности сюжета. Неправдоподобно, по мнению Арсеньева, «чтобы чиновники какого-то присутственного места условились называть карточных королей, тузов и дам именами высших должностных лиц города и их супруг, чтобы игроков застиг врасплох их главный начальник и чтобы, увлекшись остроумной выдумкой, он тут же сел играть с изобретателями и провел с ними за картами целую ночь; но je toller, desto lieber[184] — и г. Чехов пишет рассказ: „Новинка“ (Первоначальное название рассказа «Винт».) ‹…› На одном уровне с анекдотами, напоминающими поговорку: „Не любо, не слушай…“, стоят другие, в содержании которых нет ничего неправдоподобного, но слишком мною заурядного. Санитарная комиссия, конфискующая гнилые яблоки и потом закусывающая ими („Надлежащие меры“); ‹…› фельдшер, безуспешно старающийся вырвать зуб у дьячка („Хирургия“ ‹…› — все это, пожалуй, забавно, но забавно на манер послеобеденных россказней, потешающих мало взыскательную и смешливо настроенную публику» («Вестник Европы», 1887, № 12, стр. 769). Арсеньев отрицательно отнесся к приемам «чисто внешнего комизма» — курьезным фамилиям и названиям: «.. на помощь ослабевающему остроумию призываются „смешные словечки“, смешные сопоставления слов… От времени до времени автор старается уже не позабавить, а тронуть или потрясти читателей, но это ему редко удается, потому что склад рассказа все-таки остается, большею частью, анекдотический». Эта оценка Арсеньевым юмора ранних рассказов Чехова оставила свой след в критике. Шестнадцать лет спустя, разбирая первые тома собрания сочинений Чехова, Е. А. Ляцкий сослался на «превосходную статью К. К. Арсеньева», характеризуя вслед ему чеховский комизм как «чисто внешний» и приводя в пример такие рассказы, как «Брак по расчету», «Канитель» и др. (Евг. Ляцкий. А. П. Чехов и его рассказы. — «Вестник Европы», 1904, № 1, стр. 121). Следует сказать, впрочем, что Арсеньев отметил в рассказах 1884 — начала 1885 г. и такие особенности, которые воспринимались позднее как типичные для чеховской манеры в целом. Так, например, «поэзия контрастов», о которой писал Н. К. Михайловский в 1900 г., была оценена Арсеньевым как достоинство в той же статье 1887 г. «Беллетристы последнего времени»: «Есть, однако, и в первой книге г. Чехова2 страницы совершенно другого рода. Над обычным уровнем стоят уже те рассказы, в которых анекдот переплетается с картинкой нравов и действующие лица перестают быть только марионетками, гримасничающими и кривляющимися на потеху нетребовательных зрителей». Из общего числа Арсеньев выделил несколько рассказов, где источник юмора — не казус, а психологическая ситуация. Отметив, что в рассказе «Певчие» «истинно комическое впечатление» производит «противоположность между предшествующей суетой и последующим разочарованием», Арсеньев прибавил: «Очень недурны также рассказы. „У предводительши“, „Оба лучше“, „Пересолил“, „Комик“; и здесь источник комизма заключается в контрасте, не притянутом за волосы, но вполне естественном и жизненном». О восприятии чеховских рассказов читающей публикой И. А. Бунин писал впоследствии: «Его заглушали долго. До „Мужиков“, далеко не лучшей его вещи, большая публика охотно читала его; но для нее он был только занятный рассказчик, автор „Винта“, „Жалобной книги“. Люди „идейные“ интересовались им, в общем, мало; признавали его талантливость, но серьезно на него не смотрели, — помню, как некоторые из них искрение хохотали надо мной, юнцом, когда я осмелился сравнивать его с Гаршиным, Короленко…» (Чехов в воспоминаниях современников, стр. 519). В рассказе «Винт» особенно часто видели выражение чисто внешнего комизма, якобы характерного для раннего Чехова. «Тогда, действительно, — вспоминал впоследствии А. М. Скабичевский, — я считал Чехова — не беспринципным (такое слово совсем не подходит в настоящем случае), а безыдейным, легкомысленно равнодушным к серьезным вопросам жизни, заботящимся о том только, чтобы посмешить читателей юмористических листков, — словом, автором таких ефемерных шаржей, как „Роман с контрабасом“, „Винт“, „Шведская спичка“ и т. п.» («Антон Павлович Чехов» — «Русская мысль», 1905, № 6, стр. 30—31). Некоторые критики и в более поздние годы продолжали видеть в таких рассказах, как «Винт», «Не в духе», лишь «безделушки художника, талант в мелочах, ходкий материал для книжки журнала от писателя с именем, и только…» (Ф. Е. Пактовский. Современное общество в произведениях А. П. Чехова. — «Чтения в О — ве любителей русской словесности в память А. С. Пушкина при имп. Казанском ун-те», III, 1900. Казань, 1901, стр. 8). С появлением сборников «В сумерках» (СПб., 1887) и «Хмурые люди» (СПб., 1890), с выходом в свет первых томов собрания сочинений Чехова был открыт «второй план» в его ранних рассказах. В них увидели теперь глубокое раскрытие сущности жизни, спрятанное под маской комического. Самая «анекдотичность» их была истолкована как отражение несообразностей существующей действительности. По-новому воспринимался теперь, например, рассказ «Винт». П. Н. Краснов писал в статье «Осенние беллетристы»: «Это общее хмурое, словно сумеречное, настроение рассказов г. Чехова обусловливается царящею в нашем обществе пошлостью и скукой. Отсутствие общественных интересов, подавленное, мрачное настроение, обусловленное застоем и выжидательным настроением в нашей внутренней политике, отразились и на отдельных лицах. Такое настроение бывает у пассажиров поезда, неизвестно по каким причинам остановившегося среди поля. Тут при полной внешней незанятости проявляется истинная сущность человека, которая всегда есть пошлость. Куда ни обратишься, всюду наткнешься на нее. Порою она проявляется в смешных формах ‹…› как у чиновников, сделавших собственные игральные карты для игры в винт из фотографий чиновников разных ведомств („Винт“)» («Труд», 1895, № 1, стр. 207). Столь же ощутима ретроспективность оценки чеховского творчества и в статье Я. Абрамова «Наша жизнь в произведениях Чехова» («Книжки Недели», 1898, июнь, стр. 130—168). И в ранних рассказах писателя, «проникнутых самым веселым, самым беззаботным юмором», — таких, как «Мыслитель», «Произведение искусства», «Канитель», «Хирургия», «Винт», «Восклицательный знак», «Шведская спичка», по мнению Абрамова, «уже замечается кое-что большее, нежели невинное вышучивание курьезных явлений жизни». Тот же рассказ «Винт», воспринятый в контексте чеховского творчества 1890-х годов, оценивался иначе: «Как ни забавен этот рассказ, но уже и в нем есть нечто и кроме забавного, и, читая него, вы непременно задумаетесь над тою пустотою жизни, которая заставляет людей тратить время и силы на изобретение винта с надворными и действительными статскими советниками и увлекаться этою ерундою до забвения всего. Как ни смешна вся рассказанная Чеховым история, — не только не хочется по прочтении ее смеяться, а невольно становится на душе грустно. Этот-то своеобразный юмор, будящий в душе грустные настроения, и является весьма характерною чертою таланта Чехова» (стр. 165—166). О «глубокой гуманности, которою проникнуты» уже ранние рассказы Чехова, писал В. А. Гольцев, приведя в пример рассказ «Устрицы» (А. П. Чехов. Опыт литературной характеристики. — «Русская мысль», 1894, № 5, стр. 39—52). Находя в раннем творчестве Чехова «некоторую случайность в выборе им тем и бесполезную иногда трату большого дарования на воспроизведение ничтожных явлений», Гольцев вместе с тем отмечал, что рассказы Чехова «иной раз только смешили, не возбуждая серьезной мысли, но никогда и нигде, ни прямо, ни косвенно, не послужил он общественной неправде» (стр. 42). Только в 1890-х и 1900-х годах было оценено мастерство Чехова — автора рассказов 1884—1885 гг. О «филигранной работе» в таких рассказах, как «Канитель», писал П. Перцов («Изъяны творчества» — «Русское богатство», 1893, № 1, стр. 41—71). В чисто юмористических рассказах теперь отмечали острую наблюдательность Чехова, его меткую изобразительность, «которая самую мелкую подробность жизни, самый обыденный и неважный в сущности случай умеет воспроизвести в такой полноте жизненности, с такими искорками бьющего прямо в цель юмора…» («Волгарь», 1900, № 290, 23 октября). Анонимный автор приводил в качестве примера «выхваченных прямо из жизни фигур» фельдшера из рассказа «Хирургия». Известно, что Л. Толстой отметил рассказы Чехова, особенно понравившиеся ему. Список этот дошел до нас в передаче И. Л. Толстого, который писал Чехову 25 мая 1903 г.: «Спешу исполнить свое обещание относительно рассказов, отмеченных моим отцом. Оказывается, что они, кроме того, еще разделены на два сорта, 1-й и 2-й. 1-й сорт: 1) Детвора 2) Хористка 3) Драма 4) Дома 5) Тоска 6) Беглец 7) В суде 8) Ванька 9) Дамы 10) Злоумышленник 11) Мальчики 12) Темнота 13) Спать хочется 14) Супруга 15) Душечка. 2-й сорт: 1) Беззаконие 2) Горе 3) Ведьма 4) Верочка 5) На чужбине 6) Кухарка женится 7) Канитель 8) Переполох 9) Ну, публика! 10) Маска 11) Женское счастье 12) Нервы 13) Свадьба 14) Беззащитное существо 15) Бабы. Не могу Вам сказать, выбирал ли он эти рассказы из всех, или это только те, кот‹орые› пришли ему па память как особенно выдающиеся…» (ГБЛ; тот же список, рукой Х. Н. Абрикосова — ГМТ). Из произведений периода с мая 1884 по май 1885 г. остаются неизвестными рассказы, о которых есть сведения в переписке Чехова: 1. «Наказанная добродетель». См. в письме Лейкина Чехову от 1 августа 1884 г.: «Уведомляю Вас, что рассказ Ваш „Наказанная добродетель“, невзирая на все мои смягчения и вымарки, не пропущен ни в первой инстанции, т. е. цензором, ни во второй, т. е. цензурным комитетом. Мотивировано так: „по цинизму и сальности“. Корректурный оттиск Вашего рассказа — „Наказанная добродетель“ — пересылаю Вам вместо рукописи» (ГБЛ). Следов этого рассказа в бумагах С.-Петербургского цензурного комитета не обнаружено; оттиск в архиве Чехова отсутствует. Возможно, что этот рассказ был передан Чеховым в редакцию московского журнала «Развлечение» под названием «Noli me tangere!» (окончательное название: Маска). Название «Наказанная добродетель» отвечает ситуации, в которую попадают читающие интеллигенты. Замечание цензора относительно «цинизма и сальности» более понятно применительно к первопечатному тексту (см. варианты). Обращает на себя внимание тот факт, что Лейкин, ревниво относившийся к участию Чехова в других журналах, на этот раз не обмолвился в письмах к нему о публикации рассказа «Noli me tangere!» в «Развлечении» (1884, юбилейный номер, 27 октября); относительно же публикации «Брака по расчету» в «Развлечении» Чехов вынужден был давать Лейкину объяснение в письме к нему от 17 ноября 1884 г. 2. Рассказ к юбилею Кирилла и Мефодия. 1 апреля 1885 г. Чехов писал: «Рассказ по части Кирилла и Мефодия пришлю к след‹ующему› №. Трактует он у меня о прошедшем, уже случившемся, и неловко печатать его в день юбилея» (день юбилея — 8 апреля). Неизвестно, был ли этот рассказ закончен и прислан Лейкину. 3. Филологическая заметка «Об октябре», посланная Чеховым Лейкину 26—27 октября 1885 г. и утерянная на почте. См. примечания, стр. 577. 3 20 подписей к рисункам, собранные в настоящем томе, никогда Чеховым не перепечатывались и не предназначались для включения в собрание сочинений. Из рукописей сохранился черновой автограф подписи «К сведению трутней» и автограф подписи к рисунку «Как мила ты сегодня…» Впервые включены в собрание сочинений считавшиеся утраченными подписи под серией рисунков «Распереканальство!!». Запрещенные С.-Петербургским цензурным комитетом к публикации в «Осколках», они были обнаружены в делах комитета (ЦГИАЛ). Внутри раздела подписей есть перемещения, по сравнению с ПССП. По времени написания подпись «На Луне» отнесена к февралю 1883 г., а не к 1885 г. Точно так же подпись «Самая бедная бедность» передвинута из 1884 г. в 1883 г. Большая часть подписей к рисункам — семнадцать из двадцати — была опубликована в «Осколках» или предназначена для этого журнала. Рисунки с подписями Чехова часто служили обложкой очередного номера. Лейкин дорожил этим видом участия Чехова в журнале; его письма Чехову полны просьб и напоминаний относительно тем и подписей к рисункам. «В претензии я на Вас и за то, что Вы нынче мне тем и подписей для рисунков не высылаете», — писал он Чехову 19 февраля 1884 г. (ГБЛ). «Теперь позвольте мне также попенять Вам, что Вы совсем не присылаете мне ни тем, ни подписей для „Осколков“» (письмо от 18 июня 1884 г. — ГБЛ). Наибольшее число публикуемых тем и подписей относится к периоду с начала 1883 по май 1884 г. (четырнадцать). Таким образом, «Свадебный сезон» (ноябрь 1881) отделен от второй известной нам подписи промежутком более чем в год. Можно было бы отнести это за счет невыявленности мелкой литературной продукции Чехова. Но истинное объяснение, по-видимому, он дал в письме Лейкину от 4 ноября 1884 г.: «Все темы, какие у меня накопились за всё время моего литературничества, я вывалил Вам в прошлом году…» После периода более или менее регулярной работы в этом жанре следует большой перерыв — только в ноябре и декабре 1884 г. появляются в «Осколках» 2 рисунка на темы Чехова; затем опять перерыв — до апреля 1885 г., и наконец, в мае 1885 г. — последняя серия рисунков на тему Чехова. Отчасти эти перерывы объяснялись вмешательством цензуры. «А уж что с рисунками делают, особенно с передовыми, так ни на что не похоже! Идейного почти ничего не проходит», — писал Лейкин Чехову 11 апреля 1884 г. (ГБЛ). Сказывалась и внутренняя цензура редактора «Осколков», предупреждавшая изобретение тем, политически рискованных. «Подписей — увы! — нет в моих мозгах! — писал Чехов Лейкину 30 сентября 1885 г. — Политические темы только тогда не скучны и не сухи, когда в них затрогивается сама Русь, ее ошибки. Отчего Вы для передовицы ‹т. е. для обложки› не хотите воспользоваться процессом Мироновича? Почему не посмеяться над следствием, над экспертами…» Постепенно работа Чехова в жанре, который Лейкин считал столь необходимым для «еженедельного иллюстрированного» журнала, прекратилась. Причиной этого была и природа жанра, требовавшая сотрудничества с художниками, между тем как их работой Чехов очень часто был недоволен. «Все хорошо в „Осколках“, — писал он Лейкину 22 марта 1885 г., — но художеств‹енный› отдел критикуется даже в мещанском училище ‹…› по рисункам публика привыкла судить и о всем журнале, а бывают ли в „Осколках» рисунки? Есть краски и фигуры, но типов, движений и рисунка нет…» — то есть не было того, что способствовало органическому соединению с литературным материалом. Чехову легко было работать с братом Николаем, по особенностям его дарования; но постоянные задержки, невозможность полагаться на его слово делали это почти неосуществимым. Свою малую продуктивность по части тем для рисунков и подписей к ним Чехов объяснял Лейкину по-разному: «Я очень туп для выдумывания острых подписей» (письмо от 25 июня 1884 г.); «Если бы сочинять темы было так же легко, как закурить папиросу, то я прислал бы Вам их видимо-невидимо, но Вы сами знаете, что легче найти 10 тем для рассказов, чем одну порядочную подпись» (письмо от 4 ноября 1884 г.). В другом письме, 22 марта 1885 г., еще резче выражено несоответствие этого жанра ходу творческой мысли Чехова: «Начнешь выдумывать подпись, а выходит рассказ, или ничего не выходит…» В 1886 г. этот жанр окончательно «отпадает» от Чехова, так что, например, 19 января 1886 г. Чехов сообщает Лейкину тему и подпись к рисунку, но для публикации не от своего имени: «Тема для передовицы: По поводу юбилеев. Луна, глядя на Землю, презрительно улыбается. — Когда же, наконец, мой юбилей будут праздновать? Если эта тема не годна, то ее можно взять для мелочишки „Юбилей Луны“. Порекомендуйте И. Грэку». Подпись к рисунку А. И. Лебедева, под заглавием «И еще юбилей», была напечатана с указанием: Тема ред. («Осколки», 1886, № 7, 15 февраля, обложка); текст подписи пространен и далек от чеховского. Не включены в том темы и подписи, в отношении которых авторство Чехова нельзя считать доказанным: подписи под серией рисунков «Моя семья» («Зритель», 1883, № 19, см. также ЛН, т. 68, стр. 124), подпись под рисунком Н. П. Чехова «Раздумье» («Осколки», 1884, № 49, 8 декабря, стр. 7; включено в ПССП, т. III, стр. 286), а также другие подписи, отнесенные к разряду Dubia (т. XVIII Сочинений). Остаются неизвестными подписи, о которых сохранились сведения в переписке: 1. Подпись для рисунка. См. в письме Лейкина Чехову от 15—16 марта 1885 г.: «Спасибо за присланную подпись. Дам рисовать к ней рисунок» (ГБЛ). О каком рисунке идет речь — неизвестно. 2. Подписи к рисункам, посланные Лейкину 22 марта 1885 г. Чехов писал Лейкину: «Тема „Аптекарская такса“ модная… Ею, думаю, можно воспользоваться… Предлагаю Вам воспользоваться также и вопиющими банкротствами нашего времени… В Москве лопаются фирмы одна за другой… Одна лопается, падает в яму и другую за собой тянет… В Питере тоже, в Харькове тоже… Для Кирилла и Мефодия годится параллель между IX и XIX веками… Нарисуйте чистенькую избушку с вывеской „школа“… Вокруг одетые и сытые мужики… Это IX век… Рядом с ним XIX век: та же избушка, но уже похилившаяся и поросшая крапивой. В IX веке были школы, больницы. В XIX есть школы, кабаки… ‹…› Посылать незаконченный проект неделикатно, но уж Вы простите…». Из посланного Чеховым материала тема «Аптекарская такса» была использована Лейкиным (см. стр. 604 наст. тома). В ответ на вопрос Чехова в письме от 1 апреля 1885 г. — «Сгодились ли мои подписи к рисункам?» — Лейкин сообщил 26 апреля: «Все погодились, кроме двух, которые при сем и возвращаю» (ГБЛ). 3. Менее определенно, но также может быть следом утраченных подписей Чехова его сообщение в письме Лейкину: «К понедельнику пришлю 2—3 подписи, но за качество их не ручаюсь» (17 июля 1885 г.). 4. Четыре подписи к рисункам. 14—15 ноября 1885 г. Лейкин писал Чехову: «Из четырех Ваших подписей (большое спасибо за них) пригодились три и сданы В. И. Порфирьеву» (Из переписки А. П. Чехова с Н. А. Лейкиным. Неопубликованные письма. — «Новый мир», 1940, № 2—3, стр. 379; ГБЛ). 5. Несколько тем и подписей, отправленных 25 февраля 1886 г. 26 февраля Лейкин отвечал: «За подписи спасибо. Большинство уйдет. Две темы, впрочем, в рисунке изобразить трудно, но Билибин, которому я их сейчас передал, обещался подумать» (ГБЛ). Тексты подготовили и примечания составили: Л. М. Долотова (1884 г.), М. А. Соколова (январь — апрель 1885 г.), М. П. Громов (май 1885 г.); два произведения 1884 г. — «Кавардак в Риме» и «Картинки из недавнего прошлого» — подготовлены А. С. Мелковой. Вступительную статью к примечаниям написали Л. М. Долотова и М. А. Соколова. Раздел «Подписи к рисункам» подготовили М. П. Громов, Л. М. Долотова, М. А. Соколова, А. П. Чудаков. Библиографию переводов на иностранные языки составила Л. П. Северская; сведения о переводах на венгерский язык даны М. Рев. Несообразные мысли Впервые — «Осколки», 1884, № 19, 12 мая (ценз. разр. 11 мая), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. Самообольщение Впервые — «Осколки», 1884, № 20, 19 мая (ценз. разр. 18 мая), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. Дачница Впервые — «Осколки», 1884, № 22, 2 июня (ценз. разр. 1 июня), стр. 5. Подпись: А. Чехонте. Включено без изменений в первое издание «Пестрых рассказов». Печатается по тексту сборника «Пестрые рассказы», СПб., 1886, стр. 223—226. Рассказ был написан, по-видимому, в начале мая 1884 г. — 18 мая Лейкин писал Чехову: «„Дачница“ набрана, пропущена цензурой и ждет своей очереди появиться в „Осколках“…» (ГБЛ). С женой поссорился Впервые — «Осколки», 1884, № 23, 9 июня (ценз. разр. 8 июня), стр. 5. Подпись: А. Чехонте. Печатается по журнальному тексту. Рассказ написан, по-видимому, в начале мая 1884 г. 18 мая Лейкин уже сообщал Чехову: «…набран и рассказ „С женой поссорился“» (ГБЛ). Русский уголь Впервые — «Осколки», 1884, № 30, 28 июля (ценз. разр. 27 июля), стр. 4—5. Подпись: А. Чехонте. Включено с тремя мелкими поправками в первое издание «Пестрых рассказов». Печатается по тексту сборника «Пестрые рассказы», СПб., 1886, стр. 201—206. Рассказ был написан, вероятно, в первой половине мая 1884 г. 18 мая Лейкин писал Чехову: «Получил я и Ваш рассказ „Русский уголь“. Что Вам сказать о нем? Длинноват и не юмористичен. Ну, да ничего, он пойдет в запас» (ГБЛ). Дачные правила Впервые — «Осколки», 1884, № 21, 26 мая (ценз. разр. 25 мая), стр. 5. Подпись: А. Чехонте. Печатается по журнальному тексту. Первоначальное название рассказа известно из письма Чехова Лейкину; 21 мая 1884 г. он сообщал: «На сей раз шлю „Дачную гигиену“. Штука сезонная… Если понравится, то изображу еще что-нибудь в этом роде: „Охотничий устав“, „Лесной устав“ и проч.» Это намерение не было осуществлено. Письмо к репортеру Впервые — «Осколки», 1884, № 23, 9 июня (ценз. разр. 8 июня, отдел «Из копилки курьезов», стр. 6. Подпись — в тексте. Печатается по журнальному тексту. Брожение умов Впервые — «Осколки», 1884, № 24, 16 июня (ценз. разр. 15 июня), стр. 4—5, с подзаголовком: Клочок из летописи города Нищегладска. Подпись: А. Чехонте. Включено с тем же подзаголовком в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886. Вошло в издание А. Ф. Маркса. Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 91—95. При публикации в журнале «Осколки» в текст рассказа были внесены изменения цензором и Лейкиным, который писал Чехову 18 июня 1884 г.: «В рассказе „Волнение умов“ цензор везде выхерил слово „волнение“, а потому в одном месте, чтобы был смысл, я вставил „брожение умов“, вставил, увы, на свой риск, после получения подписанной корректуры, и ничего, прошло, номер вышел» (ГБЛ). В тексте, напечатанном в «Осколках», не осталось ни «волнения», ни «брожения», если не считать названия рассказа; эти слова не были восстановлены Чеховым ни в «Пестрых рассказах», ни в собрании сочинений. Резкое возражение с его стороны вызвала вставка, сделанная Лейкиным в письме ревностного городничего. 17 июня 1884 г. он писал Лейкину по этому поводу: «Зачем вы в письме Акима Данилыча (в „Брожении умов“) вставили фразу: „А всё из-за стаи скворцов вышло…“ Соль письма ухнула… Городничему вовсе неизвестно, из-за чего бунт вышел, да и нет ему надобности умалять свои администраторские подвиги такими ничтожными причинами, как скворцы… Он никогда не объяснит бунта скворцами… Ему нужна „ажитация“…» В ответном письме от 22 июня 1884 г. Лейкин оправдывался необходимостью пойти навстречу требованиям цензуры: «Вы спрашиваете, зачем я в письме Акима Данилыча в „Брожении умов“ вставил фразу „А все из-за скворцов вышло“. Это нужно было сделать. Только благодаря ей и рассказ был дозволен в печати. Надо было выяснить, что из-за скворцов. Иначе было не понятно. Да и заглавие „Брожение умов“ вводило в заблуждение. Иначе бы можно было думать, что скворцы сами по себе, а брожение умов само по себе, что толпа собралась вовсе не из-за скворцов, а из-за чего-то другого. Я искал места, где бы можно было вклеить эту фразу, кроме письма, но при всем моем навыке к отыскиванию местов, такого подходящего места не оказалось, иначе бы пришлось переделывать весь разговор толпы» (ГБЛ). При публикации рассказа «Брожение умов» в сборнике «Пестрые рассказы» Чехов снял не только фразу «А всё из-за скворцов вышло», но и еще два упоминания о скворцах в репликах действующих лиц (варианты к стр. 25, строки 12 и 36). Включая рассказ в собрание сочинений, Чехов строго выверил в нем постепенность нарастания событий. Он снял единственную оставшуюся в речи действующих лиц фразу о скворцах (вариант к стр. 25, строки 22—23). В результате получилось, что виновники происшествия ничего не знают о его причине. Чехов ввел в повествование фразы, поясняющие, как постепенно возникает недоразумение (варианты к стр. 25, строки 8—9, 16—17, 38, к стр. 26, строки 18—21, и к стр. 27, строки 3—6). В текст были внесены также стилистические поправки, уменьшено число просторечий. Фабула рассказа встречалась в юмористической прессе и до Чехова, правда, в самом примитивном виде. В сценке «Сборище» изображена толпа, собравшаяся по недоразумению («Новости дня», 1884, № 57, 28 февраля, подпись: Озор); дан диалог присутствующих, но он никак логически не организован, развитие действия лишено последовательности. См. также: «Картинка уличных нравов» («Будильник», 1877, № 4, стр. 5). При жизни Чехова рассказ был переведен на словацкий и шведский языки. Дачное удовольствие Впервые — «Осколки», 1884, № 24, 16 июня (ценз. разр. 15 июня), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. Идеальный экзамен Впервые — «Будильник», 1884, № 23 (ценз. разр. 16 июня), стр. 277—280. Подпись: А. Чехонте. Сохранилась писарская копия с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Печатается по журнальному тексту. Водевиль Впервые — «Осколки», 1884, № 26, 30 июня (ценз. разр. 29 июня), стр. 4—5. Подпись: А. Чехонте. Сохранилась журнальная вырезка с пометой: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Печатается по журнальному тексту. Экзамен на чин Впервые — «Осколки», 1884, № 28, 14 июля (ценз. разр. 13 июля), стр. 4—5, с подзаголовком: Рассказ. Подпись: А. Чехонте. Включено без подзаголовка в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886. Вошло в издание А. Ф. Маркса. Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 140—144. 25 июня 1884 г. Чехов писал Лейкину: «Первый дачный блин вышел, кажется, комом. Во-первых, рассказ плохо удался. „Экзамен на чин“ милая тема, как тема бытовая и для меня знакомая, но исполнение требует не часовой работы и не 70—80 строк, а побольше… Я писал и то и дело херил, боясь пространства. Вычеркнул вопросы экзаменаторов-уездников и ответы почтового приемщика — самую суть экзамена. Во-вторых, рассказу этому пришлось пройти все тартары, начиная с моего стола и кончая карманом богомолки. Дело в том, что, принеся свой рассказ в здешний почтамт, я был огорошен известием, что почта не идет в воскресенье…» Следовательно, рассказ был отправлен Лейкину в «кармане богомолки» в воскресенье 24 июня, а написан, вероятно, накануне. В том же письме Чехов указывает на воскресенского почтмейстера как на прототип героя рассказа: «Вечером же хожу на почту к Андрею Егорычу получать газеты и письма, причем копаюсь в корреспонденции и читаю адресы с усердием любопытного бездельника. Андрей Егорыч дал мне тему для рассказа „Экзамен на чин“». Ср. свидетельство М. П. Чехова в биографическом очерке (Письма А. П. Чехова в 6-ти тт. Под ред. М. П. Чеховой. Т. I. М., 1913, стр. XXIII). Для собрания сочинений рассказ был сокращен в части, касающейся личных отношений Галкина и Фендрикова. При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский и сербскохорватский языки. Хирургия Впервые — «Осколки», 1884, № 32, 11 августа (ценз. разр. 10 августа), стр. 3—4, с подзаголовком: Сценка. Подпись: А. Чехонте. Включено без подзаголовка в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886. Вошло с некоторыми стилистическими поправками в издание А. Ф. Маркса. Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 53—57. Рассказ написан, вероятно, в первых числах августа 1884 г. 8 августа 1884 г. Лейкин писал Чехову: «Получил вчера Ваше письмо от 4 августа с приложением двух статеек. „Хирургию“ тотчас же послал набирать» (ГБЛ). Рассказ вобрал в себя, очевидно, многие жизненные впечатления Чехова. М. П. Чехов связывает возникновение сюжета рассказа с пребыванием Чехова летом 1884 г. в Воскресенске и работой его в Чикинской земской больнице: «В двух верстах от Воскресенска находилась Чикинская земская больница, которой заведовал тогда известный земский врач П. А. Архангельский ‹…› Однажды в Воскресенскую больницу пришел на прием больной с зубной болезнью. П. А. Архангельский был занят с другим, более серьезным больным и поручил прикомандировавшемуся к нему студенту (впоследствии знаменитому доктору С. П. Я.) вырвать у больного зуб. Неопытный студент наложил щипцы и после некоторых истязаний вырвал у пациента вместо больного здоровый зуб. Вырвал — и сам испугался. — Ничего, ничего, — одобрил его Архангельский, — рви здоровые, авось до больного доберешься! Студент стал рвать больной зуб и сломал на нем коронку. Пациент выругался и ушел. Этот инцидент послужил Антону Павловичу сюжетом для его рассказа „Хирургия“» (Антон Чехов и его сюжеты, стр. 29). В. Г. Богораз (Тан) в воспоминаниях «На родине Чехова» называет «Хирургию» «таганрогским приключением» и указывает другие прототипы героев рассказа («Чеховский юбилейный сборник». М., 1910, стр. 486). П. Сергеенко, помимо того, связывает сюжет рассказа с шуточными актерскими импровизациями братьев Антона и Александра Чеховых (там же, стр. 338). Для собрания сочинений Чехов поправил в рассказе отдельные согласования слов, заменил некоторые просторечные слова литературными, одни лексические формы — другими. А. С. Лазарев (Грузинский) писал Н. М. Ежову 13 августа 1884 г.: «Рассказ „Хирургия“ Ан. Ч. мне не понравился. Рельефно — но как-то бесцельно. К чему всё это — и притом уже не настолько остро, чтобы могло понравиться за один юмор, помимо идеи» (ЦГАЛИ, ф. 189, оп. 1, ед. хр. 7). Впрочем, 15 сентября 1884 г. Лазарев в письме Ежову отмечал, что рассказ «Хирургия» «хорош уже разнообразием» (там же). Отзыв о «Хирургии» К. Арсеньева и анонимного рецензента в газете «Волгарь» см. во вступительной статье к примечаниям (стр. 534—535 и 537). При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, польский и сербскохорватский языки. Ярмарочное «итого» Впервые — «Развлечение», 1884, № 36, 13 сентября (ценз. разр. 12 сентября), стр. 738. Подпись — в тексте. Печатается по журнальному тексту. Нижегородская ярмарка служила темой многих юмористических мелочей в журнале «Развлечение» летом 1884 г. — см. № 29, 26 июля, стр. 595; № 30, 2 августа, стр. 615; № 31, 9 августа, обложка; № 32, 16 августа, стр. 663; № 33, 23 августа, стр. 683—684; № 34, 30 августа, стр. 699. Невидимые миру слезы Впервые — «Осколки», 1884, № 34, 25 августа (ценз. разр. 24 августа), стр. 3—5. Подпись: А. Чехонте. Печатается по журнальному тексту. Рассказ был написан, по-видимому, в середине августа 1884 г. 1 августа Лейкин писал Чехову: «В запасе Вашего добра не имеется ни строчки» (ГБЛ). 11 августа Чехов сообщил Лейкину из Воскресенска: «Рассказ в 60 строк написал, но до того скверный, что посылать жутко. Подожду до завтра: авось переменю свой взгляд на него или напишу что-нибудь другое». Комментируемый рассказ не мог быть этим рассказом по своему объему — по всей вероятности, он был написан Чеховым вскоре после отправки Лейкину письма от 11 августа. Идиллия Впервые — «Осколки», 1884, № 34, 25 августа (ценз. разр. 24 августа), стр. 4—5. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. Хамелеон Впервые — «Осколки», 1884, № 36, 8 сентября (ценз. разр. 7 сентября), стр. 4, с подзаголовком: Сценка. Подпись: А. Чехонте. Включено без подзаголовка, с мелкими поправками, в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886, и во все последующие издания сборника. Вошло в издание А. Ф. Маркса. Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 96—100. А. С. Лазарев (Грузинский) в письме Н. М. Ежову от 15 сентября 1884 г. привел рассказ «Хамелеон» как пример удачного сочетания обличительной тенденции («вопияние») с задачами юмористического журнала: «Кто говорит, можно и вопиять, но главным образом вопиять, смешивая его с невопиянием и стараясь смешить. Что делать, такая доля! Да и нам с тобой ведь смешное нравится? Точно так же нравится оно и другим. Возьмем пример с Чехонте. В рассказе „Хирургия“ нет вопияния, и все-таки он хорош уже разнообразием. В рассказе „Хамелеон“ есть вопияние, но если и не смешное, то крайне остроумное и оригинальное. Так нужно стараться и нам. Это труднее. Одни резкие слова ставить куда легче» (ЦГАЛИ, ф. 189, оп. 1, ед. хр. 7). М. Горький писал Чехову во второй половине июля 1902 г.: «Вот что: сапожник из села Борисполя, Полтавской губернии, просит Вас прислать ему книжку Вашу, в которой напечатан рассказ „Хамелеон“. Он, сидя в вагоне, слышал, как публика, читавшая этот рассказ и другие, — хвалила Ваши произведения, и вот, не зная Вашего адреса, написал мне, чтобы я попросил Вас послать ему книжку и Ваш портрет. Бедный он, большая семья. Пошлите ему, а?» (М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 28. М., 1954, стр. 266). При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, венгерский, немецкий, польский, сербскохорватский, финский и чешский языки. Из огня да в полымя Впервые — «Развлечение», 1884, № 37, 20 сентября (ценз. разр. 19 сентября), стр. 755—757. Подпись: А. Чехонте. Вошло в издание А. Ф. Маркса. Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 273—280. Собирая в 1899 г. свои ранние произведения, Чехов вспомнил и об этом рассказе. 24 марта 1899 г. он писал Н. М. Ежову из Ялты: «Помнится, в „Развлечении“ есть рассказ, герой которого носит фамилию Нечистова. Напечатан при Насонове». Но, получив текст рассказа, Чехов забраковал его. История публикации рассказа в собрании сочинений раскрывается из письма А. Ф. Маркса Чехову от 12 июля 1899 г.: «В большом конверте, присланном Вами, среди произведений, которые Вы хотите исключить из полного собрания Ваших сочинений, — они сопровождены Вашей пометой: „Не входит в полное собр. соч.“ — есть один рассказ без этой собственноручной Вашей пометы: „Из огня да в полымя“. Это единственный рассказ из этого конверта, который я читал, и я дал его прочитать своей жене, затем г. Сементковскому — и мы все трое хохотали, и этот рассказик нам чрезвычайно понравился. Сегодня я только что получил Ваши корректуры, и среди них я нашел эту вещичку вычеркнутой Вами, но, не найдя внизу Вашей пометы, я отдал ее в набор. Я прошу, дорогой доктор, пожалеть эту прелестную вещицу и включить ее во второй том Ваших рассказов. По этой причине посылаю Вам вновь оригинал и набор с просьбой исправить и включить во второй том» (ГБЛ, подлинник по-французски). 28 сентября 1899 г., посылая Ю. О. Грюнбергу список рассказов для второго тома, Чехов вставил в него «Из огня да в полымя». При этом Чехов внес в рассказ некоторые стилистические исправления и заменил фамилию Нечистов на Калякин. При жизни Чехова рассказ был переведен на немецкий, польский, сербскохорватский, словацкий и чешский языки. Надлежащие меры Впервые — «Осколки», 1884, № 38, 22 сентября (ценз. разр. 21 сентября), стр. 4, с подзаголовком: Сценка. Подпись: А. Чехонте. Включено без подзаголовка в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886. Вошло в издание А. Ф. Маркса. Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 169—173. О том, когда написан рассказ, точных данных не сохранилось. Можно лишь предполагать, что слова в письме Чехова Лейкину от 15 сентября 1884 г. — «Для Вас готовы у меня 3 рассказа, которые завтра или послезавтра посылаю», — относятся к рассказам «Надлежащие меры», «Винт» («Новинка») и «Затмение Луны». Для собрания сочинений Чехов сделал в тексте рассказа несколько сокращений, изменил фамилии и убрал упоминание о Тулоне, связанное с эпидемией холеры в 1884 г. Оценку рассказа «Надлежащие меры» К. Арсеньевым см. во вступительной статье (стр. 535). При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, польский, сербскохорватский, чешский и шведский языки. Кавардак в Риме Впервые — «Будильник», 1884, № 38 (ценз. разр. 27 сентября), стр. 457, отдел: «Домашний театр „Будильника“». Подпись: Брат моего брата. Сохранилась писарская копия с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Печатается по журнальному тексту. Пародия Чехова связана с постановкой 22 сентября 1884 г. в Театре М. и А. Л.*** в Москве (театр М. В. и А. В. Лентовских, иначе — Новый театр; Театральная площадь, д. Бронникова) комической оперы в 3-х действиях «Карнавал в Риме». Музыка И. Штрауса. Слова И. Брауна, перевод А. М. де-Рибаса. Киев, 1882. О премьере извещала газета «Новости дня»: «Сегодня в театре М. В. Лентовского дана будет в первый раз комическая опера Штрауса „Карнавал в Риме“, имевшая громадный успех за границей» (1884, № 261, 22 сентября); см. также: «Русские ведомости», 1884, № 263, 22 сентября. Пародия Чехова написана, таким образом, между 22 и 27 сентября. До конца 1884 г. было дано всего пять спектаклей: 22, 24, 27, 30 сентября и 5 октября. На всех афишах обозначено: «Постановка комической оперы Г. А. Арбенина» (ГЦТМ). Премьера оказалась неудачной. «„Карнавал в Риме“, шедший вчера в Новом театре, к сожалению, не оправдал надежды, — писали „Новости дня“, — первый акт невозможен, а остальные неважны» (№ 262, 23 сентября). В той же газете 30 сентября отмечалась «режиссерская неумелость» Арбенина (№ 269). «Русские ведомости» обратили внимание на неудачное распределение ролей (№ 267, 26 сентября). Винт Впервые — «Осколки», 1884, № 39, 29 сентября (ценз. разр. 28 сентября), стр. 4. Заглавие: Новинка. (Вниманию гг. винтёров). Подпись: А. Чехонте. Включено под тем же заглавием в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886; во всех последующих изданиях сборника перепечатывалось под окончательным названием. Вошло в издание А. Ф. Маркса. Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 58—62. Предположение о времени написания см. выше, в комментариях к рассказу «Надлежащие меры». Об истории написания рассказа известно из записи со слов И. П. Чехова: «Интересно, как написан был рассказ „Винт“. Иван Павлович приехал и стал рассказывать, что в их уезде все играют в винт. А. П. заинтересовался. Кому-то пришла фантазия масти назвать министерствами. А. П. сел за стол и написал рассказ. Но Лейкин рассказ возвратил: не цензурно. Пришлось переделать и масти назвать казенной палатой, губернским правлением и т. п. В таком виде рассказ прошел» («О Чехове». — «Русское слово», 1910, № 13, 17 января, стр. 5). О том, что «все ходы в рассказе „Винт“ ‹…› Чехов писал, расспрашивая о них у брата Ивана Павловича», вспоминал и Б. Лазаревский в статье «А. П. Чехов. Личные впечатления» («Журнал для всех», 1905, № 7, стр. 429). О возврате рассказа Лейкиным и переделке его других сведений нет. Известны цензурные затруднения, возникшие в 1890 г., при рассмотрении вопроса о публичном чтении рассказа. В рапорте от 12 января 1890 г. цензор И. П. Альбединский так передавал одиозное, по его мнению, содержание рассказа «Новинка»: «Начальник губернского правления (т. е. вице-губернатор), возвращаясь домой из театра, видит свет в окнах правления. Заинтересованный, он заходит посмотреть, что там делается, и застает подчиненных за винтом. Вместо карт у них наклеенные фотографии чиновников. Туз треф — сам вице-губернатор, дама — его жена и т. д. Трефы — масть Министерства внутренних дел, черви — Казенная палата, бубны — Министерство народного просвещения и пики — Отделение государственного банка. Начальнику так нравится остроумная (?) выдумка подчиненных, что он сам садится с ними за эти импровизированные карты и играет до утра. Я признаю настоящий рассказ окончательно неудобным для исполнения перед публикой». Резолюция начальника Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистова от 16 января 1890 г.: «Запретить» (ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 2, ед. хр. 9, л. 15; опубликовано в кн.: Чехов, Лит. архив, стр. 262). В. В. Билибин впоследствии использовал фабулу чеховского рассказа (И. Грэк. Как чиновники играют в винт. — «Осколки», 1886, № 17, 26 апреля, стр. 5—6). Н. К. Михайловский находил, что в рассказе «Винт» Чехов проявил «изумительную изобретательность по части смехотворных эффектов» (Н. Михайловский. Литература и жизнь. Кое-что о г. Чехове. — «Русское богатство», 1900, № 4, стр. 126—127). «Винт» служил Михайловскому примером рассказа, наиболее контрастирующего с характером позднего чеховского творчества: «В последних произведениях г. Чехова, вместо прежнего жизнерадостного убеждения в равноценности всего сущего, звучит такая страшная тоска, такое отчаяние, какого нельзя было бы ожидать от автора „Налима“, „Винта“ и множества других хорошеньких вещиц» (Н. Михайловский. Литература и жизнь. — «Русское богатство», 1899, № 2, стр. 90—91). Отзывы К. Арсеньева, П. Н. Краснова, Я. Абрамова и И. А. Бунина о рассказе «Винт» см. во вступительной статье (стр. 534—537). При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, польский, сербскохорватский и чешский языки. Затмение луны Впервые — «Осколки», 1884, № 39, 29 сентября (ценз. разр. 28 сентября), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. Предположение о времени написания см. выше, в комментариях к рассказу «Надлежащие меры». На кладбище Впервые — «Осколки», 1884, № 40, 6 октября (ценз. разр. 5 октября), стр. 4. Подпись: А. Чехонте. В переработанном виде включено в сборник: Призыв. Литературный сборник. В пользу престарелых и лишенных способности к труду артистов и их семейств. Издатель Д. Гарин-Виндинг. М., 1897 (ценз. разр. 24 января). Подпись: Лаэрт. Вошло в издание А. Ф. Маркса. Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 303—305. Рассказ был написан в последних числах сентября или в первых числах октября 1884 г. С 23 по 26 сентября 1884 г. Н. А. Лейкин был в Москве — 22 сентября он писал Л. Н. Трефолеву: «Сегодня, часа через два я отправляюсь в Москву для свидания с моими сотрудниками Пальминым и Чеховым (Чехонте)…», а 29 сентября сообщал ему же: «Третьего дня вернулся из Москвы, виделся с столпами моих „Осколков“ Чехонте и Пальминым, пображничал с ними, дал им родительское наставление о том, что именно нужно для журнала, и вообще поговорил по душе» (ЦГАЛИ, ф. 507, оп. 1, ед. хр. 201). Рассказ «На кладбище» в это время еще не был написан — иначе Чехов передал бы его Лейкину при встрече, вместо того чтобы посылать почтой (вероятно, 3 октября). 4 октября Лейкин писал Чехову: «Странно, что я не получил от Вас никакого ответа на письмо мое при присылке сценки „На кладбище“ ‹…› Плохость рассказа „На кладбище“ Вы объясняете похмельем. Боже милостивый! Да неужели похмелье могло длиться больше недели!» (ГБЛ). В октябре 1895 г. к Чехову обратился Д. В. Гарин-Виндинг с просьбой дать рассказ для публикации в сборнике (письмо от 23 октября 1895 г. — ГБЛ). Чехов ответил 14 ноября согласием: «Рассказ я привезу или пришлю к декабрю. Это наверное». Издание сборника затянулось. 2 ноября 1896 г. Чехов писал Гарину-Виндингу: «Присылайте корректуру рассказов». Сборник вышел в свет в начале 1897 г. Для сборника «Призыв» Чехов сократил рассказ, выбросив эпизод, рисовавший в сентиментальных тонах отношение околоточного надзирателя к покойному. Был также устранен намек, злободневный для 1884 г.: «известный актер К.» был заменен «актером Мушкиным». Для собрания сочинений был взят текст сборника (см. письма Чехова Н. М. Ежову от 5 февраля и 13 мая 1899 г.); Чехов внес три небольшие поправки. Буквой К. в журнальном тексте было обозначено реальное лицо — иначе Чехову незачем было бы прибегать к зашифровке. Из первопечатного текста рассказа известно, что актер этот умер «года два тому назад», что «актеры и литераторы собрали ему на памятник и… пропили, голубчики». Судя по всему этому, Чехов имел в виду Н. П. Киреева, комедийного актера Пушкинского театра (Драматический театр А. А. Бренко в доме Малкиеля). По отзыву актрисы того же театра А. Я. Глама-Мещерской, Киреев был «замечательный актер, вообще мало знаемый, но высоко ценимый лишь немногими, истинными театралами» («Воспоминания». М., 1937, стр. 156). В спектакле «Гамлет» Киреев был «безупречен», по отзывам рецензентов, в роли Полония, — см. рецензию А. М. Дмитриева (Зритель) в «Современных известиях», 1882, № 13, 14 января. Киреев был также и переводчиком — ему принадлежит, например, перевод пьесы «Убийство Коверлей», известной Чехову еще с таганрогских времен. Умер Киреев в 1882 г., в ночь с 5 на 6 мая; на похоронах присутствовали актеры, журналисты и репортеры; 29 января 1883 г. в театре Ф. А. Корша был дан концерт, сбор с которого предназначался для устройства надгробного памятника Кирееву (см. «Московский листок», 1882, № 124, 8 мая; 1883, № 30, 31 января). Однако в декабре 1883 г. в печати был поднят вопрос, использованы ли по назначению собранные деньги («Где деньги, собранные на памятник Н. П. Киреева?» — «Новости дня», 1883, № 165 12 декабря). При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, финский и шведский языки. Гусиный разговор Впервые — «Осколки», 1884, № 40, 6 октября (ценз. разр. 5 октября), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. Язык до Киева доведет Впервые — «Осколки», 1884, № 41, 13 октября (ценз. разр. 12 октября), стр. 5—6. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. И прекрасное должно иметь пределы Впервые — «Осколки», 1884, № 44, 3 ноября (ценз. разр. 2 ноября), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. Рассказ написан около 19 октября 1884 г., что видно из записки Л. И. Пальмина от этого числа: «Многоуважаемый Антон Павлович! Аз быхом, но не застахом Вас. „И прекрасное должно иметь пределы“, как говорит вам знакомый коллежский регистратор, что я сию минуту узнал» (ГБЛ). Очевидно. Пальмин видел рассказ на столе у Чехова; неизвестно только, был ли он в этот день окончен. Маска Впервые — «Развлечение», 1884, юбилейный номер, 27 октября (ценз. разр. 26 октября), стр. 11—14. Заглавие: Noli me tangere!1 (Из жизни провинциальных козырей). Подпись: А. Чехонте. Вошло в издание А. Ф. Маркса. Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 190—196. Для собрания сочинений Чехов, в сущности, переписал рассказ заново. Были сокращены большие периоды в речи Пятигорова (в первопечатном тексте — Пятирылов) и переработана сцена снятия маски; во многих случаях устранены просторечия и вульгаризмы. Рассказ «Маска» был внесен Л. Н. Толстым в составленный им перечень «тридцати хороших рассказов Чехова» (см. во вступительной статье стр. 537). При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский и чешский языки. В приюте для неизлечимо больных и престарелых Впервые — «Осколки», 1884, № 43, 27 октября (ценз. разр. 26 октября), стр. 4—5. Подпись: А. Чехонте. Сохранилась журнальная вырезка с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Печатается по журнальному тексту. Вывеска Впервые — «Осколки», 1884, № 43, 27 октября (ценз. разр. 26 октября), отдел «Из копилки курьезов», стр. 6. Подпись — в тексте. Печатается по журнальному тексту. О драме Впервые — «Осколки», 1884, № 44, 3 ноября (ценз. разр. 2 ноября), стр. 4. Подпись: А. Чехонте. Сохранилась журнальная вырезка с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Печатается по журнальному тексту. Брак по расчету Впервые — «Развлечение», 1884, № 43, 8 ноября (ценз. разр. 3 ноября), стр. 897—899. Заглавие: Брак по расчету, или За человека страшно! (Роман в 2-х одинаковых плачевных частях). Подпись: Человек без селезенки. Включено под тем же заголовком в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886. С окончательным подзаголовком вошло в издание А. Ф. Маркса. Перепечатано, по-видимому, без авторского просмотра, в сборнике: А. Чехов. Брак по расчету ‹…› Одесса, 1903, стр. 3—7. Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 75—80. Чехов писал Лейкину 16 ноября 1884 г., отвечая на его упреки за публикацию «Брака по расчету» в «Развлечении»: «Я не думал, что мой рассказ, напечатанный в „Развлечении“, достоин „Осколков“. Я не послал Вам его, ибо он длинен и плох — так по крайней мере мне казалось». При просмотре рассказа для собрания сочинений Чехов снял фамилию посажёного отца невесты — «Желпачев» — и вместо постоянных упоминаний фамилии телеграфиста — «Паршивцев» — оставил только в одном месте: «Блинчиков». В репликах персонажей были устранены отдельные просторечия. «Брак по расчету», вместе с серией подписей к рисункам «Свадебный сезон» и с рассказом «Свадьба с генералом», послужил впоследствии основой для водевиля «Свадьба». В. Г. Богораз (Тан) в воспоминаниях «На родине Чехова» отнес «Брак по расчету» к «случаям из таганрогской жизни» («Чеховский юбилейный сборник». М., 1910, стр. 486). При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, румынский, сербскохорватский и чешский языки. Господа обыватели Впервые — «Осколки», 1884, № 45, 10 ноября (ценз. разр. 9 ноября), стр. 4. Заглавие: Господа обуватели. Мистерия в 2-х действиях. Подпись: Человек без селезенки. Без изменений и с тем же заглавием включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886. Вошло в издание А. Ф. Маркса. Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 127—131. Для собрания сочинений Чехов переписал сценку, включив в текст новые реплики брандмейстера. Свадьба с генералом Впервые — «Осколки», 1884, № 50, 15 декабря (ценз. разр. 14 декабря), стр. 4—5. Подпись: А. Чехонте. Печатается по журнальному тексту. Рассказ написан не позднее первых чисел ноября 1884 г. — к 10 ноября он был уже набран в Петербурге и прошел цензуру. Это видно из письма Лейкина Чехову от 10 ноября 1884 г., где указано и первоначальное, авторское заглавие рассказа: «…пересылаю Вам корректуру Вашего рассказа „Свадьба с генералом“. Так я переименовал Ваш рассказ „Маленький шантаж“. Корректура уже подписана цензором. Пересылаю Вам для того, чтобы Вы выправили ее и возвратили мне. Я боюсь, что у нас переврали морские термины, а морского словаря в своей библиотеке не имею. Рассказ вышел ужасно длинен, и я просто не знаю, как его помещать. К № 47 я думаю сделать прикладной полулист для объявлений, так разве уж тогда. Корректуру прошу не задержать» (ГБЛ). Однако публикация рассказа задержалась. 16 ноября 1884 г. Лейкин писал Чехову: «Теперь у меня остается Вашего только „Свадьба ‹с› генералом“. Если в запас к понедельнику не будет мне от Вас выслано рассказа, то „Свадьбу“ я не могу пускать в № 47 и оставлю ее лежать, а для № 47 напишу уж (понатужусь) сам сверхкомплектный рассказ» (там же). Сохранились сведения об источниках, использованных Чеховым при написании рассказа. А. С. Лазарев (Грузинский) впоследствии вспоминал: «Одна из старинных, купленных Чеховым на Сухаревке, книг — „Толкователь слов разных и терминов иностранных, в российском флоте употребляемых“ (заглавие цитирую на память, приблизительно), — по словам Чехова, дала ему тему для превосходного юмористического рассказа об отставном контр-адмирале Ревунове-Караулове…» (Чехов в воспоминаниях современников, стр. 153). В предисловии к описанию библиотеки Чехова С. Д. Балухатый высказал предположение, что книгой этой был терминологический словарь И. Яновского «Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту, содержащий: Разные в Российском языке встречающиеся иностранные речения и Технические термины, значение которых не всякому известно, каковы суть между прочими: Астрономические, Математические, Медицинские, Анатомические, Химические, Юридические, Коммерческие, Горные, Музыкальные, Военные, Артиллерийские, Фортификационные, Морские и многие другие, означающие Придворные, Гражданские и Военные чины, достоинства, должности и проч. как древних, так и нынешних времен. Ч. 1—3. СПб., 1803—1806» (см. «Чехов и его среда». Л., «Academia», 1930, стр. 205—206). Кроме того, по словам М. П. Чехова, «книга „Командные слова для совершения главнейших на корабле действий“ (СПб., 1830) дала Чехову материал для роли Ревунова-Караулова в его водевиле „Свадьба“» (Вокруг Чехова, стр. 108). Действительно, Чехов использовал этот справочник в речевой характеристике контр-адмирала. Ср., например, в «Свадьбе с генералом»: «А вот ежели корабль лежит бейдевинд правым галсом под всеми парусами, исключая грота, то как надлежит командовать? Очень просто… дай бог память… Всех на вееерх, через фордевинд поворачивать!» — и в «Командных словах»: «Предположив, что корабль лежит бейдевинд правым галсом под всеми парусами, исключая грота, надлежит командовать: 1. По местам: через фордевинд поворачивать» (стр. 85—86). Обычай, описанный в рассказе, был широко распространен в среде московского купечества и мещанства. Чехов писал о нем тогда же в «Осколках московской жизни»: «Жених не успокоится, если не проедется по улицам в золоченой свадебной карете, если будут петь не самые лучшие певчие и октава дьякона не будет достаточно низка. Нанимай ему на свадьбу генерала, и непременно со звездой, греми ему музыка, да так, чтобы со Сретенки на Плющиху слышно было»; «Генералы да статские советники нужны купцам. Без них ни купеческие свадьбы, ни обеды, ни купеческие думы обойтись не могут» («Осколки», 1884, № 41, 13 октября, и № 51, 22 декабря). В примечаниях к водевилю «Свадьба» в ПССП, т. XI, стр. 550, справедливо сказано, что пьеса 1889 г. «является переделкой рассказа „Свадьба с генералом“. Некоторые мотивы привлечены из рассказов: „Свадебный сезон“ (1881) и „Брак по расчету“ (1884)». Сводку мемуарных очерков о свадьбах с генералами см. в примечаниях Н. С. Ашукина в сб.: «Ушедшая Москва. Воспоминания современников о Москве второй половины XIX века». М., 1964, стр. 426. Н. А. Лейкин, вслед за Чеховым, описал тот же обычай в сценке «В почетные гости зовет» («Осколки», 1886, № 34, 23 августа, стр. 3—4). К характеристике народов Впервые — «Осколки», 1884, № 46, 17 ноября (ценз. разр. 16 ноября), стр. 4. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. Задача Впервые — «Осколки», 1884, № 46, 17 ноября (ценз. разр. 16 ноября), стр. 6, с указанием в конце: Решение в следующем номере. Подпись: Человек без селезенки. Конец рассказа, под названием «Решение задачи, помещенной в № 46», был опубликован в следующем, 47-м номере, 24 ноября 1884 г. (ценз. разр. 23 ноября), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки. Сохранилась журнальная вырезка с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Печатается по тексту журнала «Осколки». «Задача» была написана, по-видимому, за неделю до публикации. 11 ноября 1884 г. Чехов сообщал Лейкину: «Шлю мелочишку. Мне сдается, что она чуточку мутна. Если так, то вышлите обратно, я ее починю…» Вероятно, в этой «мелочишке» Чехов объединил «Задачу» с миниатюрой «К характеристике народов», которая была опубликована в том же номере. 16 ноября 1884 г. Лейкин писал Чехову: «В № 46 журнала ушли Ваша география и Ваша загадка (я ее поставил вместо шарады)» (ГБЛ). Ночь перед судом Впервые — «Осколки», 1886, № 5, 1 февраля (ценз. разр. 31 января), стр. 4—5, с подзаголовком: Случай из моей медицинско-шарлатанской практики. Подпись: А. Чехонте. С окончательным подзаголовком включено в сборник: Невинные речи А. Чехонте (А. П. Чехова). Издание журнала «Сверчок». М., 1887, стр. 27—38. Вошло в издание А. Ф. Маркса. Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 81—87. Рассказ написан, видимо, в первой половине ноября 1884 г. 17 декабря 1884 г. Чехов писал П. А. Сергеенко: «Месяц тому назад я послал в „Стрекозу“ рассказ, посвященный „недавно судившемуся другу моему Эмилю Пупу“. Заглавия не помню… Память до того подлая, что скоро забуду, где верх, где низ… Кажется, „Ночь перед судом“, но не ручаюсь. Под заглавием курсивная строка: „Случай из моей медицинско-шарлатанской практики“. Подпись „Дяденька“ ‹…› Рассказ несколько нецензурен: либерален, сален и проч. … Если будешь писать в Питер, то справься о судьбе чеховского рассказа. Впрочем, справка эта не имеет особой важности, и я мало потеряю, если ты забудешь… Пишу же тебе о сем с тою целью, чтобы выдать тебе с головою автора, дерзнувшего украсить свой рассказ твоим эмилепупством». По-видимому, после запроса Сергеенко редактор «Стрекозы» И. Ф. Василевский писал Чехову 7 января 1885 г.: «Рассказ Ваш, к сожалению, отлежав узаконенный срок в конторе, уничтожен. Единственная его слабая сторона была — длина его» (ГБЛ). При публикации в «Осколках» посвящение было снято, а псевдоним «Дяденька» заменен обычным: А. Чехонте. Кроме того, в рассказе были сделаны цензурные изъятия. 6—7 февраля 1886 г., сообщая Чехову о цензурных купюрах в рассказе «Анюта», Лейкин прибавил: «Должен Вам сказать, что и в предшествовавшем Вашем рассказе какие-то строчки о внебрачносожительственных намеках были захерены не мной, а цензором» (ГБЛ). Готовя рассказ для сборника «Невинные речи», Чехов внес в текст несколько поправок: были сняты слово «Чучело» в обращении Зиночки к мужу и заключительная фраза. При подготовке рассказа для собрания сочинений была проведена небольшая правка, смягчены резкие выражения в диалоге. Сохранился черновой автограф начала пьесы «Ночь перед судом» (ЦГАЛИ). Пьеса основана на сюжете рассказа; датируется по почерку серединой 1890-х годов (см. т. XIII Сочинений). При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, венгерский, польский, сербскохорватский и чешский языки. Новейший письмовник Впервые — «Осколки», 1884, № 48, 1 декабря (ценз. разр. 30 ноября), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. «Новейший письмовник» был отправлен в «Осколки», видимо, 19 ноября 1884 г., когда Чехов писал Лейкину: «Вместо одного большого рассказа посылаю Вам 3 плохих мелочишки». Пародия на разные виды эпистолярного жанра занимала прочное место в творчестве молодого Чехова, начиная с его первых литературных опытов. «Чехов любил покупать старинные книги и курьезные, вроде „письмовников“», — отмечает А. С. Лазарев (Грузинский). — «Об одном из „письмовников“ память моя сохранила такую сцену. Однажды в Бабкине или Мелихове, в серый день, когда стекла окон стали тусклыми от потоков дождя, Чехов достал какой-то „письмовник“ и начал читать его мне и Ивану Павловичу, гостившему в деревне. Читал он очень забавно, а письма были почти сплошь такой отчаянной чепухой, что мы все не могли не смеяться, и скука, навеянная серым днем, от нас отошла» (Чехов в воспоминаниях современников, стр. 153—154). У постели больного Впервые — «Осколки», 1884, № 48, 1 декабря (ценз. разр. 30 ноября), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. Возможно, что «У постели больного» — одна из трех «мелочишек», отправленных Чеховым в «Осколки» 19 ноября 1884 г. (см. выше примечания к «Новейшему письмовнику»). Картинки из недавнего прошлого Впервые — «Осколки», 1884, № 48, 1 декабря (ценз. разр. 30 ноября), стр. 4. Подпись: А. Чехонте. Печатается по журнальному тексту. 4 ноября 1884 г. Чехов попросил Н. А. Лейкина порекомендовать его в «Петербургскую газету» для написания фельетонов о сенсационном судебном деле директора банка в г. Скопине, Рязанской губ. — И. Г. Рыкова: «Дело будет тянуться 12 дней. Без эффектов не обойдется… О многом можно написать…» Одновременно Чехов предлагал эту тему для фельетонов в «Осколки». 10 ноября Лейкин сообщил Чехову о согласии редактора «Петербургской газеты» С. Н. Худекова печатать «коротенькие юмористические сведения из суда» и выразил желание видеть в «Осколках московской жизни» заметки «о судьбище над Рыковым» (ГБЛ). Репортаж Чехова «Дело Рыкова и комп. (От нашего корреспондента)» печатался в «Петербургской газете», 1884, №№ 324—338, 24 ноября — 8 декабря; № 340, 10 декабря. 24 ноября Лейкин обратился к Чехову с просьбой: «Черкните о Рыкове кусочек не в черед „Оск‹олкам› москов‹ской› жизни“, только маленький кусочек. Помещу в № 48» (ГБЛ). 25 ноября Чехов отвечал: «Вместо фельетона о Рыкове, который вышел бы и мал и жалок (в 40—50 строк фельетона всего процесса не всунешь), посылаю Вам „Скопинские картинки“. Думаю, что сгодятся…» Чехов готов был продолжать цикл; на следующий день, 26 ноября, он писал Лейкину: «Если Вам по нутру придутся картинки из Скопина, то не прислать ли новую серию? Злоба дня солидная… Дело я понимаю, и тем много». 28 ноября Лейкин ответил: «Насчет картинок „Скопинские башибузуки“ — довольно. Три присланные картинки пойдут в № 48, а для № 49 готовьте „Осколки москов‹ской› жизни“, где можете пройтиться в доброй половине и о Рыкове» (ГБЛ). Суд начался 22 ноября; решение Судебной палаты вынесено 12 декабря («Русские ведомости», 1884, № 346, 14 декабря). Чехов использовал сведения, приведенные в «Обвинительном акте по делу о злоупотреблениях в Скопинском банке», который был прочитан на заседаниях 22 и 23 ноября, а также опубликован (не полностью) в газете «Русские ведомости», 1884, № 325, 23 ноября. «Картинки» написаны, очевидно, 25 ноября. О Рыкове идет речь в двух очерках «Осколков московской жизни» («Осколки», 1884, №№ 49 и 51, 8 и 22 декабря). См. также «Идиллия — увы и ах!» (т. I Сочинений). Устрицы Впервые — «Будильник», 1884, № 48 (ценз. разр. 6 декабря), стр. 585—586, с подзаголовком: Набросок. Подпись: А. Чехонте. Включено, без подзаголовка, с небольшими поправками, в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886. При подготовке второго издания сборника Чехов изъял из рассказа прямые обращения к читателю и внес в текст мелкие поправки. В таком виде рассказ был перепечатан во всех последующих изданиях сборника, а также в книге: Проблески. Сборник произведений русских авторов. М., 1895, стр. 271—275. Вошел с небольшими исправлениями и сокращениями в издание А. Ф. Маркса. Печатается по тексту: Чехов, т. III, стр. 196—200. В юмористической литературе 1880-х годов не раз встречается анекдотическая история о простаке, который не знает, как обращаться с устрицами, и боится это показать. Такова одна из четырех миниатюр В. В. Билибина, объединенных названием «Сережки»: «— Любите вы устрицы? — спросили раз у одного провинциала, приехавшего в Петербург. — Ах, очень! — воскликнул он, стараясь состроить физиономию человека, понимающего толк в „хороших вещах“, — только… что у них внутри?.. Ведь морская вода, не правда ли?..» У Чехова комическая ситуация приобретает трагическое звучание. Еще за год до написания рассказа «Устрицы» в «Осколках московской жизни» возникает образ «сытых», чья степень пресыщения выражается в пристрастии к устрицам: «Поедают они у Оливье жирные, двухрублевые обеды, женятся на богатых купчихах, пьют монахор, глотают устриц… И устрицы лезут им в глотку! ‹…› Некогда им думать о каких-нибудь — фи! — пятидесяти, ста рублях! Они заняты своею сытостью. И устрицы лезут им в глотку!» («Осколки», 1883, № 43, 22 октября). Сам Чехов относил рассказ «Устрицы» к числу «серьезных» этюдов (см. письмо к М. В. Киселевой от 29 октября 1886 г.). 18 января 1886 г., посылая В. В. Билибину «Устрицы» для сборника «Пестрые рассказы», он определил свою задачу как профессионально медицинскую — то есть, очевидно, как изображение физического и душевного самочувствия человека в состоянии крайнего истощения: «Один рассказец, не вошедший в транспорт, при сем прилагаю… Присовокупите его к общей массе… Прочтите его, если хотите: в этом рассказе я пробовал себя как medicus». Рассказ не встретил одобрения у Билибина; 22—23 января он писал Чехову: «Ваш транспорт с вырезками Лейкин получил, я ему передал очерк „Устрицы“ (который не лучше других Ваших рассказов)» (ГБЛ). В. А. Гольцев в статье «А. П. Чехов. (Опыт литературной характеристики)» привел рассказ «Устрицы» как пример глубоко гуманного отношения к изображаемому; уже в ранних произведениях Чехова «чувствуется именно человек ‹…› Вспомните рассказ о том, как бедного, умиравшего с голоду ребенка два сострадательных господина в цилиндрах, потехи ради, обкормили устрицами…» («Русская мысль», 1894, № 5, стр. 43). И. А. Бунин в своих воспоминаниях высоко оценил рассказ «Устрицы»; вместе с «Жалобной книгой» он стоит под 1884 годом в его списке: «Лучшие, по моему мнению, произведения Чехова» (ЛН, т. 68, стр. 677). При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, венгерский, немецкий, польский, румынский, сербскохорватский, словацкий, финский, чешский и шведский языки. Либеральный душка Впервые — «Осколки», 1884, № 51, 22 декабря (ценз. разр. 21 декабря), стр. 4—5. Подпись: А. Чехонте. В архиве Чехова сохранилась вырезка из «Осколков» с текстом рассказа (ЦГАЛИ). Печатается по журнальному тексту. Страшная ночь Впервые — «Развлечение», 1884, № 50, 27 декабря (ценз. разр. 23 декабря), стр. 1065—1068, с подзаголовком: Святочный рассказ. Посвящается гробокопателю М. П. Ф…у. Подпись: перед P. S. — Ч. Хонте и после P. S. — А. Чехонте. Включено без подзаголовка и без посвящения в сборник: Невинные речи А. Чехонте (А. П. Чехова). Издание журнала «Сверчок», М., 1887. Вошло в издание А. Ф. Маркса. Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 36—43. Шуточное посвящение в журнальном тексте относилось к М. П. Федорову, номинальному редактору «Нового времени». «Гробокопателем» Чехов назвал его, вероятно, в том же смысле, что и ранее Салтыков в статье «Характеры» — М. Н. Лонгинова: «знаменитый наш библиограф и гробокопатель» (М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч. в 20 тт. Т. 4. М., 1966, стр. 198). Чехов в письме к Л. А. Авиловой от 23 марта 1899 г. назвал так П. А. Сергеенко: «…он гробокопатель. Если нужно завещать, продать навеки и т. п., то обращайтесь к нему». Для собрания сочинений Чехов изменил конец рассказа, сильно сократив его, и внес в текст стилистические поправки. В специальной литературе неоднократно отмечалось, что «Страшная ночь» представляет собой пародию на распространенный в юмористических журналах 1880-х годов жанр святочного «страшного» рассказа. Ранняя редакция рассказа — более откровенная пародия, чем его поздний текст: Чехов снял в концовке «Страшной ночи» натуралистическое объяснение пауз в рассказе Панихидина и его волнения. Обычная при подготовке собрания сочинений пунктуационная правка здесь особенно велика: в 55 случаях многоточие заменено точкой; в 1884 г. Чехов усиленно пользовался многоточием для нагнетания атмосферы ужаса и таинственности, что он сам впоследствии расценил как чисто внешний прием и старательно вытравлял. В «Страшной ночи» нашла отражение шутка Л. И. Пальмина в его письме Чехову от 19 октября 1884 г.: «А я переехал на новую квартиру: У Успенья-на-Могильцах (не думайте, что Мертвый переулок, д. Гробова и квартира Крестопоклонникова. Я знаю — это для всякого, особенно молодого доктора адрес подходящий). Нет: Малый Успенский пер., д. Никифоровой» (ГБЛ). Уже после напечатания «Страшной ночи» Пальмин, сообщая Чехову 30 декабря 1884 г. о болезни своего знакомого, продолжал острить в духе того же кладбищенского юмора, частично используя фамилии чеховских персонажей: «Карбункул или что другое — определить дело или г. Панихидина, или г. Гробова, или г. Упокоева, или, наконец, гг. Червоточниковых, а не то знаменитого (в будущем) доктора Чехова» (там же). Первая печатная шутка Чехова в подобном духе относится еще к концу 1881 г., когда он поместил в «Конторе объявлений Антоши Ч.» объявление «Гробовых дел мастера Черепова». При жизни Чехова рассказ был переведен на английский, немецкий, польский, сербскохорватский, словацкий и чешский языки. Елка Впервые — «Развлечение», 1884, № 50, 27 декабря (ценз. разр. 23 декабря), стр. 1077—1078. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. Не в духе Впервые — «Осколки», 1884, № 52, 29 декабря (ценз. разр. 28 декабря), стр. 4, с подзаголовком: Рассказец. Подпись: А. Чехонте. Вошло в издание А. Ф. Маркса. Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 166—168. Рассказ был написан Чеховым незадолго до его публикации, как это видно из письма Лейкина автору от 24 декабря: «Сегодня в 8 часов вечера получил Ваше письмо от 23 дек. (заказное) с рассказцем и рождественской мелочишкой» (ГБЛ). В это время № 52 уже был набран и отослан цензору. 26 декабря Лейкин сообщил Чехову «…невзирая на все трудности, я включил в № 52 и Вашу рождественскую мелочишку и рассказец „Не в духе“» (там же). Готовя рассказ для собрания сочинений, Чехов сильно сократил раздраженные тирады станового пристава, характеризующие его отношение к крестьянам и заушательские привычки. При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, сербскохорватский и чешский языки. Предписание Впервые — «Осколки», 1884, № 52, 29 декабря (ценз. разр. 28 декабря), стр. 6. Подпись — в тексте. Печатается по журнальному тексту. Чехов отправил «Предписание» Лейкину 23 декабря 1884 г., вместе с рассказом «Не в духе» (см. примечания к этому рассказу). Сон Впервые — «Петербургская газета», 1885, № 354, 25 декабря, стр. 2. Подпись: А. Чехонте. Печатается по тексту «Петербургской газеты». Рассказ написан за год до его публикации и вначале предназначался для «Осколков». 23 декабря 1884 г. Чехов сообщал Лейкину: «Посылаю Вам рассказ и рождеств‹енскую› мелочишку. Сегодня с курьерским вышлю святочный рассказ ‹…› Святочный рассказ получите купно с заказным письмом или немного спустя, но не далее понедельника» (т. е. 24 декабря). Рассказ был получен Лейкиным 25 декабря, что видно из его письма от 26 декабря 1884 г.. «Спешу уведомить Вас, добрейший Антон Павлович, что второе письмо Ваше с приложением святочного рассказа я получил во вторник в 8 ч. вечера. Рассказ действительно длинен и неудачен по изложению, но бросать я его не стану, а, если позволите, как-нибудь переделаю и сокращу» (ГБЛ). Однако переделка и публикация рассказа задержались. 20/21 ноября 1885 г. Лейкин писал Чехову: «У меня хранится с прошлого года Ваш святочный рассказ „Сон“. Он несколько мистичен, но я попробую исправить его несколько, и он все-таки пойдет на святках. Вы, может быть, забыли об этом рассказе, но рассказ этот большой» (ГБЛ). Чехов в письме от 23 ноября 1885 г. отклонил предложение Лейкина: «Спасибо за открытие, что у Вас имеется „Сон“. Если это что-нибудь путевое и достойное праздничного номера, то пришлите его мне. Я подвергну его переделке и вышлю немедленно». 27 ноября Лейкин сообщил: «Святочный рассказ, о котором писал, вышлю на днях страховым письмом. Действительно, Вам самому лучше его исправить» (ГБЛ). Лейкин выслал «Сон» 7/8 декабря 1885 г. вместе с письмом, в котором высказал свои пожелания: «Мне кажется, надо переделать весь конец и выяснить для читателя, почему оценщик попал в арестантские роты, почему он свое преступление считает сном, а не действительностью. Сделайте оценщика больным человеком что ли, страдающим галлюцинациями, лунатизмом что ли, хотя последняя болезнь и отрицается. Возьмите Гризингера, почитайте и найдите оценщику какую-нибудь подходящую болезнь, в припадке которой могло бы быть им совершено бессознательное расхищение вещей и отдача их нищим и настоящим ворам, которые фигурируют в рассказе. Мне кажется, что именно надо так сделать, чтобы рассказ был ясен и реален, а впрочем, Вам как автору с горы виднее» (ГБЛ). Эти замечания Лейкина не были реализованы в рассказе. Поведение героя мотивировано нравственными, а не патологическими побуждениями. Праздничная повинность Впервые — «Развлечение», 1885, № 1, 3 января (ценз. разр. 2 января), стр. 15. Подпись: А. Чехонте. Печатается по журнальному тексту. Дело о 1884 годе Впервые — «Осколки», 1885, № 1, 5 января (ценз. разр. 4 января), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. Масленичные правила дисциплины Впервые — «Будильник», 1885, № 4 (ценз. разр. 24 января), стр. 40—41. Подпись: Брат моего брата. Печатается по журнальному тексту. Капитанский мундир Впервые — «Осколки», 1885, № 4, 26 января (ценз. разр. 25 января), стр. 4—5. Подпись: А. Чехонте. Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886, и перепечатано во всех последующих изданиях сборника. Вошло в издание А. Ф. Маркса. Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 63—69. Включая рассказ в сборник «Пестрые рассказы», Чехов внес небольшие поправки и снял фразу: «Хоть и полицейский, а дурак и хам…» При перепечатке в сборнике рассказ подвергся дальнейшим исправлениям, особенно во втором его издании. Дополнительная работа над рассказом была проведена Чеховым и при подготовке издания А. Ф. Маркса (см. варианты). Во всех предыдущих изданиях Чехова (ПССП, Собр. соч. в 12-ти тт., т. 3, 1955 и 1961 гг.) отмечено, что рассказ был задуман к Новому году, но неверно отнесены к этому рассказу слова Лейкина из письма его к Чехову от 20 декабря: «Рассказ действительно длинен и неудачен по изложению…» Этот отзыв относится к «святочному» рассказу «Сон» (см. примечания к нему в наст. томе). Современная писателю критика увидела в «Капитанском мундире» показ «униженного и оскорбленного» человека. В 1894 г. В. Гольцев писал: «Чехов хорошо понимает зло несправедливых и несвободных общественных условий…», «то нравственное искалечение, которому подвергались люди при крепостном праве». Критик приводит в качестве примера рассказ «Капитанский мундир», «в котором портной Меркулов с умилением сообщает, что капитан, не заплативший ему за мундир, бил его точно так же, как в счастливые для рабьей души времена бивал Меркулова барон Шпуцель…» («А. П. Чехов. Опыт литературной характеристики» — «Русская мысль», 1894, № 5, стр. 49—50). В 1900 г. в рецензии на II том сочинений Чехова в издании А. Ф. Маркса критик Басаргин (А. И. Введенский) поставил рассказ в разряд произведений, в которых «из-за раскатов безобидного смеха» «слышится горечь сожаления и досады на нашу сплошь и рядом жалкую и пошлую действительность» («Московские ведомости», 1900, № 270, 30 сентября, стр. 3). При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, немецкий, польский, сербскохорватский, словацкий и чешский языки. У предводительши Впервые — «Осколки», 1885, № 6, 9 февраля (ценз. разр. 8 февраля), стр. 4, с подзаголовком: Рассказ. Подпись: А. Чехонте. Включено, без подзаголовка, в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886; перепечатывалось во всех последующих изданиях сборника (с отдельными поправками во втором, шестом и десятом изданиях). Вошло в издание А. Ф. Маркса. Печатается по тексту: Чехов, т. III, стр. 142—146. Сохранился рапорт цензора Энгельгардта, написанный в 1887 г. в связи с предполагавшимся изданием рассказа для народного чтения: «Автор говорит о панихиде и молебне как-то пренебрежительно и рисует пьяного священника и дьякона. Рассказ этот не годится для народного чтения…» (Чехов, Лит. архив, стр. 260). Сразу же после выхода в свет сборника «Пестрые рассказы» критика обратила внимание на этот рассказ. К. Арсеньев, считавший, что в рассказах Чехова преобладает «элемент анекдотический» и что «значительно большая их часть могла бы остаться похороненной в летучих газетных листках, без всякой потери для русской литературы и для самого автора» (см. вступительную статью к наст. тому, стр. 534—535), — выделил несколько рассказов, выходящих за рамки анекдота, и среди них рассказ «У предводительши». «Очень недурны также рассказы „У предводительши“, „Оба лучше“, „Пересолил“, „Комик“; и здесь источник комизма заключается в контрасте, не притянутом за волосы, но вполне естественном и жизненном» (К. Арсеньев. Беллетристы последнего времени. — «Вестник Европы», 1887, кн. 12, стр. 768—769). М. П. Чехов полагал, что в рассказе показан дом дяди Чехова — Митрофана Егоровича. «В этом именно домике и схвачены Антоном Чеховым некоторые моменты, разработанные им впоследствии в таких рассказах, как, например, „У предводительши“» (Вокруг Чехова, стр. 33). При жизни Чехова рассказ переводился на венгерский, немецкий, сербскохорватский, французский и чешский языки. Живая хронология Впервые — «Осколки», 1885, № 8, 23 февраля (ценз. разр. 22 февраля), стр. 3—4. Подпись: А. Чехонте. Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886, и перепечатано с отдельными поправками во всех последующих изданиях сборника. Вошло без изменений в издание А. Ф. Маркса. Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 70—73. При жизни Чехова рассказ переводился на венгерский, датский, немецкий, польский и сербскохорватский языки. Служебные пометки Впервые — «Осколки», 1885, № 9, 2 марта (ценз. разр. 1 марта), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. В бане Впервые — как два самостоятельных рассказа: «Осколки», 1885, № 10, 9 марта (ценз. разр. 8 марта), стр. 4. Заглавие: В бане. Подпись: А. Чехонте; «Будильник», 1883, № 42 (ценз. разр. 29 октября), стр. 403—404. Заглавие: Относительно женихов. Подпись: А. Чехонте. Первый рассказ с небольшими исправлениями вошел в сборник «Памяти В. Г. Белинского», М., 1899, стр. 167—170. Подпись: Антон Чехов. Объединив «В бане» с переработанным рассказом «Относительно женихов» в один рассказ, состоящий из двух глав, Чехов включил его в издание А. Ф. Маркса. Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 5—13. Помещая первый рассказ в сборник «Памяти В. Г. Белинского», Чехов выправил речь цирюльника, убрав бранные слова. Сохранился автограф (ИРЛИ) первого рассказа, посланного вместе с рассказами «Оратор» и «Неосторожность» редактору сборника «Памяти В. Г. Белинского» П. А. Ефремову. В сопроводительном письме от 24 июня 1898 г. Чехов писал: «Если найдете их подходящими, то благоволите напечатать их под общим заглавием „Три рассказа“ или „Мелочи“, и в таком порядке: 1) Оратор, 2) Неосторожность и 3) В бане». Текст рукописи, по которой делался набор, полностью совпадает с публикацией сборника. Сохранилась также (ЦГАЛИ) вырезка из журнала «Осколки» с текстом первого рассказа и начатой авторской правкой. Вычеркнуты две фразы: «Банщики без панталонов, а я в штанах-с, потому… я цирюльник», отсутствующая и в сборнике и в издании А. Ф. Маркса, и вторая: «И тогда же еще я вам ноготочки срезывал», оставшаяся в исправленном виде в обоих изданиях. Для собрания сочинений текст первого рассказа был взят из сборника «Памяти В. Г. Белинского» с добавлением одной фразы (см. варианты); журнальный текст второго подвергся большой переделке (в основном — сокращению): в характеристике женихов были убраны бранные выражения — «мерзавец», «каналья», «сквернавец», «паршивец», «дурак» и т. п. Устранены рассуждения типа «В старину люди за всё деньги платили, а нынешние сами за всё деньги берут», «Будь у женского пола настоящий характер, да будь родители построже, не было бы на этом свете старого товара… девиц завалящих». Рассказы Чехова, напечатанные в сборнике «Памяти В. Г. Белинского», Л. Н. Толстой 30 марта 1899 г. читал своей семье. Т. Л. Толстая писала Чехову: «Папа прочел нам также рассказы в сборнике Белинского, которые тоже очень ему понравились, так же как и всем нам» (см.: ЛН, т. 68, стр. 872). Тема женихов затрагивалась Чеховым и в фельетонах «Осколки московской жизни» («Осколки», 1883, № 31, и 1884, № 1; см. т. XVI Сочинений). При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, сербскохорватский и шведский языки. Разговор человека с собакой Впервые — «Осколки», 1885, № 10, 9 марта (ценз. разр. 8 марта), стр. 5, с подзаголовком: Сценка. Подпись: Человек без селезенки. Включено, без подзаголовка, в первое издание «Пестрых рассказов». Печатается по тексту сборника «Пестрые рассказы», СПб., 1886, стр. 114—116. Сохранилась писарская копия рассказа (ЦГАЛИ) без авторской правки, с пометкой: «…NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов». При жизни Чехова рассказ был переведен на сербскохорватский язык. О марте Впервые — «Осколки», 1885, № 11, 16 марта (ценз. разр. 15 марта), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. С марта 1885 г. Чехов, по заказу Лейкина, начал регулярно писать «Филологические заметки», материал для которых он брал из книги И. Снегирева «Русские простонародные праздники и суеверные обряды». М., 1838. Чехов просил также и брата выписывать нужные ему сведения из «Русского энциклопедического словаря» И. Н. Березина (см. письмо М. П. Чехову от 10 мая 1885 г.). Написав заметки о марте, апреле и мае, Чехов задержал заметку об июне. 11 июля 1885 г. Лейкин спрашивал Чехова: «Что Вы, батенька, оставили писать Ваши толкования о происхождении названий месяцев?! Ждал я „июня“, ждал „июля“ и ни того, ни другого. Вы обещали, между тем, доставлять на все месяцы. Ну, июнь, бог с ним! А июль пришлите. Ведь это не бог весть как трудно. Я знаю и источник Ваш. Вы берете из книги Снегирева „Простонародные русские праздники“. Если Вы не будете делать, то я сам начну. Когда Вы обещались мне доставлять на каждый месяц статейку, то я из-за Вас отказал Пальмину, который тоже воспевал месяцы. ‹…› Пожалуйста, дайте мне знать, будете Вы продолжать писать или не будете?» (ГБЛ). 17 июля Чехов отвечал Лейкину: «…о месяцах, конечно, писать я буду. Пропустил я июнь и по лености, и сам не знаю почему. Вероятно, виновато тут отчасти такое обстоятельство: приехал как-то раз из Питера Алоэ и, выругав меня за мои филологические измышления, сказал, что „там“ (т. е. в Питере, у вас) удивляются, что я занялся такой скучищей и сушью, как месяцы и народные праздники… Врал Алоэ или нет, не знаю, но его слова сильно подшибли мой кураж». Филологические заметки Чехов писал с трудом. Последняя заметка была «Об августе». На многочисленные запросы Лейкина он отвечал 14 сентября: «О сентябре вышлю к следующей неделе, если же у меня ничего не выйдет, то пришлю Сентябрь и Октябрь вместе, ибо они мало отличаются друг от друга — septem, octo…» В письме от 30 сентября Чехов снова обещает написать общую заметку о двух месяцах; 12 октября сообщает: «Завтра засяду и напишу „Сент‹ябрь› и Октябрь и Ноябрь“, — конечно, если не помешает что-нибудь вроде практики и проч.». По-видимому, Чехов написал и послал заметку, однако Лейкин ее не получил. Отвечая на несохранившееся письмо Чехова от 26—27 октября 1885 г. (см. Письма, т. 1, стр. 515—516), Лейкин писал 31 октября: «Ни статьи об Октябре, ни „Домашние средства“ я не получал, стало быть, письмо пропало на почте или не было опущено Вашим посланным в почтовый ящик, если Вы не сами письмо опускали ‹…› Что же касается „Октября“, то эту статью не посылайте. Теперь уже слишком поздно говорить об октябре, да и нельзя говорить об октябре, не сказав ни слова о сентябре. Вообще в той форме, как вы писали о месяцах, прекратите писать. Подобные статьи хороши только тогда, когда они являются аккуратно в начале каждого месяца, а не тогда, когда вздумается их автору» (ГБЛ). Об апреле Впервые — «Осколки», 1885, № 14, 6 апреля (ценз. разр. 5 апреля), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. О мае Впервые — «Осколки», 1885, № 18, 4 мая (ценз. разр. 3 мая), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. Об июне и июле Впервые — «Осколки», 1885, № 30, 27 июля (ценз. разр. 26 июля), стр. 5—6. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. Сведения для заметки были присланы Чехову братом Михаилом Павловичем в письме без даты (ГБЛ). Взяты они были частично из «Крестового календаря» А. А. Гатцука. М. П. Чехов выписал (по своему выбору) важнейшие общественные и исторические события, происшедшие в этих месяцах. По-видимому, Чехов сам не видел календаря, так как художественно обработал и поместил в заметке лишь те сведения, которые содержались в письме брата. Об августе Впервые — «Осколки», 1885, № 34, 24 августа (ценз. разр. 23 августа), стр. 4—5. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. Не тлетворные мысли Впервые — «Осколки», 1885, № 11, 16 марта (ценз. разр. 15 марта), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. Оба лучше Впервые — «Осколки», 1885, № 13, 30 марта (ценз. разр. 29 марта), стр. 4, с подзаголовком: Рассказ. Подпись: А. Чехонте. Включено без подзаголовка в первое издание «Пестрых рассказов». Печатается по тексту сборника «Пестрые рассказы», СПб., 1886, стр. 77—82. Рассказ был написан Чеховым в первой половине марта 1885 г. 15/16 марта этого года Лейкин писал: «Рассказ Ваш „Оба лучше“ набран, пропущен цензурой и будет помещен после Пасхи. Ни перед Пасхой, ни на Пасхе его, по своему содержанию, помещать неловко, выйдет некстати, а там, после „Красной горки“, когда люди взапуски жениться начнут, он у нас и будет рассказом а propos» (ГБЛ). Сразу же после выхода в свет «Пестрых рассказов» критика выделила рассказ как один из лучших в сборнике (см. примечания к рассказу «У предводительши»). Тост прозаиков Впервые — «Будильник», 1885, № 12 (ценз. разр. 20 марта), стр. 143. Печатается по журнальному тексту. Двенадцатый номер «Будильника» был посвящен празднованию двадцатилетия журнала (1865—1885), и помещенный в нем разнообразный материал оформлен в виде описания юбилейного вечера. Написано всё было, по-видимому, сотрудниками журнала совместно и, возможно, с участием Чехова. В описании юбилея много раз упоминается его имя. После стихотворения «В день юбилея» (подпись — «Будильник») и «Curriculum vitae, или Краткое жизнеописание „Будильника“» (подпись — «Никс» и «Моск. фланер» — псевдонимы Н. П. Кичеева и А. Д. Курепина) следует «Восторженное приглашение (разосланное по России и даже в „заграницу“ в нескольких миллионах экземпляров)», которое начинается словами: «М. м. г. г. Во все двадцать лет своего существования „Будильник“, не переставая, приглашал заблудшего человека стать на стезю истины, сегодня же он приглашает… обедать». На обед приглашаются все сотрудники журнала, подписчики журнала «в течение 20 лет», «жены, доставившие от мужей свидетельства в том, что они, будучи добродетельны, увлекались платонически только сотрудниками журнала и тем выказали любовь свою к сатирической литературе», все типографы, цинкографы, граверы и «вообще лица, принесшие какую-либо услугу „Будильнику“, а стало быть, и отечеству». Далее следует «Объяснение (почему, что и как)»: «В общем редакционном собрании „Будильника“ было решено большинством 660 против 6 голосов избрать для празднования двадцатилетнего юбилея нашего многоуважаемого журнала помещение клуба Непредусмотрительных людей, где, как известно, числятся членами все российские граждане, писавшие когда-либо и что-либо, кроме векселей, латинских переводов, журналов входящих и исходящих, лавочных счетов и т. д. Программа празднества вызвала бурю споров. Все единодушно стояли на одном: прежде всего — обед; но за этим пунктом начиналось самое пагубное разногласие. Антоша Чехонте нашел блистательный выход из затруднительного положения редакции, формулировав программу следующими краткими, но выразительными словами: „Обед, а там — что кому бог на душу положит“». «Меню» обеда было составлено «по всестороннем обсуждении всех обстоятельств внутренней (карманной) и внешней (вообще) политики». Оно состояло, например, из «Супа виндзор из телячьих ножек Далее шло «Юбилейное предобедие», где подробно описывались парадная лестница, зал, украшенный флагами и щитами с девизами «Будильника», например: «Полезнее медною кастрюлей, нежели медным лбом обладать» или «Веселость духа — прежде всего». «Вдоль стен были расставлены бюсты из бисквит-фарфора всех знаменитых участников „Будильника“…», а у входа красовались две огромные статуи: «Сатиры» — «исходной точки всех стремлений» журнала — и Мефистофеля, его гения-покровителя. «У подножия статуи редакция, в лице г-жи издательницы, встречала своих званых и незваных гостей. Последние, начиная с шести часов, являлись толпами…»; «…один за другим, как звезды в вечерние сумерки, стали показываться и прочие сеятели: А. Чехонте, Созонт, Агафопод Единицын, Никс, Фланер, Эмиль Пуп, Лев Медведев и художники Чичагов, Лилин, Чехов, Федоров… За каждым из них ломила в залу толпа почитателей и поклонниц…» Все следующие листы «Будильника» посвящены описанию «Обеда». «С общего согласия садившихся за стол решено было краткий период между блаженным настроением, полученным у столика с закуской, и зелеными чертями посвятить тостам. Тосты мог произносить каждый желающий: мужчины, дамы и даже бумажные фабриканты, но с условием, чтобы каждый тост удовлетворял следующим требованиям: экспромтность, скоропалительность, цветистость и убедительность. Профессора, читающие в последнее время лекции, в видах сохранения времени и бодрого духа, от тостов были освобождены». Когда официанты разнесли шампанское, тост за подписчиков и читателей произнес Евгений Роган. Тост прерывался репликами слушателей. «Гром рукоплесканий… Потом Антоша Чехонте встает, чтобы произнести „Тост прозаиков“». После тоста «снова гром рукоплесканий…» Дальнейшее описание обеда см. в примечаниях к «Женскому тосту». Женский тост Впервые — «Будильник», 1885, № 12 (ценз. разр. 20 марта), стр. 143. Печатается по журнальному тексту. После чеховского «Тоста прозаиков» (описание начала юбилейного обеда см. в примечаниях к «Тосту прозаиков») следуют речи Московского фланера, Гиляя, художника Лобзика, предложившего выпить за здоровье всех художников, начиная от Рафаэля до художников «Будильника». «Волнам красноречия Лобзика явилась плотина в лице официантов, поднесших на громадном подносе целый Монблан телеграфных конвертов. Началось чтение и составление ответов на некоторые из телеграмм». Приводятся телеграммы из Петербурга, Москвы и провинции, а также от сотрудников журнала. Зачитываются «Невероятные телеграммы» от Собакевича, графа Нулина, Ноздрева и др., после чего Маркиз де Эль произносит тост за провинцию и ее обитателей. «И все полученные телеграммы и тост маркиза вызвали в душах присутствующих массу самых разнородных чувств — восторга, умиления, гордости, сладкого блаженства и неудержимой веселости. Лилин плакал, и из его слез немедленно вырастали розги для провинциальных безобразников; Московский фланер, вообще склонный к политике, сделал себе папиросу из телеграммы Гладстона и бормотал что-то о наслаждении купаться в священных волнах Гангеса; Антоша Чехонте, известный западник, отвечал на это по-французски: „Вуй, вуй“, а Евгений Роган хохотал так стремительно, что лакей прибежал осведомиться об участи стеклянной посуды…» «…Встал всемирный „вездесущий“ корреспондент „Будильника“. — Господа! — сказал он, — мой титул обязывает меня позаботиться о Европе… Я объездил все десять частей света (Голоса: ого! уже двоится в глазах!)… Мне ли молчать о Западе, о всей заграничной вселенной?.. — Вуй! — крикнул западник Чехонте с таким чистым парижским акцентом, что с двумя сотрудницами сделалось дурно. Их привели в чувство, показавши им юбилейную премию „Будильника“ в роскошном малиновом переплете с золотом. — Итак, господа, — кротко продолжал вездесущий корреспондент, — я поднимаю бокал за Европу и весь заграничный земной шар! Чужие примеры всегда поучительны, и в этом смысле заграница для нас неистощимый кладезь поучения. Констатируя сучки в чужом глазу, стоит только не забывать о бревне в своем, и результаты будут самые превосходные…» Когда тост был окончен, «воцарилось некоторое молчание; слышно было только, как ветер дует в карманах сотрудников. Наконец встал Антоша Чехонте и заговорил…» Далее следует «Женский тост», после чего снова тосты, рассказы, речи, анекдоты. Юбилейный номер «Будильника» завершался «Правилами для начинающих авторов» Чехова. Правила для начинающих авторов Впервые — «Будильник», 1885, № 12 (ценз. разр. 20 марта), стр. 145, без подписи, в конце юбилейного номера, посвященного двадцатилетию журнала (см. примечания к «Тосту прозаиков» и «Женскому тосту»). «Правила…» были преподнесены читателям в качестве юбилейного подарка: «Говорят также, что нет компании, которая бы не расходилась. Юбилей кончен. В заключение — маленький подарок…» Мелюзга Впервые — «Осколки», 1885, № 12, 23 марта (ценз. разр. 22 марта), стр. 4—5. Подпись: А. Чехонте. Включено с поправками в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886, и перепечатывалось во всех последующих изданиях сборника. Вошло в издание А. Ф. Маркса. Печатается по тексту: Чехов, т. III, стр. 173—176. Перепечатывая рассказ в последующих изданиях сборника «Пестрые рассказы», Чехов вносил пунктуационные изменения. При жизни Чехова рассказ был переведен на немецкий и польский языки. Праздничные Впервые — «Осколки», 1885, № 12, 23 марта (ценз. разр. 22 марта), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. Красная горка Впервые — «Осколки», 1885, № 13, 30 марта (ценз. разр. 29 марта), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. Из писем Лейкина известно, что фактический материал для рассказа Чехов взял из книги И. Снегирева «Русские простонародные праздники и суеверные обряды». Отсюда черпал Чехов и сведения для своих филологических заметок (см. примечания к заметке «О марте»). 22 марта, посылая Лейкину «Красную горку», «Донесение» и «Об апреле» ‹?›, Чехов писал: «… шлю три штучки… Из них только одна может оказаться негодной, две же другие, кажется, годны». ‹Донесение› Впервые — «Осколки», 1885, № 13, 30 марта (ценз. разр. 29 марта), стр. 6, в отделе «Из копилки курьезов», без заглавия. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. Безнадежный Впервые — «Будильник», 1885, № 15 (ценз. разр. 18 апреля), стр. 175—176. Подпись: А. Чехонте. Печатается по журнальному тексту. 26 апреля 1885 г. Лейкин упрекал Чехова: «Очень мне прискорбно, что у Вас появился рассказ в „Будильнике“. Зачем? Или ему места не нашлось бы в „Осколках“?» (ГБЛ). «В „Будильник“ нельзя не писать, — отвечал Чехов 28 апреля. — Взял оттуда сторублевый аванс дачных ради расходов… За четыре летних месяца нужно будет отработать… Ну, да ведь я не дам туда того, что годится для „Осколков“… Божие — богови, кесарево — кесареви…» Упразднили! Впервые — «Осколки», 1885, № 21, 25 мая (ценз. разр. 24 мая), стр. 3—5, с подзаголовком: Рассказ. Подпись: А. Чехонте. Включено, без подзаголовка, с отдельными поправками, в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886. Вошло в издание А. Ф. Маркса. Сохранились цензурные гранки журнала «Осколки» (ЦГИАЛ). Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 218—223. Переписка Чехова с Лейкиным дает возможность установить дату написания рассказа и его цензурную историю. 28 апреля 1885 г. Чехов писал Лейкину: «В воскресенье 21 апреля я послал Вам заказным большой рассказ „Упразднили!“». Рассказ был Лейкиным получен, но С.-Петербургский цензурный комитет запретил его публикацию. 26 апреля Лейкин в письме к Чехову описывал цензурный «погром на „Осколки“». 1 мая 1885 г. цензор П. Г. Сватковский докладывал С.-Петербургскому цензурному комитету о том, что в рассказе Чехова «осмеиваются распоряжения правительства по поводу отмены чинов майора и прапорщика и запрещения носить духовенству ордена во время церковной службы, а также слухи о том, что чин действительного статского советника не будет иметь титул превосходительства. Для этого выводятся деревенские жители, помещики, отставные прапорщик и майор, остающиеся, по их понятиям, без звания, и по поводу титула превосходительства ‹…› предводитель дворянства. Цензор подобную насмешку полагает неудобною к появлению с разрешения цензуры» (Журнал заседаний С.-Петербургского цензурного комитета. 1 мая 1885 г. — ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 3, ед. хр. 97). Было определено: рассказ к напечатанию не дозволять. В ответ на запрос Чехова о судьбе рассказа Лейкин сообщал 2 мая о том, что он уже писал «о страшном цензурном погроме, случившемся с „Осколками“». «Погибли три страницы рисунков закрещенными, несколько мелких статей о войне и юбилее дворянства, в том числе и Ваш рассказ „Упразднили“. Для очищения совести буду жаловаться на цензора и на комитет в главное управление печати, но только для очищения совести, ибо наверное удовлетворения не получу. Корректуру рассказа вышлю после получения из глав‹ного› управления результата» (ГБЛ). «Чуть не разревелся я, прочитав в Вашем письме о судьбе рассказа „Упразднили“», — писал в ответ Чехов 9 мая и спрашивал, нельзя ли отдать рассказ в «Петербургскую газету».. Однако хлопоты Лейкина увенчались успехом, и 19 мая он сообщил Чехову: «Ваш рассказ „Упразднили“ дозволен цензурою в третьей инстанции. Цензировал его сам начальник главного управления по делам печати Феоктистов, правая рука Каткова, и, сверх всякого ожидания, дозволил к печати. Рассказ „Упразднили“ пойдет фельетоном в № 21 „Осколков“» (ГБЛ). При подготовке издания А. Ф. Маркса Чехов отредактировал и сократил рассказ. Были убраны бранные выражения и заменены просторечные слова. В номерах Впервые — «Осколки», 1885, № 20, 18 мая (ценз. разр. 17 мая), стр. 3. Заглавие: Всяк злак… (Сценка). Подпись: А. Чехонте. Вошло, в исправленном виде, в издание А. Ф. Маркса. Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 224—227. Рассказ, написанный в апреле, лежал у Лейкина «в запасе». 26 апреля 1885 г. он писал Чехову: «Присылайте, пожалуйста, рассказов. В запасе имеется только один: „Всяк злак“» (ГБЛ). 28 апреля Чехов напоминал Лейкину, что у того лежит ненапечатанным его рассказ. Для собрания сочинений Чехов провел сплошную стилистическую правку, изменил фамилии персонажей и речевые характеристики, внес несколько дополнительных ремарок. При жизни Чехова рассказ переводился на болгарский, немецкий, сербскохорватский, чешский и шведский языки. Канитель Впервые — «Осколки», 1885, № 17, 27 апреля (ценз. разр. 26 апреля), стр. 4—5. Подпись: А. Чехонте. Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886; перепечатывалось во всех последующих изданиях сборника. Вошло, с отдельными поправками, в издание А. Ф. Маркса. Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 50—52. Материалом для рассказа послужили воспоминания Чехова о том времени, когда он, по приказу отца, читал и пел на клиросе Митрофаниевской церкви. «Антон Павлович на этом клиросе, — вспоминал Ал. П. Чехов, — не раз писал бабам на бумажках и на просфорах для проскомидии „о здравии“ и „за упокой“, и это записывание имен для поминовения послужило ему впоследствии темою для его рассказа „Канитель“…» («Чехов в воспоминаниях современников», ГИХЛ, 1952, стр. 38). Л. Н. Толстой относил этот рассказ к числу лучших произведений Чехова, включив его, однако, во второй разряд. В 1900 г. в рецензии на II том сочинений Чехова изд. А. Ф. Маркса критик А. Басаргин (А. И. Введенский) выделил несколько рассказов, в которых господствует, по его мнению, «безобидный юмор» и «освежающая стихия здорового и бодрого веселья». Среди них он назвал и «Канитель»: «Вот уж поистине „канитель“; но канитель совсем „безобидная“ и забавная» («Московские ведомости», 1900, № 270, 30 сентября, стр. 3). Однако цензору С. А. Верещагину рассказ показался не таким уж безобидным. 13 февраля 1904 г. он подал рапорт в Главное управление по делам печати: «Рассказ этот предназначен для публичного чтения на общественных концертах. Разрешить рассматриваемый рассказ к исполнению мне представляется неудобным, так как он осмеивает церковные порядки, относясь к православным обрядам без должного уважения, о чем имею честь представить на благоусмотрение вашего превосходительства. Цензор драматических сочинений Верещагин. 13 февраля 1904 г.». На рапорте резолюция начальника Главного управления по делам печати: «Согласен. 13/II» (Чехов, Лит. архив, стр. 266—267). Жизнь прекрасна Впервые — «Осколки», 1885, № 17, 27 апреля (ценз. разр. 26 апреля), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. На гулянье в Сокольниках Впервые — «Будильник», 1885, № 17 (ценз. разр. 2 мая), стр. 200. Заглавие: В Сокольниках (Сценка), Подпись: Брат моего брата. Рассказ был выправлен для издания А. Ф. Маркса, но не вошел в него. По гранкам изд. А. Ф. Маркса, хранившимся в музее А. П. Чехова при ГБЛ, текст был опубликован впервые в 1929 г.: А. П. Чехов. Собрание сочинений. Под общей ред. А. В. Луначарского, т. III. Нынешнее местонахождение гранок неизвестно. Печатается по тексту: ПСС, т. III, стр. 192—193. Сценка «В Сокольниках», написанная к традиционному в Москве первомайскому гулянью, была отдана в «Будильник», по-видимому, в конце апреля: 2 мая номер журнала уже получил цензурное разрешение, а 1 мая типографии по случаю религиозного праздника не работали; следовательно, набор был сделан раньше. Гулянье в Сокольниках происходило в 1885 г. 2 мая («Русские ведомости», 1885, № 119, 3 мая). Эта дата названа и у Чехова в первоначальном тексте. Исправляя рассказ для собрания сочинений, Чехов изменил заглавие, сделал несколько стилистических поправок и освободил текст от вульгаризмов. Как видно из писем Чехова к А. Ф. Марксу (30 апреля 1899 г.) и Ю. О. Грюнбергу (21 мая 1899 г.), исправленный текст рассказа был послан 30 апреля 1899 г. в Петербург и предназначался для второго тома издания А. Ф. Маркса. Однако в письме к Грюнбергу от 21 октября 1899 г. Чехов назвал «На гулянье в Сокольниках» в числе рассказов, которые «не войдут в полное собрание и должны быть разобраны». Женщина с точки зрения пьяницы Впервые — «Будильник», 1885, № 17 (ценз. разр. 2 мая), стр. 205. Подпись: Брат моего брата. Печатается по журнальному тексту. Заметка тематически связана с рассказом «На гулянье в Сокольниках» и, видимо, была отдана в журнал в конце апреля 1885 г. Драма на охоте Впервые — в газете «Новости дня»: 1884, №№ 212, 213, 219, 226, 233, 241, 247, 254, 261, 275, 282, 289, 296, 303, 310, 317, 331, 338, 345, 353 (ошибочно обозначен № 352) — от 4, 5, 11, 18, 25 августа, 2, 8, 15, 22 сентября, 6, 13, 20, 27 октября, 3, 10, 17 ноября, 1, 8, 15, 23 декабря; 1885, №№ 26, 45, 54, 61, 62, 75, 80, 95, 98, 102, 107, 111 — от 27 января, 16 и 25 февраля, 4, 5, 18, 23 марта, 9, 12, 16, 21, 25 апреля. Подписи в первых трех номерах: Антоша Чехонте; в № 317 от 17 ноября 1884 г.: Чехонте, в № 75 от 18 марта 1885 г. без подписи; во всех остальных номерах подпись: А. Чехонте. Печатается по тексту газеты. К началу публикации в «Новостях дня» «Драма на охоте», по-видимому, была написана полностью. В 1915 г. редактор-издатель газеты «Театр» С. Н. Алексеев вспоминал: «Антоша Чехонте ‹…› Немного застенчивый, но такой обаятельный ‹…› Уже писатель с именем, подающий большие надежды, хотя и принужденный часто сотрудничать в мелкой прессе, maximum пятачок строка, А. П. только что запродал „оптом“ в „Новости дня“ свою повесть „Драма на охоте“. Объемистую, исписанную мелким вычурным шрифтом рукопись А. П. сдал почти всю, оговорив, что, в случае цензурных купюр, у него имеется достаточный запас. Я был в это время в редакции названной газеты и здесь впервые увидел А. П.» («Театр», 1915, № 1702 от 1—2 июля, стр. 5—6). Отсюда можно заключить, что «Драма на охоте» писалась не к каждому номеру газеты, а в основном своем виде была закончена к началу публикации. Печататься в газете Липскерова, которую Чехов называл «Пакости дня», писатель начал в 1883 году. 27 июня он писал Лейкину: «Получил приглашение от „Новостей дня“… Что за штука, не ведаю, но штука новая. Кажется, подцензурная штука. Придется смешить одних только наборщиков да цензора, а от читателей прятаться за красный крест…» Гонорар за роман редакция газеты подолгу не выплачивала. В своих воспоминаниях М. П. Чехов писал: «За свой роман „Драма на охоте“, печатавшийся в „Новостях дня“ в 1884 году, брат Антон должен был получать по три рубля в неделю. Бывало, придешь в редакцию, ждешь-ждешь, когда газетчики принесут выручку. — Чего вы ждете? — спросит наконец издатель. — Да вот получить три рубля. — У меня их нет. Может быть, вы билет в театр хотите или новые брюки? Тогда сходите к портному Аронтрихеру и возьмите у него брюки за мой счет» («Вокруг Чехова», М. — Л., 1933, стр. 103—104). В одном из писем 1885 г. (без даты) М. П. Чехов сообщал брату: «Вчера я заходил к Липскерову. Он зашкандылял было. Я сказал, что сейчас еду в Воскресенск, что деньги нужны тебе и что я возвращусь к 26 числу. Он понатужился и дал 3 рубля» (ГБЛ). Литературная судьба «Драмы на охоте» необычна. Опубликовав ее в газете, Чехов никогда к ней не возвращался. Неизвестны как история создания романа, так и высказывания о нем Чехова. Жанр этого своеобразного произведения остается до сих пор предметом серьезного обсуждения. В 1870—1880-е годы в России имели широкое хождение авантюрно-приключенческие и уголовные романы — переводные и отечественные. В беллетристическом отделе газеты «Новости дня» одновременно с чеховским произведением печатались: «Отцеубийца», подпись: «Злой дух» (В. А. Прохоров), «Черная банда» — роман Лабурье, «Кровь за кровь (повесть из уголовной хроники)» А. Чумака, «Загадочное самоубийство, или „Дело“ Базарова» В. Риваля (В. А. Прохоров), «Братоубийца», подпись: Маркиз Тужур-Парту (А. Л. Гиллин), «Восковая женщина (из воспоминаний сыщика)», без подписи, «Современная драма», подпись: Синее Домино (А. У. Соколова) и др. Характеристику этой бульварной литературы Чехов дал 24 ноября 1884 г. в «Осколках московской жизни»: «Наши газеты разделяются на два лагеря: одни из них пугают публику передовыми статьями, другие — романами. Есть и были на этом свете страшные штуки, начиная с Полифема и кончая либеральным околоточным, но таких страшилищ (я говорю о романах, какими угощают теперь публику наши московские бумагопожиратели вроде Злых духов, Домино всех цветов и проч.) еще никогда не было… Читаешь и оторопь берет. Страшно делается, что есть такие страшные мозги, из которых могут выползать такие страшные „Отцеубийцы“, „Драмы“ и проч. Убийства, людоедства, миллионные проигрыши, привидения, лжеграфы, развалины замков, совы, скелеты, сомнамбулы и… чёрт знает чего только нет в этих раздражениях пленной и хмельной мысли ‹…› Страшна фабула, страшны лица, страшны логика и синтаксис, но знание жизни всего страшней…» Распространена была в те годы и пародия на уголовные романы и мелодрамы. Чехов отдал дань пародиям («Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.», «Тысяча одна страсть, или Страшная ночь», «Ненужная победа» — см. т. I Сочинений). «В молодости, — писал А. В. Амфитеатров, — Чехов был пародист блестящий, а подражал с таким совершенством, что копия легко могла сойти за оригинал» (А. В. Амфитеатров. Славные мертвецы. М., 1912, стр. 39). «Драма на охоте» имеет подзаголовок «Из записок судебного следователя» и напоминает уголовный роман, однако жанр ее чрезвычайно своеобразен. Одна из первых известных нам характеристик «Драмы» принадлежит перу А. Измайлова (Чехов. М., 1916). Он считал «Драму на охоте» единственным романом Чехова, хотя и написанным для невзыскательного читателя «Новостей дня», но «серьезным литературным произведением, некоторые места которого ничуть не звучали бы диссонансом рядом с его позднейшими работами». «Нужно было быть Липскеровым, — писал Измайлов, — чтобы не почуять чего-то необычного в этой куче дешевой бумаги, написанные на которой слова были так мало похожи на слова, обыкновенно печатавшиеся в нижнем этаже этой газеты» (стр. 181). Измайлов полагал, что художественное достоинство романа резко падает во второй части произведения, с момента убийства героини. Исследователь воспринял буквально сноску Чехова о том, что многое из записок Камышева выпущено, и предполагал, что в угоду цензуре или редактору писатель кромсал свой роман. «Так и хочется думать, что в уши молодого Чехова кто-то напевал, что бульварной газете нужно больше таинственных убийств, нарастающих одно на другое, больше внешней эффектности. И против своего вкуса, против своего понимания литературы и литературности, Чехов это сделал» (стр. 190). Хотя роман и был дорог писателю, делал вывод Измайлов, Чехову было тяжело впоследствии возвращаться к нему. «Почему никогда впоследствии Чехов не вспомнил о своем романе, не любил о нем говорить (из десятков воспоминавших о нем никто не записал этой подробности), не только не подумал о его переиздании, но буквально ни разу не сделал на него ссылки в своей обширнейшей переписке[185], а один раз намеренно утаил истину?» Подобное суждение о «Драме на охоте» долгое время никем не было оспорено. А. Дерман отнес «Драму на охоте» к мелодраматическим произведениям, считая, что она «лишь местами поднимается над уровнем типичной газетной беллетристики, зато изобилует чрезвычайно безвкусными страницами» (А. Дерман. А. П. Чехов. Критико-биографический очерк. М., 1939, стр. 59). В середине 30-х годов в литературоведении утвердилось мнение, что роман Чехова является пародией. См., например, предположение Ю. Соболева о том, что «Драма на охоте» «написана в пародийной форме уголовного романа» (Ю. Соболев. Чехов. М., 1934, стр. 94). В статье «Мои перворедакторы» А. Амфитеатров утверждал, что Чехов «Драмою на охоте» пародировал тогдашнее увлечение детективными романа‹ми› Габорио и, в частности, русского его подражателя Шкляревского» («Иллюстрированная жизнь», Париж, 1934, № 13, от 7 июня, стр. 3). Немногие исследования последних лет, посвященные «Драме на охоте», трактуют роман Чехова уже не как чистую пародию, а как сложное, противоречивое, реалистическое произведение и пытаются определить специфику пародийного стиля писателя (см. Б.Александров. О жанрах чеховской прозы 80-х годов. — «Ученые записки Горьковского педагогического института», 1961; З. А. Бориневич-Бабайцева. Роман А. П. Чехова «Драма на охоте». — «Труды Одесского госуд. университета», т. 146, Серия филологических наук, вып. 5, 1956; Г. Охотина. Литературные пародии А. П. Чехова. — «Дон», 1959, № 11; Л. И. Вуколов. Чехов и газетный роман («Драма на охоте»). — В кн.: В творческой лаборатории Чехова. М., изд-во «Наука», 1974, стр. 208—217). Последняя могиканша Впервые — «Петербургская газета», 1885, № 122, 6 мая, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886; печаталось во всех последующих изданиях сборника. Вошло в издание А. Ф. Маркса. Печатается по тексту: Чехов, т. III, стр. 153—158. Рассказом «Последняя могиканша» Чехов дебютировал в «Петербургской газете» (подробнее — стр. 533 этого тома). 9 мая 1885 г. Чехов писал Н. А. Лейкину: «„Петербургской газеты“ я не получаю и нахожусь в полном неведении относительно посланных туда двух рассказов ‹„Последняя могиканша“ и „Дипломат“›. Великое одолжение сделаете мне, если прикажете высылать мне газету». Для первого издания «Пестрых рассказов» в текст было внесено лишь несколько стилистических поправок; во втором издании сборника рассказ был заново исправлен и сокращен: опущены некоторые детали в авторском повествовании и в репликах персонажей. В 3—14 изданиях сборника рассказ перепечатывался почти без изменений. Готовя текст для собрания сочинений, Чехов снял слово «антипатия» и внес некоторые характерные черты в реплики Хлыкиной. При жизни Чехова рассказ был переведен на немецкий, сербскохорватский и чешский языки. Дипломат Впервые — «Петербургская газета», 1885, № 135, 20 мая, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. Сохранилась вырезка из газеты с авторской пометкой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Печатается по тексту «Петербургской газеты». В ответ на запрос Чехова о судьбе посланных в «Петербургскую газету» двух рассказов Н. А. Лейкин писал 19 мая 1885 г.: «Два Ваши рассказа напечатаны в „Петербургской газете“, но я хотел даже остановить их и очень жалел, что рекомендовал Вас в газету. Да и теперь жалею, потому что уверен, что Вы будете неисправны к „Осколкам“ из-за „Петербургской газеты“. В „Осколках“ непременно должен лежать один из Ваших рассказов, так Вы и знайте» (ГБЛ). О том, о сем… Впервые — «Осколки», 1885, № 20, 18 мая (ценз. разр. 17 мая), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. Юмореска была отправлена в «Осколки» вместе с рассказом «Ворона» 9 мая 1885 г., в числе «нескольких мелочишек» (по-видимому, еще «Угроза» и «Финтифлюшки» — в этом томе, стр. 428 и 429—430). Подборки коротких юморесок, анекдотов и шуток, подобные разделу «О том, о сем», под разными заглавиями печатались во всех русских юмористических журналах конца 70-х — начала 80-х годов. Анекдотические сюжеты нередко варьировались и повторялись, кочуя из журнала в журнал. В частности, юмореске Чехова об офицере с искусственной ногой соответствуют следующие анонимные строки: «Одному генералу оторвало деревянную ногу во время битвы. — Наши враги не знают, что у меня ног этих целая дюжина, — сказал генерал» («Развлечение», 1880, № 25, 26 июня, стр. 408). Источником некоторых «мелочишек» и анекдотов, отправленных в мае 1885 г. в «Осколки», могли послужить старые французские журналы. 10 мая Чехов писал брату Михаилу Павловичу из Бабкина о владелице имения М. В. Киселевой: «Поставляет мне из французских журналов (старых) анекдоты… Барыш пополам». В юмористических журналах 80-х годов бывали случаи переделок и перепечаток из иностранных журналов. Об этом обычае малой прессы в августе 1883 г. писал Чехову Лейкин: «Оба вы ‹Л. И. Пальмин и Чехов› удивляетесь, как это могло случиться, что одна и та же карикатура появилась и у нас и в „Будильнике“. Очень просто. Все мы люди и все человеки, во грехах рождены, стало быть, и воруем из иностранных журналов. Рисунки „О женщине“ взяты из французского журнала „Caricature“» (ГБЛ). Угроза Впервые — «Осколки», 1885, № 21, 25 мая (ценз. разр. 24 мая), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. Финтифлюшки Впервые — «Осколки», 1885, № 22, 1 июня (ценз. разр. 31 мая), стр. 6, и № 23, 8 июня (ценз. разр. 7 июня), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки. Печатается по журнальному тексту. Ворона Впервые — «Осколки», 1885, № 22, 1 июня (ценз. разр. 31 мая), стр. 4. Заглавие: Павлин в вороньих перьях (Рассказ). Подпись: А. Чехонте. Вошло в издание А. Ф. Маркса. Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 237—242. Рассказ был отослан в «Осколки» 9 мая 1885 г. из Воскресенска. «Шлю Вам из дачи первый транспорт, — писал Чехов Н. А. Лейкину. — Благоволите в рассказе „Павлин“ в пробелах написать имена соответствующих петербургских увеселительных мест, которых я не знаю и назвал чрез N и Z». Получив рассказ, Лейкин писал 19 мая 1885 г.: «Но, батюшка, Антон Павлович! Он очень похабен и совсем не для „Осколков“. Он в духе „Шута“. Хотя я и смягчил в нем резкие сальности, но все-таки скрепя сердце послал в типографию набирать. Есть, впрочем, основания предполагать, что он и цензурою не будет пропущен. Судите сами: ведь Вы публичный дом описываете» (ГБЛ). Однако рассказ, вопреки опасениям, прошел цензуру беспрепятственно. Готовя текст для собрания сочинений, Чехов изменил заглавие, переработал финал, опустил рассказ поручика о бегстве Сюзетты (в окончательном тексте Бланш), сделал много сокращений и замен и провел сплошную стилистическую правку, устранив, в частности, жаргонные словечки и утрированно юмористические обороты в речи писаря. Добавления в тексте составили несколько строк (появилась, в частности, реплика писаря, намазавшего себе лицо зернистой икрой: «Я теперь араб или вроде как бы нечистый дух»). Имя упомянутого в рассказе учителя танцев Вронди соотносится, возможно, с реальным Е. С. Вронды, таганрогским танцмейстером. В 1914 году в газете «Приазовский край» была напечатана корреспонденция о нем: «Вронды учил великого писателя танцам, когда он был гимназистом. А. П. частенько хаживал к нему в танцкласс, единственное тогда танцевальное заведение в городе, пользовавшееся среди молодежи большой популярностью. Вронды жив, проживает в Таганроге и по настоящее время продолжает давать уроки танцев. Чехова хорошо помнит. „После танцев, — рассказывает Вронды, — с А. П. часто играл в лото. Хороший был молодой человек и танцевал хорошо“. Вронды сейчас за 70 лет, но на вид это вполне бодрый, жизнерадостный и очень оригинальный старик» («Приазовский край», 1914, № 15, 17 января). Кулачье гнездо Впервые — «Петербургская газета», 1885, № 139, 24 мая, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. Сохранилась писарская копия с авторской пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Печатается по газетному тексту. Кое-что об А. С. Даргомыжском Впервые — «Будильник», 1885, № 20 (ценз. разр. 24 мая), стр. 236. Подпись: А. Ч. Печатается по журнальному тексту. Бумажник Впервые — «Будильник», 1885, № 20 (ценз. разр. 24 мая), стр. 240, с подзаголовком: (Басня в прозе). Подпись: Брат моего брата. Как видно из писем Чехова к А. Ф. Марксу от 30 апреля 1899 г. и Ю. О. Грюнбергу от 21 мая 1899 г., исправленный текст рассказа был послан 30 апреля 1899 г. в Петербург и предназначался для второго тома издания А. Ф. Маркса. Однако в письме к Грюнбергу от 21 октября 1899 г. Чехов назвал «Бумажник» в числе рассказов, которые «не войдут в полное собрание и должны быть разобраны». По гранкам изд. А. Ф. Маркса, хранившимся в Музее А. П. Чехова при ГБЛ, текст был опубликован впервые в 1929 г.: А. П. Чехов. Собрание сочинений. Под общей ред. А. В. Луначарского, т. III. Нынешнее место нахождения гранок неизвестно. Печатается по тексту: ПСС, т. III, стр. 208—210. Перерабатывая рассказ, Чехов снял подзаголовок, а также упоминания и намеки, утратившие свою злободневность; существенно отредактировал текст, освободив его от комических речевых оборотов и словечек актерского жаргона. Однако общий комический эффект рассказа был даже усилен: в речах Смирнова появилось много ласковых слов, не вяжущихся с убийством товарища в конце рассказа; Маккиавели, действительно разделявший лозунг иезуитов «Цель оправдывает средства», заменен французским маршалом Мак-Магоном, не имевшим к этому девизу никакого отношения. Соответственно житейская мораль первоначального текста: «Идучи втроем, старайтесь избегать находок» — заменилась сентенцией об актерах, которым не надо верить, когда «они обнимают и целуют вас». Свадебный сезон Впервые — «Зритель», 1881, № 18 (ценз. разр. 10 ноября), стр. 4—5. Подпись: Сочинял Антоша Ч. Рисовал Н. Чехов. В журнале подписи под рисунками воспроизведены факсимильно. Печатается по журнальному тексту. Летом 1881 г. А. П. и Н. П. Чеховы приехали в Таганрог, «где они и попали на свадьбу ‹…› и даже были шаферами ‹…› Плодом этой поездки была потом большая, in folio ‹в лист› карикатура, рисованная Николаем, с текстом Антоши Ч.» (М. П. Чехов. Антон Чехов на каникулах. — В кн. «Чехов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М., 1954, стр. 74—75). О реакции таганрожцев, задетых юмореской «Свадебный сезон», Ал. П. Чехов писал: «Здесь на эту карикатуру смотрят как на выражение чернейшей неблагодарности за гостеприимство» (Письма Ал. Чехова, стр. 69). К сведению трутней Впервые — «Осколки», 1883, № 13, 26 марта (ценз. разр. 24 марта), стр. 1 (обложка). Подпись: Человек без селезенки. Сохранился черновой автограф (ЦГАЛИ). Печатается по журнальному тексту. Написано Чеховым в начале января 1883 г. «Вещичку Вашу „К сведению трутней“, — писал Лейкин 9 января 1883 г., — дал иллюстрировать большим рисунком художнику А. И. Лебедеву» (ЦГАЛИ). Как видно из письма Лейкина от 3 февраля, юмореска была задумана Чеховым как самостоятельная, а не как подпись к рисунку: «К Вашему рассказцу „Трутни“ Порфирьев сделал отличный рисунок» (ГБЛ). Журнальный вариант был приспособлен к тому, чтобы служить в качестве подписи. В черновой же рукописи содержатся черты повествовательного жанра, впоследствии устраненные: вводные авторские слова, характеризующие обстановку, заключительная сентенция, более пространные диалогические реплики. Вагонное освещение Впервые — «Осколки», 1883, № 5, 29 января (ценз. разр. 28 января), стр. 7. Подпись: Рисун. А. И. Лебедева. — Тема А. Чехонте. Печатается по журнальному тексту. Очевидно, к этой подписи (вместе с одной из двух, помещенных в № 6 «Осколков») относятся слова Лейкина в письме Чехову от 9 января 1883 г.: «Беден я и подписями к рисункам. Какие Вы прислали — теми воспользовался». О всех других подписях, посланных в январе, есть особые упоминания в письмах Лейкина. Из театрального мира Впервые — «Осколки», 1883, № 6, 5 февраля (ценз. разр. 4 февраля), стр. 2. Подпись — общая к двум рисункам — «Из театрального мира» и «На вечеринке»: Рисун. В. И. Порфирьева. — Темы А. Чехонте. Печатается по журнальному тексту. Одна из двух тем — «На вечеринке» или «Из театрального мира» — была послана Чеховым Лейкину в начале января. Другая отправлена с письмом от 12 января. «За темы к рисункам сердечно благодарю, — писал Лейкин в ответном письме от 20 января. — Одну из них дал рисовать В. И. Порфирьеву». Других тем Чехова с рисунками В. Порфирьева в «Осколках» в январе и феврале не появлялось. На вечеринке Впервые — «Осколки», 1883, № 6, 5 февраля (ценз. разр. 4 февраля), стр. 2. О подписи — см. примечания к рис. «Из театрального мира». Печатается по журнальному тексту. На луне Впервые — «Осколки», 1885, № 25, 22 июня (ценз. разр. 21 июня), стр. 1 (обложка). Подпись: Рисун. В. И. Порфирьева. Тема Ан. Ч—е. Печатается по журнальному тексту. Первый, не дошедший до нас вариант подписи к рисунку датируется 12 января 1883 г., второй — 6 февраля 1883 г. 12 января 1883 г. Чехов послал Лейкину вместе с рассказами тему для рисунка о пожаре цирка в Бердичеве (подробные сообщения о пожаре появились в столичной печати уже через несколько дней после пожара, случившегося 1 января). Лейкин сначала предполагал использовать тему в очередном номере «Осколков». 20 января 1883 г. он писал Чехову: «Тему же о пожаре цирка в Бердичеве постараюсь утилизировать для № 5 моего журнала» (ГБЛ). Однако 3 февраля вернул текст Чехову: «Пользуюсь случаем переслать Вам обратно тему о пожаре цирка бердичевского. Дело в том, что мои художники не нашлись, как рисовать на эту тему. Порфирьев попробовал было, но испортил. А теперь уже рисовать на эту тему поздно» (там же). Но в письме от 8 февраля 1883 г. Лейкин вновь возвратился к этому вопросу: «Дам В. И. Порфирьеву Ваш набросок о „лунных“ астрономах, но не знаю, не поздно ли будет помещать рисунок о пожаре цирка в Бердичеве. Впрочем, я полагаю, рисунок может долежать до нового пожара, и не залежится. Ведь у нас „красный петух“ не редкость» (там же). Чехов мог переправить подпись обратно Лейкину только вместе с «большим присылом» от 6 февраля, сделав ее более подходящей для иллюстрирования. Рисунок действительно долежал «до нового пожара» и был опубликован в 1885 году. «На Луне» — это, несомненно, та самая подпись, о которой идет речь в письмах Лейкина 1883 г. В ней говорится о пожаре и лунных астрономах, упоминаемых Лейкиным. Кроме того, в подписи сказано: «Я полагаю, что случись такой страшный пожар, то люди забегали бы, засуетились, начали бы собирать подписки на помощь несчастным погорельцам, образовались бы благотворительные комитеты ‹…› А этого ничего нет». Ср. в письме Лейкина от 3 февраля 1883 г.: «А теперь уже рисовать на эту тему поздно. В пользу погорельцев начались даваться спектакли и концерты». 30 мая 1885 г. в Гродно случился большой пожар, уничтоживший в несколько часов три четверти города («Московские ведомости». № 148, 31 мая 1885 г.; «Московский листок», № 153, 4 июня 1885 г.). После этого Лейкин смог дать подпись, заменив Бердичев на Гродно. Вероятно, тогда же был вставлен подзаголовок, которого не могло быть в первоначальном тексте, так как премьера оперетты Лентовского «Путешествие на Луну» состоялась 16 декабря 1883 г. Поэтические грезы Впервые — «Осколки», 1883, № 8, 19 февраля (ценз. разр. 18 февраля), стр. 2. Подпись: Рисун. А. И. Лебедева. — Тема А. Чехонте. Печатается по журнальному тексту. ‹Три рисунка› Впервые — «Осколки», 1883, № 8, 19 февраля (ценз. разр. 18 февраля), стр. 7. Подпись: Рисун. Н. А. Богданова. — Темы А. Чехонте. Печатается по журнальному тексту. В ученом мире Впервые — «Осколки», 1883, № 10, 5 марта (ценз. разр. 4 марта), стр. 7. Подпись: Рисун. В. И. Порфирьева. — Тема А. Чехонте. Печатается по журнальному тексту. Серия подписей к рисункам, объединенных одной темой, — характерный жанр юмористической журналистики 80-х годов, особенно журнала «Осколки». Постоянны просьбы Лейкина в письмах к Чехову о темах для рисунков и подписях к ним. В 1883 г. Чехов создал несколько таких серий. Женщина-классик Впервые — «Осколки», 1883, № 11, 12 марта (ценз. разр. 11 марта), стр. 2. Подпись: Рисун. А. И. Лебедева. — Тема А. Чехонте. Печатается по журнальному тексту. Самая бедная бедность Впервые — «Осколки», 1884, № 8, 25 февраля (ценз. разр. 24 февраля), стр. 1 (обложка). Подпись: Рисун. А. И. Лебедева. — Тема А. Чехонте. Печатается по журнальному тексту. Тема была послана Н. А. Лейкину еще в августе 1883 г. В ответ 27 августа 1883 г. он писал: «Вашу „бедную бедность“ я дал рисовать Лебедеву. Он сделал на целую страницу, но, по-моему, неважно. Рисунок „бедная бедность“ пойдет в запас и как вполне цензурный и несезонный будет лежать про всякий случай. Если захерит цензор идейную передовицу, назначенную в номер, ставить будет нечего — вот я и поставлю его. „Бедная бедность“ спасет тогда меня» (ГБЛ). Die russische natur Впервые — «Осколки», 1883, № 39, 24 сентября (ценз. разр. 23 сентября), стр. 8. Подпись: А. Чехонте. Рисун. Н. Чехова. Печатается по журнальному тексту. 5 сентября 1883 г. Чехов писал Н. А. Лейкину: «Брат будет рисовать Вам по утвержденным редакцией темам. Сегодня он посылает один рисуночек на мою собственную тему ‹…› Посылаю при сем подпись к рисунку, который Вы получите вместе с этим письмом». Других рисунков Н. Чехова с подписью или темой Антона Чехова в 1883—1884 годах в «Осколках» не появлялось. Современная Маргарита Впервые — «Осколки», 1884, № 3, 21 января (ценз. разр. 20 января), стр. 1 (обложка). Подпись: А. Чехонте. Рисун. В. И. Порфирьева. Печатается по журнальному тексту. ‹«Как мила ты сегодня…»› Впервые воспроизведено фототипически в журнале «Рампа и жизнь», 1914, № 28, 13 июля, стр. 5, в качестве иллюстрации к анонимной публикации «Братья Н. и А. Чеховы. (Неизданное письмо А. П. Чехова)». Печатается по автографу. На рисунке пометы: «Текст Антона Чехова», «Рис. Николая Чехова», «Свет и тени», «Дозволено цензурою, 1884 г. февраля 4 дня. Цензор Егоров». В ПССП, т. III, воспроизведено по журналу «Рампа и жизнь», с примечанием: «Тема Чехова для ж‹урнала› „Осколки“, 1884, запрещенная цензурой» (стр. 581). Однако следов этого рисунка нет ни в журналах заседаний С.-Петербургского цензурного комитета за 1884 г., ни в деле журнала «Осколки» (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 27, д. 512, и оп. 3, д. 97). Судя по помете на автографе, рисунок предназначался для журнала «Свет и тени»; фамилия цензора — Егоров — указывает на то, что журнал был цензурован в Москве. В журнале заседаний Московского цензурного комитета сохранилась запись от 4 февраля: «1884 г. февраля 4-го дня, в присутствие Московского комитета прибыли: Председательствующий действ. ст. сов. Вениамин Яковлевич Федоров. Цензоры: Ст. сов. Егоров ‹…› Из числа рассмотренных для иллюстрированных изданий карикатур две: 1) Федор Мельницкий и бубновый туз и 2) Женщина равна мужчине признаны неудобными для помещения в журнале „Свет и тени“ и удержаны при делах Комитета» (ЦГАМ, ф. 31, оп. 3, д. 2175, лл. 20 и 22). Очевидно, рисунок «Женщина равна мужчине», не сохранившийся в делах комитета, был именно рисунком с чеховской подписью. Троицын день Впервые — «Будильник», 1884, № 20 (ценз. разр. 26 мая), стр. 240; подзаголовок: К рисунку К. А. Трутовского. Подпись: Брат моего брата. Рисунок — на стр. 248; название: Троицын день в Малороссии; подпись: Оригинальный рисунок академика К. А. Трутовского. Печатается по журнальному тексту. Сон золотых юнцов во время ноябрьского набора Впервые — «Осколки», 1884, № 47, 24 ноября (ценз. разр. 23 ноября), стр. 1 (обложка). Под заглавием обозначено: Рисун. В. И. Порфирьева. — Тема Ан. Ч. Печатается по журнальному тексту. Очевидно, тема была придумана Чеховым и сопровождена подписью около 4 ноября 1884 г., когда Чехов писал Лейкину: «…фельетон будет выслан мною не сегодня в воскресенье, а завтра в понедельник ‹…› Вместе с фельетоном пришлю две темы…» Лейкин сообщал Чехову 10 ноября: «Получил Ваше письмо от 4 ноября. Спасибо за темы. Ведь вот нашлись же. А говорили, что не из пальцев же их высасывать ‹…› Темы и подписи отличные. Всеми ими воспользуемся» (ГБЛ). «Неужели Вам понравились мои темы? Я послал их не без колебания…» — отвечал Чехов Лейкину 11 ноября. Почерк по чину, или Метаморфозы подписи Карамболева Впервые — «Осколки», 1884, № 51, 22 декабря (ценз. разр. 21 декабря), стр. 9. Под заглавием обозначено: Рисун. А. И. Лебедева. — Тема А. Ч. Печатается по журнальному тексту. Очевидно, эта тема была послана Чеховым в письме Лейкину от 4 ноября 1884 г.. Аптекарская такса Впервые — «Осколки», 1885, № 15, 13 апреля (ценз. разр. 12 апреля), стр. 1 (обложка). Подпись: Рисун. В. И. Порфирьева. — Тема А. Ч. Печатается по журнальному тексту. Хотя Чехов не раз отказывался придумывать подписи для рисунков, Лейкин почти в каждом письме просил его «понатужиться и высидеть что-нибудь по части подписей для рисунков и темок для передовиц». 6 марта 1885 г. Лейкин писал: «Ведь не может быть, чтобы такому юмористу, как Вы, и такому находчивому, в течение почти полугода не пришла ни одна темка в голову…» 15/16 марта Лейкин, получив от Чехова неизвестную нам подпись, снова просил: «Тем и подписей! — восклицаю на прощание, пародируя „Panem et circences!“ ‹„Хлеба и зрелищ“!›. Пожалуйста, выжмите из себя что-нибудь по этой части. Ведь я только в крайних случаях обращаюсь к Вам с просьбою о темах и подписях, а в остальное время Вас не беспокою. Пожалуйста» (ГБЛ). 22 марта, высылая в редакцию «Осколков» несколько тем, Чехов писал Лейкину: «Тема „Аптекарская такса“ модная… Ею, думаю, можно воспользоваться…» Не получив от Лейкина ответ, он спрашивал 1 апреля: «Сгодились ли мои подписи к рисункам?» — на что Лейкин отвечал 26 апреля: «Все погодились, кроме двух, которые при сем и возвращаю» (ГБЛ). О высокой аптекарской таксе см. также фельетон Чехова «Аптекарская такса, или Спасите, грабят!!!», т. XVI Сочинений и рассказ «В аптеке» (в наст. томе). Распереканальство!! Впервые — «Литературная газета», 1967, № 26, 28 июня стр. 5 (публикация М. А. Соколовой). Печатается по гранкам журнала «Осколки», хранящимся в делах С.-Петербургского цензурного комитета (ЦГИАЛ). Предназначалось для № 16 журнала от 20 апреля 1885 г. (ценз. разр. 19 апреля), но не было пропущено цензурой. На гранках стоит дата 17/IV 85 г. Заголовок надписан неизвестной рукой. Без подписи. Рисунки выполнены художником М. М. Далькевичем (псевдоним: Комар). 26 апреля 1885 г. Лейкин сообщал Чехову: «Прекрасная Ваша поэмка о полковнике и повивальной бабке художественно была иллюстрирована Далькевичем, но во время последнего погрома на „Осколки“ запрещена и цензором и комитетом. Буду жаловаться в Главное управление по делам печати». «Полковника и повивальную бабку жаль», — отвечал Чехов 28 апреля. Хлопоты Лейкина не увенчались успехом, и 19 мая он сообщил Чехову: «Рисунок на Вашу тему о солдатах и повивальной бабке запрещен» (ГБЛ). В письме к Л. Н. Трефолеву от 4 июля 1885 г. Лейкин жаловался: «А сколько хороших передовых рисунков-то не прошло! Идейного ничего не проходит. Стали не проходить шутки в рисунках и на военных» (ЦГАЛИ, ф. 507, оп. 1, ед. хр. 201). Шляпный сезон Впервые — «Осколки», 1885, № 19, 11 мая (ценз. разр. 10 мая), стр. 2. Подпись: Рис. А. И. Лебедева. Тема А. Ч. Печатается по журнальному тексту. 1 …на ученических extemporalia… — Лат. extemporalia — упражнения, состоящие в переводе с русского на латинский и греческий языки; особенно практиковались в гимназиях в бытность Д. А. Толстого министром народного просвещения (1866—1880) и до самой его смерти в 1889 г. Цензура в эту пору преследовала всякую насмешку над классическим образованием. 31 августа 1884 г. Лейкин писал Л. Н. Трефолеву: «Литературу так сжали, что и гимназист является в некотором роде запретным плодом, особенно гимназист, страдающий от излюбленного классицизма» (ЦГАЛИ, ф. 507, оп. 1, ед. хр. 201). 2 …московский Юрьев… — Известный театральный и литературный деятель, редактор «Русской мысли» С. А. Юрьев (1821—1888). — См. у Чехова о нем в «Осколках московской жизни» («Осколки», 1884, № 9, 3 марта). 3 «Гноти се авт — Надпись на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. Изречение стало девизом Сократа. 4 …груб, неотесан и нелеп, как сорок тысяч нелепых братьев. — Перефразировка слов Гамлета из одноименной трагедии Шекспира (акт 5, сцена 1). 5 моя дорогая (франц.) 6 граф (франц.) 7 бесчисленная… океанская масса! (нем.) 8 …построена специально для перевозки каменного угля ~ не удалось провезти еще ни одного пуда. — Нерентабельность Донецкой-Каменноугольной железной дороги (первые участки были открыты в декабре 1878 г.) вызывала постоянные насмешки в юмористической прессе. См. у Чехова в «Календаре „Будильника“ на 1882 год» запись под 24 марта: «Донецкая-Каменноугольная ж. д., возящая вместо каменного угля „зайцев“, будет переименована в Донецкую-Зайцевскую»; см. также «Список экспонентов, удостоенных чугунных медалей по русскому отделу на выставке в Амстердаме» (т. II Сочинений, стр. 254). 9 «князьям или графам» (нем.) 10 «немного» (нем.) 11 …если дочка поет «Месяц плывет»… — «Месяц плывет по ночным небесам…» — начальные строки популярной серенады К. С. Шиловского (1849—1893) «Тигренок» (в 1882 г. вышла 10-м изданием). 12 …спрягая глагол «amo», не выходили из пределов, указанных Кюнером… — «Amo» — «люблю» (лат.); о Кюнере см. комментарии к рассказу «Репетитор» (т. II Сочинений, стр. 547). 13 Заслышав „Стрелочка“, толпа ахнула… — Песенка К. Франца «Стрелок» («Я хочу вам рассказать, рассказать, рассказать…») пользовалась широкой популярностью в Москве в конце 1870-х годов; так, в заметке 1877 г. «Москва в садах» Н. П. Кичеев писал, что от «Стрелка» «теперь в Москве проходу нет…» («Будильник», 1877, № 22, стр. 7); см. также в воспоминаниях Л. А. Авиловой, относящихся к 1889 г. (Чехов в воспоминаниях современников, стр. 205). Текст «Стрелка» см. в кн.: Стрелок. Сборник опер, водевилей, шансонеток, комических куплетов, сатирических, юмористических стихотворений, романсов, песен, сцен и рассказов из народного малороссийского и еврейского бытов. М., 1882, стр. 163—164. 14 Непременное условие (лат.) 15 не понимаю, что в нем хорошего!? Автор. 16 …земля представляет собой шар ~ мешают ей быть круглой! — Три недели спустя Чехов писал в «Осколках московской жизни»: «В мае и июне проваливались московские мостовые, и я молчал. В эти месяцы проваливаются на экзаменах гимназисты, проваливаются „начинающие“ антрепренеры — отчего же не проваливаться и мостовым? Так я рассуждал, ожидая исправления… Но в июле я уж не могу молчать…» («Осколки», 1884, № 27, 7 июля, стр. 4). 17 к праотцам (лат.) 18 …геометрию я учил из книги Давыдова… — Учебник «Элементарная геометрия в объеме гимназического курса» (М., 1864) был составлен профессором Московского университета А. Ю. Давидовым; за 20 лет выдержал 14 изданий. 19 Я географию Смирнова учил… — К. Смирнов был автором «Учебной книги по географии», неоднократно переиздававшейся с 1860 г., и многих других учебных курсов по географии для низших и средних учебных заведений. 20 Истинно и правдиво в псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворях». — Псалтырь, псалом 101, «Молитва страждущего…». Речь Вонмигласова насыщена не только прямыми цитатами из книг «священного писания», для нее характерно и свободное использование фразеологии церковнославянского языка. См. об этом в статье С. А. Копорского «О стиле рассказа А. П. Чехова „Хирургия“» («Русский язык в школе», 1960, № 1, стр. 29—34). 21 Согрешихом и беззаконновахом… — Начало песни 7-й песнопения «Помощник и покровитель», исполнявшегося в первую неделю Великого поста. 22 …в лености житие мое иждих… — Из покаянной стихиры «Покаяние отверзи ми двери», исполнявшейся на всенощной в Великий пост. 23 белая горячка (лат.) 24 «В людях ангел — не жена, дома с мужем — сатана» — Название водевиля, переделанного Д. Т. Ленским из французской комедии «L’ange dans le monde et le diable a la maison»; поставлен впервые в сезон 1841/42 г. на сценах Александринского и Малого театров. 25 Какая ты у меня растрепе, Манюня! Чистая Луиза Мишель! — Луиза Мишель — французская революционерка, участница Парижской Коммуны (1830—1905); в марте 1883 г. выступала на митингах анархистов в Париже. За «участие в уличных беспорядках», сообщал обозреватель журнала «Всемирная иллюстрация» 18 июня 1883 г., суд приговорил Луизу Мишель к шестилетнему тюремному заключению. 26 …как наши динамитом турецкий броненосец «Лютфи-Джелил» взорвали… — Эпизод из русско-турецкой войны. Корреспонденции о взрыве турецкого монитора «Лютфи-Джелил», происшедшем 29 апреля 1877 г., и гравюры с изображением его опубликованы в «Иллюстрированной хронике войны», т. I, 1877, № 9, стр. 67—70. 27 Не желаете ли выпить для сан-стефанского миру? — В Сан-Стефано, близ Константинополя, 19 февраля 1878 г. был заключен предварительный договор об окончании войны между Россией и Турцией. 28 Шпрехен зи дейч, Иван Андреич. — Цитата из «Мертвых душ» Гоголя; в гл. VIII и X повторяется немецкое выражение «Sprechen Sie deutsch» («Говорите ли Вы по-немецки») как поговорка, соединенная с обращением к почтмейстеру Ивану Андреичу. 29 …Артур ~ поющий чревом. — Актер Леонов. 30 …со спичечным фабрикантом и коробочным сатириком Гессе… — А. Гессе — владелец спичечной фабрики в Рузе. 31 …апофеозом по рисунку Шехтеля… — Ф. О. Шехтель (1859—1926) — художник, друг Н. П. Чехова, участвовал в оформлении спектаклей в театрах Лентовского. Но в афишах к этому спектаклю значились другие художники: «Декорации: 1-го действия г. В‹аль›ца и г. Руль, 3-го действия 1-й картины г. В‹аль›ца, 2-й картины г. Деллерт» (ГЦТМ). 32 …похожий на Андраши… — Д. Андраши (Andrassy) (1823—1890), граф, венгерский политический деятель, в 1871—1879 гг. министр иностранных дел Австро-Венгрии. 33 Григорий Александрович — Арбенин. 34 Рафаэли-Тамарин — Актер Тамарин исполнял роль мнимого художника Рафаэли. 35 ради почета (лат.) 36 Начинает урезывать ее ножницами. — 30 сентября пьеса шла уже в постановке Лентовского, с купюрами («Новости дня», 1884, № 270, 1 октября). 37 «Где теперь его кляузы…» — Слова Гамлета из одноименной трагедии Шекспира (акт V, сцена 1), в переводе А. Кронеберга (Харьков, 1844, стр. 188). Чехов не случайно отдал предпочтение самому точному из существовавших в то время переводов «Гамлета». Вольное обращение с текстом шекспировской трагедии вызвало за два года до этого критическое замечание Чехова в его рецензии «Гамлет на Пушкинской сцене»: «Для чего выпускали из текста то, чего нельзя выпускать?» («Москва», 1882, № 3, ценз. разр. 19 января). Сценическая редакция «Гамлета» в первой половине 1880-х годов представляла собой контаминацию разных переводов (см. «Шекспир и русская культура». Под ред. акад. М. П. Алексеева. М. — Л., изд-во «Наука», 1966, стр. 613 и 644). В частности, 11 января 1882 г. «Гамлет» шел «по трем переводам: Полевого, Кронеберга и Загуляева» (см. указанную выше рецензию А. М. Дмитриева). 38 «Все мы невинны от рожденья»… — Куплет 2 из арии Елены в оперетте Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена» (д. II). «Прекрасная Елена» была поставлена в России впервые в сезон 1866/67 г. труппой французского театра и приобрела широкую популярность. Между 21 и 24 августа 1883 г. Чехов писал Лейкину: «Пишу при самых гнусных условиях. Передо мной моя не литературная работа, хлопающая немилосердно по совести, в соседней комнате кричит детиныш приехавшего погостить родича, в другой комнате отец читает матери вслух „Запечатленного ангела“… Кто-то завел шкатулку, и я слышу „Елену Прекрасную“…». 39 парадный бал (франц. bal par) 40 Же ву при а ля тримонтран! — Последнее слово в этой реплике — имитация французского — часто употребляется в письмах Ал. П. Чехова к брату. 24 сентября 1882 г. он писал: «…мог бы сострить на этот раз что-либо более юридическое и алятримантранистое…»; 10 марта 1885 г.: «Савельеву и Орлову — мое алятримантран» (Письма Ал. Чехова, стр. 78, 111). «Алятримантраном» Ал. П. Чехов также неоднократно называл П. Е. Чехова (там же, стр. 275, 282). 41 Я читал Тэна, Лессинга… — Ипполит Тэн (1828—1893) — французский историк, литературовед и искусствовед. Готхольд Эфраим Лессинг (1729—1781) — немецкий писатель, литературный критик, автор трудов в области теории и истории искусств. 42 Меня не надуешь, будь ты хоть Сара Бернар или Сальвини! — Сара Бернар (1844—1923) — французская актриса. В конце 1881 г. и начале 1882 г. гастролировала в России. Чехов писал о ней в фельетонах «Сара Бернар» и «Опять о Саре Бернар» (т. XVI Сочинений). Томмазо Сальвини (1829—1915) — итальянский актер. В 1880 и 1882 гг. приезжал в Россию. 43 …Шпажинский или какой-нибудь там Невежин считают этого паршивца героем… — И. В. Шпажинский (1844—1907) и П. М. Невежин (1841—1919) — авторы популярных в 1880-е годы бытовых драм и комедий. 44 …по 119 статье… — В статье 119 «Устава уголовного судопроизводства» сказано: «По выслушании сторон и по соображении всех доказательств, имеющихся в деле, мировой судья решает вопрос о вине или невинности подсудимого по внутреннему своему убеждению, основанному на совокупности обстоятельств, обнаруженных при судебном разбирательстве…» («Судебные уставы с разъяснением их по позднейшим решениям кассационных департаментов Правительствующего сената и с приложением уложения о наказаниях», 1880, стр. 96). О 119-й статье Чехов писал также ранее в рассказе «Марья Ивановна». 45 дорогая (франц. ma chre). 46 Альфонс Ралле — владелец парфюмерной фабрики в Москве. 47 …с звенигородским помещиком Константином Шиловским, сочинившим «Тигренка» и «Желаю быть испанцем». — Два популярных романса К. С. Шиловского; в 1889 г. он поступил на сцену Малого театра под фамилией Лошивский, был разносторонне одаренным дилетантом: певец, гитарист, композитор, рисовальщик, гример. Характеристику этой своеобразной личности оставил Ю. М. Юрьев в своих «Записках» (Л. — М., 1948, стр. 40—41). Романс «Тигренок» упоминается также в рассказе «Дачные правила». 48 …орден «Льва и Солнца», каковой орден имеют наш Юлий Шрейер ~ Рыков, оказавший России персидские услуги… — Ю. О. Шрейер (1835—1887), артиллерист по профессии, по выходе в отставку стал журналистом, получив прозвище «короля репортеров» («Фельетонный словарь современников…» Вл. Михневича. СПб., 1884, стр. 251). Во время франко-прусской войны печатал «корреспонденции с поля боя». Ирония насчет завоевания им «персидских симпатий» связана с тем, что из всех иностранных орденов персидский орден «Льва и Солнца» был наиболее распространен в России, причем часто доставался незаконным путем. В конце ноября 1884 г. Чехов начал публиковать в «Петербургской газете» корреспонденции о процессе И. Г. Рыкова, обанкротившегося директора банка в г. Скопине, — «Дело Рыкова и комп.». По-видимому, на суде высказывались сомнения в законности получения Рыковым персидского ордена, так как Чехов приводит в своей корреспонденции ответ Рыкова свидетелю: «Он оскорбил и министерство иностранных дел! „Льва и Солнце“ я получил от самого шаха за собственной его подписью». 49 …в том стадии… — Другой случай употребления Чеховым существительного «стадия» в мужском роде — в тексте журнальной публикации рассказа «Perpetuum mobile»: «Ужин вступил в стадий разгара» (см. т. II Сочинений, стр. 453, строка 3). 50 …не башибузук какой-нибудь… — После русско-турецкой войны 1877—1878 гг. слово «башибузук» (сорвиголова), обозначавшее рядового турецкой иррегулярной пехоты, стало нарицательным именем злодея и насильника. 51 Sic transit 0,05/Gloria mundi 1,0… — В рецепте разбито на две части латинское изречение: Так проходит слава мирская. По поводу этого шуточного рецепта В. В. Билибин писал Чехову 14 марта 1886 г.: «Василевский в одном из своих провинциальных фельетонов в „Новостях“ ‹…› украл у Вас рецепт: „Sic transit gloria mundi“ (ГБЛ). Действительно, редактор „Стрекозы“ построил на этом рецепте анекдот в своих „очерках провинциальной жизни“ — „Среди обывателей“ („Новости и биржевая газета“, первое издание, 1886, 3 марта, № 61, подпись: Буква). 52 в действительности (лат.) 53 …сторож Иван ~ надпиши его — ству бланок! — Ср. в фельетоне «Дело Рыкова и комп.»: «… кто затруднялся найти поручителя, тому выбирал такового сам Рыков из своей домашней прислуги». О нарушении правил при учете векселей Чехов слушал подробное разбирательство на утреннем заседании суда 24 ноября («Русские ведомости», 1884, № 327, 25 ноября). 54 …рядом с головою. — Городской голова — Владимир Овчинников. 55 …в Кичкине человека «вредного» ~ на поезд садился… — Ср. в фельетоне «Дело Рыкова и комп.»: «Свидетель А. Кичкин, человек „вредный“, рассказывает, что перед одним заседанием, в которое гласные хотели избрать его кассиром, Рыков услал его из города „осмотреть железные и медные вещи“ и что повестка была вручена ему в то время, когда он садился на поезд ‹…› таким образом „вредный дух“ был выкурен». Случай с Кичкиным подробно освещен в «Обвинительном акте». См. также «Московские ведомости», 1884, № 326, 24 ноября. 56 Афонасова споил… — В фельетоне «Дело Рыкова и комп.»: «Купец Иван Афонасов ‹…› заявил ‹…› об отречении от наследства, так как долг отца Скопинскому банку превышал стоимость отцовского наследья ‹…› стали грозить ‹…› женился на дочери Рыкова». Факт этот многократно обсуждался на суде. Рассказывалось и о том, что дядя Ивана Афонасова, спаивая избирателей, так усердствовал, что сам умер от белой горячки. В «Обвинительном акте» приводится другое лицо — городской голова Василий Иконников (преемник Овчинникова); он был «подвержен пороку пьянства, а Рыков спаивал его ‹…› до состояния белой горячки», что подтверждали на суде многие свидетели. 57 …Ивана подкупил… — Возможно, Иван Руднев, товарищ директора. Заняв это место, он оказался должен банку 213000, а до этого был должен только 40000 («Дело Рыкова и комп.»). 58 В банке всё обстоит благополучно ~ лжу бесовскую в людей вселять… — В «Обвинительном акте» говорится, что начиная с 1878 г. стали поступать в печать и к властям заявления о злоупотреблениях в банке. 22 августа 1882 г. в № 34 (воскресном) «Сына отечества» напечатано заявление Рыкова и городского головы о том, «что дела банка идут хорошо, причем Рыков в своем заявлении утверждает, что распространяемые некоторыми газетами известия о неудовлетворительном ведении этим банком операций „заключают в себе одну только ложь“». 59 Почтмейстер Перов, получающий ежемесячно от Рыкова 57 руб. … — Ср. в «Деле Рыкова и комп.»: «Кроме дьякона Попова, получали от банка „благодарность“ в форме аккуратно выплачиваемого месячного жалованья: почтмейстер Перов…» 60 …41 № «Вестника»… — Возможно, имеется в виду «Правительственный вестник» (1869—1917). 61 …не получил «Новостей»… — «Новости и биржевая газета», СПб. (1880—1906). 62 …мое письмо, которое я послал ~ в редакцию «Курьера»? — «Русский курьер», М. (1879—1889, 1891). Из «Обвинительного акта» известно, что эта газета печатала «корреспонденции о скопинском банке, представляющие как дела этого кредитного учреждения, так и лично его, Рыкова, в непривлекательном виде». В 1882 г. Рыков сделал попытку сблизиться с редактором газеты Н. П. Ланиным, чтобы пресечь эти корреспонденции, но знакомство не состоялось. 63 Голод (лат.) 64 Например, хоть русский народный быт взять… горбуновское что-нибудь… — И. Ф. Горбунов (1831—1895), актер Малого, затем Александринского театров, приобрел широкую популярность как автор и рассказчик очерков и сценок из народного быта. К 1884 г. вышли пятым изданием «Сцены из народного быта Горбунова для рассказов на театральной сцене и семейных вечерах. В 3-х частях». СПб., 1880. 65 «И на лбу роковые слова…» — Цитата из стихотворения Некрасова «Убогая и нарядная». 66 «Жизнь твоя близится к закату…» — Очевидно, в основе рассказа лежали личные впечатления Чехова от спиритического сеанса, так как десять лет спустя в письме к А. С. Суворину от 11 июля 1894 г. он вспоминал: «Как-то, лет 10 назад, я занимался спиритизмом, и вызванный мною Тургенев ответил мне: „Жизнь твоя близится к закату“». 67 Купчиху пусть возьмет себе молодой эскулап. — Воображаемая женитьба на богатой купчихе служила постоянной темой для шуток Чехова в кругу родных и близких знакомых. См. в письме Лейкину от 9 мая 1885 г.: «…денег так мало, что совестно на карманы глядеть. Жениться на богатой купчихе, что ли? Женюсь на толстой купчихе и буду издавать толстый журнал». 68 Носовой платок Зориной! ~ Мне! Мне!.. — В. В. Билибин посвятил В. В. Зориной раздел в своих «Осколках петербургской жизни», назвав ее «знаменитостью, в некотором роде, ныне приходящего к концу летнего опереточного сезона», отозвавшись, впрочем, иронически о пристрастии певицы к цыганским романсам; на отзыве Билибина была построена и карикатура на обложке этого номера «Осколков» (1884, № 33, 18 августа, стр. 3). 69 Портрет Окрейца! ~ Давайте мне… — говорит содержатель музея Винклер. — Музей восковых фигур В. Винклера постоянно упоминается у Чехова как заведение, куда списывают старый хлам; ср. в «Конторе объявлений Антоши Чехонте» — о «безвозвратной кончине „Русской газеты“, последовавшей после тяжкого и продолжительного тления» (т. I Сочинений). Имя С. С. Окрейца в сходном контексте названо в «Завещании старого, 1883-го года» (т. II Сочинений). 70 «Зима… Крестьянин, торжествуя ~ грозит ему в окно…» — Цитаты из второй строфы гл. V «Евгения Онегина», ставшей хрестоматийным отрывком. «Родное слово» К. Ушинского, насчитывавшее к 1884 г. свыше пятидесяти изданий, дважды предлагало учащимся этот пушкинский текст — сначала для чтения, а потом для заучивания и грамматического разбора (см. «Родное слово для детей младшего возраста. Год первый». Сост. К. Ушинский. СПб., 1864, стр. 63, и «Родное слово. Год третий». Сост. К. Ушинский. СПб., 1870, стр. 137—144). 71 «…лукавых простаков ~ над выдумками, вздором». — Цитата из комедии Грибоедова «Горе от ума» (д. IV, явл. 14). 72 …показывался нумер «Луча» с портретом Окрейца… — К № 51 еженедельного иллюстрированного журнала «Луч» выходившего в С.-Петербурге с 1880 г., был приложен портрет издателя С. С. Окрейца. 73 касторовое масло (лат.) 74 По мнению Гатцука, Суворина и других календаристов… — Редактор «Нового времени» А. С. Суворин издавал с 1872 г. «Русский календарь»; журналист А. А. Гатцук выпускал «Крестный календарь». 75 …интригуй вдову Попову… — В Москве существовал «Оптовый склад вина и спирта и паровой водочный завод вдовы Михаила Андреевича Попова». 76 …сокрушай Ланина… — Н. П. Ланин, московский публицист, редактор «Русского курьера», был одновременно владельцем завода минеральных и фруктовых вод («Ланинские воды»), а также шампанских вин. 77 Арий возмечтал, вроде как вы, и помер… — Арий (256—336), священник, живший в Александрии, был обьявлен еретиком, отлучен от церкви и сослан. 78 …стояла она неподвижно, как Лотова жена, обращенная в соляной столб… — По библейскому преданию, жена Лота, бежавшая вместе с мужем и дочерьми из города Содома, нарушив запрет, оглянулась и была превращена в соляной столб (Бытие, гл. 19, стих 26). 79 моя дорогая (франц.) 80 … — Картина А. И. Куинджи «Украинская ночь» (1876). 81 лирического тенора (итал.) 82 После войны, помню, когда здесь пленные турки стояли… — Имеется в виду русско-турецкая война 1877—1878 гг., завершившаяся сан-стефанским миром. 83 …учебнику Иловайского… — Дм. И. Иловайский (1832—1921), автор известных, выдержавших десятки изданий, учебников: «Древний мир и средние века», «Руководство ко всеобщей истории», «Новая история» и др. 84 Римляне в этом месяце праздновали так называемые Гилярии ~ богини Цибеллы… — Чехов обыгрывает одинаково звучащие фамилию публициста и издателя Гилярова-Платонова и так называемые Гилярии (Hilario — праздник радости) — мартовские торжества в честь богини Цибеллы в древнем Риме. Цибелла, называемая «великой матерью» (Mater magna), — олицетворение матери-природы. В «Русском энциклопедическом словаре» Березина, откуда Чехов взял фактические сведения о марте, сказано: «В календаре март был первым месяцем в году и посвящен богу Марсу. Римляне праздновали в этом месяце Гилярии; в этом же месяце происходил большой праздник Венере…» (т. II, отд. III, стр. 39). 85 …Березозолом ~ от слова «береза» и «зла»… — «Березозол» составилось из слова «береза» и корня «зол» (зел) и обозначает зелень березы или месяц, в который зеленеет береза. 86 …30 дней по числу иудиных сребреников… — По евангельской легенде, Иуда Искариот продал своего учителя Иисуса Христа за 30 сребреников. 87 …на берегу Маклая… — Берег острова Новая Гвинея между бухтой Астролябия и заливом Гюон, названный по имени русского путешественника Миклухи-Маклая (1846—1888). 88 …в один из первых апрелей ~ Петр не рассердился на эту шутку… — Этот эпизод рассказан в книге И. Снегирева: «Апрельский обман в России становится исторически известным со времен Петра I и, по всему вероятию, введен немцами, жившими в России. В 1700 г. содержатель труппы немецких комедиантов в Москве объявил, что в день самого представления влезет в обыкновенную столовую бутылку. На сцене явилась бутылка с надписью: „Первое апреля“» (И.Снегирев. Русские простонародные праздники и суеверные обряды, вып. III. М., 1838, глава «Первое апреля», стр. 60). 89 Получил он свое название по приказанию Ромула от majores — старшин, или сенаторов… — В «Русском энциклопедическом словаре» И. Н. Березина указывается, что май «5-й месяц года, имеет 31 день, по-славянски травень; получил название в честь старейшины (majores) сената или же в честь богини Майи; месяц цветов и любви» (т. II, отд. III, стр. 610). Ромул — основатель Рима. 90 …в честь плеяды Майи ~ родила биржевого зайца и гешефтмахера Меркурия. — «Майя — в классической мифологии старшая дочь Атласа и Плейоны, которая от Юпитера родила Меркурия» («Русский энциклопедический словарь» И. Н. Березина, т. II, отд. III, стр. 617). 91 …в этом месяце строжайше запрещалось вступать в брак. — И. Снегирев указывает: «…май, признаваемый бедственным для супружеств, дал повод к пословице: Mense majo malae nubunt, т. е. в месяце мае выходят замуж злонравные, распутные» (И.Снегирев. Русские простонародные праздники и суеверные обряды, вып. III, 1838, стр. 83). Здесь же напоминается и русская пословица: «Кто в мае женится, тот будет век маяться». 92 …в вихре Цукк и Монбазонш… — Цукки и Монбазон — итальянская балерина и французская опереточная актриса, гастролировавшие в 1885 г. в Москве. 93 …события: издан указ, воспрещавший продавать на базарах живых людей, и основано училище правоведения… — В письме М. П. Чехова указано: «10) Осн‹ование› училища правоведения. 1835. 14) Запрещение продавать на базаре людей. 1808» (ГБЛ). 94 В этом же месяце, по свидетельству Иловайского, в Париже происходили кровавые события (вероятно, дизентерия). — В письме М. П. Чехова: «Июньские дни, кровавые события в Париже 23—26 июня (н. ст.) 1848 г. Причиною их было существовавшее преимущественно в низшем классе народа недовольство временным правительством, перешедшее в открытое волнение…» 95 Июль же, по протекции Марка Антония, получил свое название от Юлия Цезаря… — В письме М. П. Чехова: «Настоящее название получил от Марка Антония в честь Юлия Цезаря» (ГБЛ). «Июль — у древних римлян назывался Mensis Quintilis (5-й месяц, потому что год считался с марта) и был посвящен Юпитеру; при Марке Антонии в честь Юлия Цезаря назван июлем (julius); у русских встарь — липец» (И. Н. Березин. Русский энциклопедический словарь, т. II, отд. II, стр. 566). Марк Антоний (83—31 до н. э.) — народный трибун в Риме. 96 …от Юлия Цезаря, милого малого, перешедшего Рубикон и написавшего «De bello gallico» — Гай Юлий Цезарь (100—44 до н. э.) — римский государственный деятель и писатель, завоеватель Галлии, написавший сочинение о своем походе — «De bello gallico» («Галльская война»), в 7 книгах. Рубикон — река, впадающая в Адриатическое море; отделяла в древности Галлию от собственно Италии. 97 …Юпитер ~ ухаживания за коровой Ио. — Зевс (Юпитер; миф.) — верховный бог Греции, громовержец. Ио — по греческой мифологии дочь речного бога Инаха; была жрицей жены Зевса Геры. Зевс полюбил Ио. Желая избавить ее от преследований суровой Геры, Зевс обратил Ио в корову. Гера выпросила у Зевса белоснежную корову себе в дар и заставила стоглазого Аргоса стеречь ее («Мифы классической древности» Г. В. Штоля. М., 1865, стр. 20—21). 98 Смерть своим неумолимым красным карандашом зачеркнула в июле шестерых русских поэтов и одного Памву Берынду. — В письме М. П. Чехова указывалось: «Умершие писатели: 7) Батюшков, 8) Державин, 17) Татищев, 18) Лермонтов, 26) Мерзляков, 31) Новиков» (ГБЛ). Памва Берында (ум. в 1632 г.) — украинский лексикограф. 99 …князь Мещерский пишет записки, читаемые на провинциальных сценах Андреевым-Бурлаком. — Мещерский В. П. (1839—1914) — князь, публицист, беллетрист, издатель реакционной газеты «Гражданин». Андреев-Бурлак В. Н. (1843—1888) — русский актер, читавший со сцены произведения классиков русской литературы (Достоевского, Гоголя). Возможно, это был намек на чтение Андреевым-Бурлаком «Записок сумасшедшего» Гоголя, о котором Чехов упоминал и в «Осколках московской жизни» в марте 1884 г. («Осколки», № 13). 100 Тот ненастный вечер ~ был именно в августе. — Перефразировка начальных строк стихотворения Пушкина «Романс». 101 У римлян август был шестым в году ~ в честь римского императора Августа… — Сведения выписаны из «Русского энциклопедического словаря» И. Н. Березина, т. I, отд. I, стр. 50. 102 …романс «Ах, мейн либер Августин». — «O, du lieber Augustin» — первая строка немецкой народной песни «Alles ist hin». 103 мои дети (франц.) 104 …старец Серафим в Саровской пустыни медведя кормит… — Серафим (1760—1833), монах Саровской пустыни. На широко распространенных в то время народных картинках Серафим обычно изображался с медведем. 105 …приготовления Саврасенкова… — К. Е. Саврасенков — владелец гостиницы и ресторана в Москве. 106 Слава есть яркая заплата на ветхом рубище певца… — Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824). 107 …«Словарь 30 000 иностранных слов»… — Имеется в виду «Объяснительный словарь иностранных слов, вошедших в употребление на русском языке, с указанием их корней», составленный А. Д. Михельсоном. Первое издание: М., 1861 г. 108 …раздражив пленную мысль… — Перефразировка четвертой строки («Иль пленной мысли раздраженье») стихотворения Лермонтова «Не верь себе» (1839). 109 …говоровском квасе… — Хлебный квас Говоровского завода. 110 …закажи Финляндскому колокол… — П. Н. Финляндский — владелец колокольно-литейного производства в Москве. В «Осколках московской жизни» («Осколки», 1883, № 37) Чехов писал: «По вечерам на колокольном заводе Финляндского звонит сам собою большой колокол. Звон заунывный, тягучий, словно замогильный, начинается в 8 часов и кончается в 10». 111 От франц. objet (предмет). 112 как вздумается? (франц.) 113 «Когда супруг захочет вдруг» — Начало арии Елены из популярной оперетты Оффенбаха (либретто А. Мельяка и Л. Галеви) «Прекрасная Елена» (1864): Когда супруг Захочет вдруг Домой случайно поспешить, Он неизбежно Обязан нежно Жену о том предупредить. 114 большой круг (франц.) 115 «Он женился на m-lle Красная Горка» (нем.) 116 …потянул к себе нумер «Современника» 1859 года ~ «Дворянское гнездо»… — «Дворянское гнездо» Тургенева опубликовано в «Современнике» 1859 г., т. 73, № 1, стр. 5—160. 117 Уж больше года, как майоров нет. — Офицерский чин майора был упразднен приказом от 6 мая 1884 г.: «Офицеры армейских войск сравнены в преимуществах по чинам с офицерами специальных войск, вследствие чего уничтожен майорский чин и лица, его имевшие, произведены в подполковники» («Русский календарь на 1885 г.». А. Суворина. СПб., стр. 260). 118 моя дорогая!.. (франц.) 119 …на рыжем переплете Цветной триоди… — Триодь — собрание трехпесенных канонов; цветная триодь содержит службы от Пасхи до Петрова поста. 120 …коховская «запятая»… — Холерная бацилла, открытая немецким микробиологом Р. Кохом. 121 Спенсер мог бы назвать его образцом грации. — Английский философ и биолог Герберт Спенсер (1820—1903) в своем труде «Воспитание умственное, нравственное и физическое» отстаивал необходимость всестороннего развития человека, придавая особое значение физическому воспитанию. «Отличная статья Спенсера», — называет этот труд Чехов в письме к Ал. П. Чехову в апреле 1883 г. 122 …не для звуков сладких… — Перефразировка последних строк стихотворения Пушкина «Поэт и толпа» (1829): Мы рождены для вдохновенья, Для звуков сладких и молитв. 123 …наша бедная публика давно уже набила оскомину на Габорио и Шкляревском. Ей надоели все эти таинственные убийства… — Французский писатель Э. Габорио (1835—1873) и А. А. Шкляревский (1837—1883) — авторы уголовных романов, получивших широкое распространение в России 1870—1880-х годов. Из романов Габорио, переведенных на русский язык («Преступление в Орсивале», СПб., 1869, «Дело под № 113», СПб., 1869, «Убийство госпожи Леруж», Одесса, 1872, «Петля на шее», СПб., 1873), особой популярностью пользовался неоднократно переводившийся роман «Лекок, агент сыскной полиции». Из произведений Шкляревского, которого называли «русским Габорио», особенно известны «Рассказы судебного следователя», СПб., 1872, «Нераскрытое преступление», М., 1878, «Убийство без следов», СПб., 1878, «Две преступницы», М., 1880. 124 в своем роде (лат.) 125 Прошу у читателя извинения за подобные выражения. Ими богата повесть несчастного Камышева, и если я их не вычеркнул, то только потому, что счел нужным, в интересах характеристики автора, печатать его повесть in toto ‹без пропусков — лат. ›. — А. Ч. 126 Лепорелло — верный слуга и наперсник Дон-Жуана, героя «Каменного гостя» Пушкина. 127 «Люб-лю гро-зу в на-ча-ле мая!» — запела она… Первая строка стихотворения Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза» (1829 г.), положенного на музыку М. В. Бегичевой в 1875 г. В 1901 г. был написан романс В. Ребикова, и впоследствии стихотворение неоднократно перекладывалось на музыку. — См. Ф. И. Тютчев. Лирика, т. 2. Библиография музыкальных произведений на слова Тютчева. М., изд-во «Наука», 1965. 128 …задачник Евтушевского — «Сборник арифметических задач» В. А. Евтушевского (1836—1888). 129 …«Дело» — ежемесячный литературно-политический журнал, выходивший в Петербурге в 1866—1888 годах. 130 «Складчина» — литературный сборник, изданный в Петербурге в 1874 г. в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии. В сборнике были опубликованы «Живые мощи» (Из «Записок охотника») Тургенева, «Трудовой хлеб» Островского, «Город» Щедрина, «Маленькие картинки» Достоевского, сцены из драмы «Посадник» А. К. Толстого, «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании» Гончарова, стихотворения Некрасова, Вяземского, Курочкина, критические статьи Н. Страхова и др. 131 …бутылку с сургучной печатью бенедиктинцев ~ у Депре взял. — В Москве в винном магазине К. Депре продавался ликер «Бенедиктин» (Bйnйdictine) аббатства Fйcamp во Франции (см. «Новости дня», 1885, № 56 от 26 февраля, рекламное объявление). 132 «Вниз по ма-а-атушке… п-а-а В-о-о-о…» — русская народная песня «Вниз по матушке по Волге» (А. И. Соболевский. Великорусские народные песни. СПб., 1898, т. IV, № 553, стр. 433). 133 …«Ай, жги, говори… говори…» — «Ой, жги, ой, жги, говори!» — припев из русской народной плясовой песни «Вдоль по улице молодчик идет» (Д.Кашин. Русские народные песни, ч. III, М., 1833, стр. 59). 134 «Ночи безумные, ночи веселые…» — Неточная цитата из стихотворения А. Н. Апухтина (1841—1893) «Ночи безумные, ночи бессонные» (1876); на музыку переложено П. И. Чайковским (1886), Балкашиной, С. И. Донауровым и другими композиторами. В 80-х годах стало популярным цыганским романсом и бытовало в различных музыкальных обработках. 135 к праотцам (лат.) 136 неизвестную землю, область (лат.) 137 повод к войне (лат.) 138 …«старух зловещих»? — Слова Чацкого из действия IV комедии Грибоедова «Горе от ума». 139 Человек я (лат.) 140 …не раз стоял перед картиной Пукирева… — Известная картина В. В. Пукирева (1832—1890) «Неравный брак» (1862). 141 Он, как Рислер-старший в романе Альфонса Доде ~ глядел на свою молодую жену… — Имеется в виду роман А. Доде (1840—1897) «Фромон-младший и Рислер-старший» (1874), где пожилой и богатый владелец торговой фирмы женится на молодой девушке. 142 …крыловский медведь, оказавший услугу пустыннику… — Имеется в виду басня И. А. Крылова «Пустынник и медведь» (1804). 143 первый любовник (франц.) 144 свидание (франц.) 145 …«твоя рука в моей руке», — запел граф… — «В моей руке рука твоя» — строка из арии князя Игоря в действии IV оперы «Князь Игорь» (музыка и либретто А. П. Бородина). 146 Не успела она еще износить с тех пор башмаков… — Перефразировка слов Гамлета из одноименной трагедии Шекспира (д. I, сцена II): И башмаков еще не износила, В которых шла, в слезах, как Ниобея, За бедным прахом моего отца… (Пер. А. Кронеберга) 147 Тут в рукописи Камышева зачеркнуто сто сорок строк. — А. Ч. 148 На этом месте рукописи нарисована чернилами хорошенькая женская головка с искаженными от ужаса чертами. Всё написанное ниже ее старательно зачеркнуто. Верхняя половина следующей страницы тоже зачеркнута, и сквозь сплошную чернильную кляксу можно разобрать одно только слово: «висок». — А. Ч. 149 Тут тоже зачеркнуто. — А.Ч. 150 Тут беспорядочно зачеркнута почти целая страница. Пощажены только несколько слов, не дающих ключа к уразумению зачеркнутого. — А. Ч. 151 Тут, к сожалению, опять зачеркнуто. Заметно, что Камышев зачеркивал не во время писанья, а после… К концу повести я обращу на эти зачеркиванья особое внимание. — А. Ч. 152 Последняя фраза написана выше зачеркнутой строки, в которой можно разобрать: «сорвал бы с плеч голову и вышиб бы все окна». — А. Ч. 153 Далее следует пластически вычурное толкование о душевной выносливости автора. Вид человеческих скорбей, кровь, судебные вскрытия и пр. не производят якобы на него никакого впечатления. Всё это место носит оттенок хвастливой наивности, неискренности. Оно поражает своей грубостью, и я выпустил его. Для характеристики Камышева оно не важно. — А. Ч. 154 Гамлет жалел когда-то, что господь земли и неба запретил грех самоубийства… — Слова Гамлета из действия I, сцена II: Иль если б ты, Судья земли и неба, Не запретил грехи самоубийства! (Пер. А. Кронеберга) 155 Тут зачеркнуты две строки. — А. Ч. 156 Обращаю внимание читателя на одно обстоятельство. Камышев, любящий разглагольствовать о состоянии своей души всюду, даже в описаниях стычек своих с Поликарпом, ничего не говорит о впечатлении, произведенном на него видом умирающей Ольги. Думаю, что это пробел преднамеренный. — А. Ч. 157 Я должен обратить внимание читателя еще на одно очень важное обстоятельство. В продолжение 2—3-х часов г. Камышев занимается только тем, что ходит из комнаты в комнату, возмущается с врачами прислугой, щедро сыплет оплеухи и проч. … Узнаете ли вы в нем судебного следователя? Он, видимо, не спешит и старается чем-нибудь убить время. Очевидно, «ему убийца известен». Затем, описанный ниже, ничем не мотивированный, обыск у Сычихи и допрос цыган, более похожий на издевательство, чем на допрос, могут быть проделаны только для проволочки времени. — А. Ч. 158 Это уклонение от вопроса первой важности имело в виду только одно: растянуть время и дождаться потери сознания, когда Ольга не могла бы уже назвать имя убийцы. Прием характерный, и удивительно, что врачи не оценили его по достоинству. — А. Ч. 159 Всё это наивно только на первый взгляд. Очевидно, Камышеву нужно было дать понять Ольге, какие тяжелые последствия для убийцы будет иметь ее сознание. Если ей дорог убийца, ergo — она должна молчать. — А. Ч. 160 Если всё это нужно было г. Камышеву, то не легче ли было допросить кучеров, которые везли цыган? — А. Ч. 161 К чему? Допустим, что всё это проделано судебным следователем спьяна или спросонок, тогда зачем же об этом писать? Не лучше ли скрыть от читателя эти грубые ошибки? — А. Ч. 162 Напрасно Камышев бранит товарища прокурора. Виноват этот прокурор только в том, что его физиономия не понравилась г. Камышеву. Честнее было бы сознаться или в неопытности, или же в умышленных ошибках. — А. Ч. 163 Хорош следователь! Вместо того, чтобы продолжать допрос и вынудить полезное показание, он рассердился — занятие, не входящее в круг обязанностей чиновника. Впрочем, я мало верю всему этому… Если г. Камышеву были нипочем его обязанности, то продолжать допрос должно было заставить его простое человеческое любопытство. — А. Ч. 164 Роль, конечно, более подходящая г. Камышеву, чем роль следователя: в деле Урбенина он не мог быть следователем. — А. Ч. 165 Умному достаточно… (лат.) 166 общий вид (лат.) 167 Человеку свойственно ошибаться (лат.) 168 прощайте! (франц.) 169 Младенец ты вифлеемский, Иродом убиенный! — По евангельской легенде, Ирод, царь иудейский, приказал убить младенцев в Вифлееме, когда родился Иисус Христос (Евангелие от Матфея, гл. II). 170 …московского драматурга М-да… — Д. А. Мансфельд (1851—1909), плодовитый драматург, редактор еженедельного журнала с картинками «Радуга» (с 1884 по 1886 г.) и ежемесячного литературного журнала «Эпоха» (1886—1888). 171 Генеральский или купеческий сын идет на службу все равно как мужик. — Всеобщая воинская повинность была введена в России в 1874 г. 172 Вл. П. Б-ва. — Имеется в виду В. П. Бегичев (1831—1891), инспектор репертуара и директор московских императорских театров, отец детской писательницы М. В. Киселевой. У Киселевых в Бабкине Чехов жил летом в 1884 и 1885 годах (подробнее — в книгах: Антон Чехов и его сюжеты, стр. 31—33; Вокруг Чехова, стр. 150—151). 173 …автор «Тарантаса» граф В. А. Соллогуб… — В. А. Соллогуб (1813—1882), известный русский литератор; сотрудничал в журнале «Отечественные записки» времен В. Г. Белинского, позднее — в «Современнике». Первое издание повести «Тарантас» — СПб., 1845, второе — изд. А. С. Суворина, СПб., 1886. 174 первый любовник (франц.) 175 …буянившего Митрофана Егорыча… — М. Е. Чехов, дядя А. П. Чехова. 176 Николай Стаматич — таганрогский маклер, знакомый семьи Чеховых. 177 Анатом Грубер виноват. — В. Л. Грубер (1814—1890) — профессор анатомии С.-Петербургской медико-хирургической академии, основатель института практической анатомии при академии. К 1883 г. был автором около 500 научных работ. По словам биографа, «испытания студентов, которые он производит, отличаются строгостью и требовательностью» («Иллюстрированный мир», 1882, № 15). «Он был строг, взыскателен», — писалось о Грубере и в некрологе («Исторический вестник», 1890, № 11, стр. 566—567). 178 …это будет почище всякого Герата! — В 1885 г. сильно обострились отношения между Англией и Россией. Инцидент произошел из-за афганской границы и в частности афганского города Герата. В периодической печати ежедневно освещался «афганский вопрос». «Осколки» также помещали сообщения о ходе событий. «Тучи заволокли политический горизонт ‹…› Будет или глубокий мир, или война, неизвестно только кого с кем: с белыми медведями, с индийскими слонами, с Англией, с афганскими верблюдами ‹…› Вся эта манная каша заварилась из-за какого-то Герата, о котором известно нам всем в достоверности только одно, что живет там какой-то разноцветный народ…» — писал И. Грэк (В. В. Билибин) в «Осколках петербургской жизни» («Осколки», 1885, № 14, 6 апреля). См. также фельетон Чехова «Герат» (т. XVI Сочинений). 179 …марш из «Боккачио»… — «Боккаччио» — оперетта Ф. Зуппе (1820—1895). 180 От франц. dйfiler — проходить. 181 Нешто вы не знаете ~ фригийскую шапку надели. — Фригийскую шапку как символ свободы носили якобинцы во времена французской революции. 182 …семинарист, читавший Милля и Бокля. — Книги английского историка Г.-Т. Бокля (1821—1862) и экономиста и философа Дж.-С. Милля (1806—1873) пользовались успехом у русской демократической молодежи 60-х — 80-х годов (см. также т. I Сочинений, стр. 471). 183 …непатриотично носить шляпы английской работы… — В 1885 г. возникли разногласия между Англией и Россией из-за афганской границы, едва не приведшие к войне. 184 чем бессмысленнее, тем лучше (нем.) 185 В письме к Липскерову в январе 1888 г., которое Измайлову в то время не было известно, Чехов вспоминает о том, что печатал на страницах его газеты свой роман (см. т. 2 Писем). 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
|||||||||