 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Азимов Айзек :: Грин Александр :: БСЭ :: Чехов Антон Павлович :: Горький Максим :: Толстой Лев Николаевич :: Раззаков Федор :: Лондон Джек :: Картленд Барбара Популярные книги:: The Boarding House :: Муму :: Дюна (Книги 1-3) :: Тень Ангела Смерти :: Граф Монте-Кристо :: Урс и Кэт :: Беспардонный лжец Том Кастро :: Оправдание лже-Василида :: Чайная :: Скрипка Ротшильда |
В Стране Дремучих ТравModernLib.Net / Научная фантастика / Брагин Владимир Григорьевич / В Стране Дремучих Трав - Чтение (Ознакомительный отрывок) (Весь текст)
Владимир Брагин В стране дремучих трав Роман-сказка От автора Удивительные живые существа владеют этой страной. Одни из них, находясь на охоте, с такой точностью, умеют своим стилетом поразить добычу, что она не может двинуться с места — остается ни жива и ни мертва. Другие существа здесь наряжаются так, что враг, находясь совсем рядом, не замечает их. Они как бы превращаются в невидимок. Некоторые обитатели этой страны десять лет живут так скрытно, что нельзя даже подумать, будто они и существуют. Но затем они меняют образ жизни, появляются на короткий срок и погибают. За десятки километров находят обитатели этой страны нужное им направление. Здесь бывает так, что некоторые существа, желая избавиться от непрошеного гостя, проникшего в их город, набрасываются на него и замуровывают живого в стене. Из чего только не строят здесь дома! Не только из древесины, но из бумаги и шелка, из цемента и листьев. Выделывают в этой стране картон и нитки, гамаки и глиняные горшки, воск, вату, спирт... В разное время на разных языках описывалась жизнь и приключения человека, оказавшегося в этой стране. Более десяти лет назад в книге «В Стране Дремучих Трав» (Детгиз, 1948) было рассказано о судьбе одного человека, Сергея Думчева, прожившего около сорока лет в этой стране, и о том, как он вернулся в город Ченск. За истекшие годы я получил от читателей много писем, в которых нашел интересные советы, а также указания на некоторые неточности в описании Страны Дремучих Трав. Теперь, подготовив вторую редакцию романа, я жду дальнейших откликов на свой труд. Но что это за страна? Где она находится? Со слов людей, которые в ней побывали, я и поведу свой рассказ. Но он будет чуть-чуть странен… 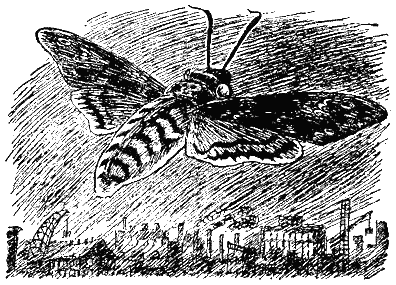 Предисловие Около десяти лет назад, после знакомства с первым изданием романа Владимира Брагина «В Стране Дремучих Трав», я поместил в журнале «Новый мир» свой отклик на это динамическое и своеобразное произведение. Там я говорил, что научно-фантастический роман является тем жанром, который мы должны всемерно развивать. Значение книг этого жанра состоит не только в познавательности, а и в том, что сама фантазия нашего юношества в значительной степени воспитывается чтением научно-фантастической и научно-приключенческой литературы, а следовательно, к произведениям этого жанра мы должны всегда предъявлять повышенные требования. Тогда же я высказал мнение, что роман В. Брагина «В Стране Дремучих Трав» отвечает в значительной степени вышеуказанным задачам. Автор романа, основываясь на обычном приеме научно-художественной литературы (перемена масштабов), создал оригинальное произведение и ввел нас в мир энтомологии. Сказочно уменьшив героев в сто — двести раз, автор позволил увидеть и ощутить ту жизнь, мимо которой мы проходили, не замечая ее. Это жизнь различных насекомых: муравьев, пчел, ос, бабочек, жуков, тлей, а также разных видов пауков, населяющих Страну Трав и маленький ручеек, который теперь для героев романа превратился в Великую Медленную реку. Таким образом, книга В. Брагина содействует познанию жизни насекомых в свойственной им среде. А мы знаем, какое большое практическое значение это имеет для борьбы с многочисленными вредителями нашего сельского хозяйства. Такая борьба возможна только при хорошем знании мира насекомых, и большой заслугой В. Брагина является то, что он дает нашему юному читателю эти знания в художественной, увлекательной форме. Автор не скрывает, что судьба главного героя романа — Сергея Думчева очень трагична. Но вместе с тем с большой выразительной силой и поэтичностью в романе показано, что герой «освоил» Страну Трав, смог своим разумом победить инстинкты обитателей этой страны, и все время, находясь в опасности, он тем не менее продолжал свои поиски, делал открытия, изобретал Эта крепкая оптимистическая нить проходит через весь роман. Книга В.Брагина содержит большой познавательный материал, она затрагивает ряд общебиологических вопросов и тут же без всякого напряжения сообщает интересные сведении из истории техники. Автор весьма умело организует и распределяет в сюжете рома-па этот материал из биологии и техники, чем и помогает читателю понять органическую взаимосвязь разных наук. Это может послужить весьма положительным примером для других авторов, приступающих к работе в жанре научно-художественной литературы. Книги, написанные в таком плане, помогут выработать материалистический взгляд на природу. Занимательность сюжета, хорошо поданный познавательный материал, смелое сочетание реализма с фантастикой, оптимизм — все это разрешает нам рассматривать талантливый роман «В Стране Дремучих Трав», как интересный опыт вхождения искусства в науку, как опыт серьезного новаторства, где намечаются своеобразные пути в большом и важном жанре научно-художественной литературы. Академик А. И. Опарин. Часть первая Чужой букет цветов Итак, в путь «Конечно, Солнцу нет дела до человека. Но у человека всегда было дело к Солнцу. Больше чем две тысячи лет назад Эратосфен при помощи тени от Солнца вычислил величину земного шара, подсчитал, что окружность Земли по экватору равна 250.000 стадий, примерно 38.000 верст! А ведь тот мир, который мог знать древнегреческий географ Эратосфен, был так мал, так мал!.. Я черчу на песке мир Эратосфена — без Америки, без Австралии. Теплые берега Средиземноморья... Персия... Скифия... Мир был так мал! Но вот предстала перед Эратосфеном оглушающая цифра — 250.000 стадий! И не испуг, не беспомощность, а дерзание, жажда узнать, открыть, увидеть — овладели душой человека. Перед Эратосфеном мир расширялся и разрастался постепенно, от одного неторопливого математического подсчета к другому. Но передо мной мир и предметы выросли сразу. Вдруг! В сто, в двести раз! Отчаянный час, непонятный миг! ...Сегодня я уложил дорожный мешок. В нем — дневник наблюдений и открытий, сделанных мною в этой стране. Бесконечен путь, необозримы пространства, которые надо пройти с вьючным животным. Беспокойство и страх овладевают мною. Сумерки скрывают чертежи на песке. Пора спать...» «Дописываю этот последний листок за № 2876 рано утром. Вчера, когда ночь скрыла чертежи на песке, я долго смотрел на звезды. Почему-то подумал, что они живут одиноко и грустно в своем небе. Пожалел их. Я сказал им: «Не скучайте!» При помощи водяных выстрелов-толчков движется личинка стрекозы. По этому принципу летит в небо горящая ракета во время больших праздников и народных гуляний. При помощи этого же способа люди поведут свои воздушные корабли с Земли на Луну и к вам, далекие планеты. Веселее и теплее станет на них от людского говора и смеха. Что? До вас далеко? Ничего, человек долетит! Личинка стрекозы — живой ракетный двигатель! Его я увидел здесь в действии. Это только одно из многих открытий, записанных мною в дневнике, который я понесу и передам людям. Задвигая камнем вход в свой дом, я сказал звездам: «Покойной ночи!» И они еще ярче засверкали мне в ответ и даже чуть-чуть качнули в небе своими ресницами-лучами. Сегодня я укладываю в дневник открытий и этот листок. Хорошо! Сердце спокойно. Ни робости, ни страха. Вьючное животное на привязи. Дижонваль... Дижонваль... Иду проверить погоду по его барометру. Пока дошел, думал о Поливанове... Барометр предсказывает: ясно, тепло. Итак, в путь! За долгие годы ни разу не обманул меня этот барометр…» Степан Егорович Тарасевич, директор Ченского педагогического института, чуть улыбнулся: — Необычность текста, упоминание несуществующей системы барометра, а равно и то, что кто-то зачем-то в десятки раз уменьшил текст неизвестным способом, так что текст пришлось читать под сильнейшей лупой, чтобы продиктовать машинистке, — все это вместе взятое может действительно озадачить кого угодно. При этом Степан Егорович пристально посмотрел на спичечную коробку, в которой я принес тончайшие, крошечные листочки с микротекстом. — Да. Вы говорите, что листочки оказались в букете цветов, который случайно бросили к вам в номер гостиницы? Не так ли? Но ведь это шутка! Вы сейчас убедитесь. Я вызову студента Белянкина, и он разъяснит нам, почему для шуточной переписки с друзьями им был выбран столь странный метод и столь странный текст. — И уменьшение этого текста при помощи фотоаппарата, по-видимому, тоже ради шутки? — Конечно! — Но студент Белянкин уже отказался: не он писал, не он уменьшал эти листочки. — Так и сказал? Вам? При студентах?! — Да! — Ну-с, знаете!.. Вы человек новый, неожиданный в институте. — Профессор Тарасевич неторопливо и мерно постучал согнутым пальцем по столу, со слегка скрытой иронией посмотрел на меня. — Вы, кажется, литератор из Москвы? В институте идет своя обычная жизнь, и вдруг… трах! Появляетесь вы, незнакомец, в руке букет цветов и спичечная коробка. В коробке листки, а в них — изложение фантастических выдумок и чувств Белянкина. И неудивительно — юноша смутился, опешил: нет, не я писал! — Но в письме, которое мы только что прочли, нет ни слова шуточного, смешливого, а есть взволнованный разговор о каком-то путешествии, об Эратосфене, о каком-то вьючном животном… — Согласен, странно. Но думаю — и писал и уменьшал при помощи фотоаппарата Белянкин. Для шутки! Сейчас вызову его. — Директор открыл дверь: — Ирина Сергеевна, пожалуйста… Простите… — Он обернулся ко мне: — Секретаря нет на месте. Сейчас студентов попрошу позвать. Директор ушел. Где-то в длинных коридорах института гулко отдавалось: «Белянкина к директору… Белянкина к директору!» Беспокойная радость Как это все случилось? Ведь в Ченске я только проездом. Мне надо быть в кассах пароходства, ехать дальше морем в один из курортных городков, а я — в Педагогическом институте и сижу в кабинете директора в кожаном кресле. Вместо блеска морской волны — блеск стекол книжных шкафов; вместо беспредельной глади — зеленые, слегка выгоревшие шторы на окнах. Зачем я жду студента Белянкина и директора института Степана Егоровича Тарасевича? Седой, спокойный, немного усталый человек, он, наверное, свободно и просто общается со студентами, всегда вникает во все подробности жизни института. Скоро ли он вернется? …Последние дни и ночи в Москве, неугомонные и хлопотливые, полные тревог и опасений за успех пьесы, крайне утомили меня. Сел в поезд. Трое суток пробыл в пути. Остановился в Ченске, чтобы пересесть на пароход. Поезд пришел вчера рано утром. С вокзала я сразу отправился на пристань. Спросил о прибытии парохода. Ответили: — Ждите! Пароход в нужном для вас направлении будет завтра. Потом осматривал городок. Обедал. А уж после этого отправился в гостиницу. С главной улицы, мимо магазинов с большими светлыми витринами под парусиновыми тентами, я свернул в переулок, сбегавший с горы. Переулок мостили. Гарь от горячего асфальта и пыль стояли в воздухе. Но сладкий запах резеды, тягучий, мягкий запах левкоев, густой запах роз неотступно следовал за мной из всех палисадников переулка. Где-то слышался певучий звук поперечной пилы. И стучали-стучали топоры, отрывисто и четко, то перебивая, то догоняя друг друга. Двухэтажный дом гостиницы был построен, наверно очень давно. Выглядел он довольно несуразно. Первый этаж был каменный, второй — деревянный. В первом этаже, видно, когда-то помещались лавки двух хозяев: две двери по обе стороны дома вели на второй этаж. Теперь через одну дверь входили в гостиницу; над ней вывеска — «Волна». Вторая дверь, по-видимому, вела в квартиры. В светлом коридоре гостиницы за столом сидела девушка. Я увидел прямой пробор и дважды обвитые вокруг головы косы. Она низко склонилась над книгой. — Можно ли получить номер? Не отрываясь от книги, девушка произнесла: — «Простите, Эдмон… простите ради меня, ради моей любви к вам!» — Я не Эдмон, не граф Монте-Кристо, — сказал я девушке, читающей книгу. — «Достоинство замужней женщины остановило порыв истерзанного сердца», — прочла вслух девушка и, положив указательный пальчик на строчку книги, посмотрела на меня: — Простите, гражданин, никак не могу остановиться. — Есть ли свободные номера? — «Чело ее склонилось почти до самого пола». — Мне нужен номер на сутки. Завтра уезжаю… — «Граф бросился к ней…» Приподняв свой чемодан, я повернулся к дверям, хотел было уйти, оставив девушку читать вслух роман Дюма «Граф Монте-Кристо», но снова спросил: — Есть ли свободные номера? Девушка повторила: — «Граф бросился к ней…» — и протянула руку к стене, на которой висел небольшой плоский шкафчик с открытой стеклянной дверцей. В шкафчике на крючках висели ключи с номерками. Дежурная, не отрывая глаз от книги, сняла с крючка ключ, протянула его мне и сказала: — Заполните листок по форме — это первое; оставьте восемь рублей — это второе. А третье… да… «Боже мой, я называю вас Эдмоном, почему вы не называете меня Мерседес?» — Но позвольте, Мерседес, — сказал я дежурной, — я не граф Монте-Кристо… — Да, — внимательно посмотрев на меня, вздохнула девушка, — какой же вы граф Монте-Кристо… Если вздумаете прожить больше суток в гостинице, не забудьте предупредить меня. Я хотел было что-то сказать, о чем-то спросить, но безнадежно — дежурная по гостинице навсегда ушла в книгу. Я пошел с ключом по длинному коридору. В номере — гардероб, стол, покрытый вышитой белой скатертью, умывальник, несколько стульев. Чистотой сверкали вымытые доски пола. Распахнул окно, облокотился на подоконник. Какие маленькие домики напротив! Окна небольшие, квадратные, с легкими занавесками. В створках ставней вырезаны маленькие сердечки. На крылечках сидят старушки. Я не слышу, о чем они говорят. Но, видно, медленно, не спеша, с расстановкой тянется, все тянется их разговор. Просты и незатейливы их слова… О чем?.. Как поострее приготовить баклажанную икру, как лучше засушить виноград, какие средства существуют от ломоты в пояснице, а может быть, жалуются на то, что теперь солнце не так греет и чаще идут дожди. Мог ли я предвидеть, мог ли предугадать, что здесь, в этом городе, в 19.. году, в тихий летний вечер, всего через несколько минут, я стану участником таких событий, в достоверность которых я потом едва поверю! Из-за угла показались юноша и девушка. Они идут медленно-медленно. Возможно, они идут так медленно, Чтобы подольше побыть друг с другом. Они молчат: верно, собираются сказать друг другу какое-нибудь заветное слово — всё собираются с духом и не соберутся. Вот они остановились под моим окном. И мне слышно, как девушка говорит: — Спасибо, Павлик, вот я и пришла. Посмотрите, каким большим стал фикус, отросток которого ваша мама мне дала. По-видимому, окно квартиры девушки было совсем рядом с моим. Когда она указывала на фикус, мне показалось, что она смотрит на меня. — Лена! Я хочу вам сказать… Лена смеется: — Ты знаешь, о чем я думаю? О чудесах. Вот этот фикус, на моем окошке, обыкновенный фикус в старом глиняном горшке, а я смотрю на него и слышу, как шуршат гигантские змеи, проползающие мимо фикусов в джунглях. Вижу, как, задевая фикус огромными серыми боками, проходит задумчивый слон с маленьким слоненком… Ах, Павлик! Фикусы растут не в глиняных горшках на подоконниках, а в тропических джунглях. Ведь оттуда их когда-то привезли. Павел… Павлик, каждое растение — это чудо, тайна. — Понимаю… понимаю… опыление… — «Опыление»! Ой, скучно! Рыльца, пестики, пыльца… А краски? Запахи? За городом так много полевых цветов!.. Вы там живете… И ни одного букетика, ни одного букетика… — Я тороплюсь всегда подольше быть с тобою… и некогда их собирать… Я все хочу, хочу вам сказать… Они говорят друг другу то «вы», то «ты». — Еще зимой вот здесь… помнишь… тогда была сильная вьюга. Зимой… Вы точно так же начали: «Лена, я собираюсь вам сказать…» — Я тогда не сказал, потому что… — отвечает Павел, — потому что у тебя замерзли руки и я хотел, чтобы вы скорее отогрелись у печки… — Теперь вьюга не помешает нам. Говори! — Я многое тебе говорю, когда один. — Но я тогда не слышу. — Несколько раз я вам писал длинные-длинные письма. — Но я их не получала. — Не решался отправить. Боялся. Учиться вместе в одном институте, видеть друг друга каждый день и… писать письма… — Лена! Леночка! — послышался голос из соседнего окна. — Пора ужинать! — Иду, иду, мама!.. Прощайте. Жду удивительных писем и цветов, полевых цветов. Большой букет! Скоро за деревянной стеной моего номера послышались приглушенные голоса, звон посуды. Время шло. Уже темнело. А я все стоял и стоял у окна. Горели звезды на небе. И в густой темноте под звездами совсем по-другому зазвучали гудки пароходов. Откуда-то издалека приходили и уходили звуки: обрывок песни, торопливые шаги прохожего, смех из-за занавески чужого окна. А я думал о хорошем чужом счастье, о том, как беспокойна бывает радость. И мне казалось: я очень давно знаю этот городок, знаком и этот номер гостиницы и когда-то я уже слышал что-то очень похожее на разговор Павлика и Лены. А может быть, так показалось, потому что сам я, как Павел, когда-то провожал кого-то и был полон радости, смущения и хороших слов. Хотел много сказать, но молчал. Писал письма, но не отправлял… Я включил настольную лампу. В окно влетела большая бабочка. Она покружилась над столом и прильнула к абажуру. Я бережно снял ее и подошел к окну: — Лети, ночной гость! Она отлетела и вернулась к лампе, опять села на абажур. Я снова снял ее. Раздался резкий писк. Я хорошо ее рассмотрел: на спинке желтый рисунок, напоминающий череп. Передние крылья черно-бурые. Я снова поднес ее к открытому окну. Лети! И она улетела. Городок спал. Было совсем тихо. Вдруг рядом за стеной, где живет Лена, кто-то заиграл на пианино. Знакомая дорогая мелодия. Не доиграли — мелодия оборвалась. То ли слишком загрустил тот, кто играет, то ли вспомнил о чем-то и задумался. Я ждал, скоро ли опять заговорит пианино. Не дождался. Хорошо, когда ты молод и юность не прошла. Хорошо Лене ждать цветов… Павлу их собирать, волноваться… приносить… передавать из рук в руки. А мне пора спать. В соседней комнате погасили лампу: светлый квадрат окна, спокойно лежавший на земле за досками тротуара, вдруг потух. Я выключил свет в номере. И почти сразу же услышал торопливые шаги по доскам тротуара. Кто-то почти бежал. Остановился. Что-то влетело в мою комнату и упало на пол. Шаги быстро удалились. Зажег свет — букет! Сразу догадался. Подбежал к окну: — Павел! Павел!.. Улица была пуста. Долго и осторожно наливал я воду в кувшин. Бережно поставил в него чужой букет. Чужой букет! Чужой букет цветов Пришло утро с жарким солнцем, посылающим зайчиков плясать по стенам и двери, с острым свистом стрижей, пролетающих мимо окна, с круглым чайником на столе и далекими гудками, которые теперь звучали бодро, смело и дерзко. Букет, собранный Павлом и по ошибке брошенный ко мне в окно — розовые цветы дикого шиповника, окруженные голубыми глазками незабудок, — этот букет приветливо смотрел на меня из кувшина с водой. Да, надо зайти в соседнюю квартиру и передать его по назначению. Я взял осторожно цветы. Чтобы вода стекла в кувшин, чуть-чуть встряхнул их. И… на белую скатерть из букета полетели два крошечных квадратика бумаги. Что это? С недоумением глядел я на них, рассматривая. На каждом крошечном листочке виднелись какие-то знаки. Письмо? Мне вспомнился вчерашний разговор под окном: «Несколько раз я вам писал длинные письма». — «Но я их не получала». — «Не решался…» — «Жду удивительных писем и… полевых цветов». Вряд ли можно было и под лупой прочесть это письмо. Но, даже если бы у меня и была лупа, я не стал бы читать чужие письма. Я взял листочки и положил в спичечную коробку. Все это надо отдать… В квартире Лены мне сказали, что она в институте. Оставить цветы? Но как сказать, объяснить — от кого? Что же делать с крошечными листочками? И я пошел в институт. Незавидное дело — идти по незнакомому городу, держа в руке букет чужих цветов, расспрашивая прохожих, как лучше пройти к Педагогическому институту, читать названия улиц и думать… о чужой любви. Все чувства и мысли, вероятно, изложил Павлик на крошечных листочках. Как он это сделал? При помощи микрофотографии? Видно, немало труда потратил он, чтобы написать эти две записки, сфотографировать их, а при печатании — уменьшить. Будто бы слово, уменьшенное фотоаппаратом, зазвучит спокойнее и точнее… Пожалуй, в институте лучше передать это послание Павлу — тому, кто писал, а не Лене. Я прошел через густой городской сад и вдруг в испуге остановился: мне показалось, что спичечная коробочка с микрописьмами вывалилась. Нет, вот она! Наверное, всякий раз, когда Павел встречал Лену, им овладевали застенчивость и робость: создавался порог, который он не смел перешагнуть. А вот и Педагогический институт: большая дверь из черного дуба, на солнце блестят полированные медные ручки. Я обстоятельно описал старику сторожу института все приметы того юноши, которого видел вчера вечером, но по этим приметам сторож не знал, какого Павла позвать. Разве мало студентов, которых зовут Павлами, учится в институте? Еще минута — и я оказался бы в довольно смешном положении. Чего доброго, пять или десять юношей — и каждого зовут Павлом — окружили бы меня, а я протягивал бы всем им букет цветов. Что делать? И тогда я рассказал сторожу, что вчера вечером видел того Павла, который провожал студентку Лену до ее дома. — А-а, Павла Белянкина, — протянул сторож. Через минуту Павел стоял передо мной. Я представился. Юноша с недоумением посмотрел на меня. — Вот ваш букет. Он случайно залетел ко мне в окно гостиницы. Простите, он немного завял… Юноша неловко взял букет. Он был удивлен: — Стоило ли беспокоиться? Цветы всегда вянут… Странно, — подумал я, — почему он не беспокоится о письме?». Я протянул ему спичечную коробку: — Вот ваши микрописьма. — Что? Какие письма? — В букете, который вы бросили в окно, были фотописьма. — Фотописьма?.. Я не занимаюсь фотографией. — Но ведь фотописьма были в вашем букете! Ваши фотописьма… Лицо Павла стало злым. Черты его обострились. Я не увидел и следа вчерашнего смущения и робости. Он с подозрением посмотрел на меня. — Не навязывайте, гражданин, мне чужие письма! — Но ведь… ведь… — Оставьте меня в покое! И знаете что… До свидания! Я не знал, что сказать. Смешное, нелепое положение: полутемный вестибюль института, длинные ряды пустых вешалок за барьером, я со спичечной коробкой, с микрописьмами в протянутой руке, а Павел — в другом конце зала — засовывает в урну букет, который я бережно нес через весь город. Вдруг дверь одной аудитории открылась, и шумная группа студентов ворвалась в зал. Они, видно, еще не остыли после полученной только что консультации и яростно спорили. — Павел, что случилось? — узнал я голос Лены. Я попытался что-то объяснить. Все сразу замолчали и с недоумением посматривали на меня. — Не пройдете ли вы в кабинет? — сказал мне человек со спокойными, уверенными движениями, перед которым расступились студенты. Вот при каких несколько странных обстоятельствах я оказался не на пароходе в море, а в кабинете директора Педагогического института — Степана Егоровича Тарасевича. Сижу и смотрю на стол, где лежат две крошечные записки с микротекстом, а рядом с ними — обычные листы бумаги. На них машинистка напечатала, через два интервала текст, который читали под сильной лупой. Жду. Вот сейчас вместе с директором института придет автор микрозаписок студент Белянкин. Он скажет, что все это его личное дело, шутка, как справедливо утверждает Степан Егорович. Дождусь их прихода отправлюсь на пристань. Три вопроса профессора Тарасевича Директор положил перед студентом спичечную коробку с листочками и текст, переписанный на машинке: — Белянкин, ответьте, пожалуйста, на три вопроса. Первый: что за странная манера вести переписку при помощи микрофотографии? Вопрос второй: почему вы отпираетесь от своих писем и так нелюбезны с человеком, который деликатности ради возвращает их вам? А теперь и третий вопрос: из писем видно, что вы собираетесь в какое-то длительное путешествие. Я не против туризма, но скажите, пожалуйста, что это за барометр… Дижонваля? — Степан Егорович, не писал я этих писем! Я сразу об этом сказал еще там, у вешалки! — Как же так? Букет — ваш, а листки в этом букете — чужие? — Степан Егорович, действительно цветы я собирал, но записок этих не писал. Я накануне другое письмо написал и собирался отдать. Вот оно! Впрочем, я не могу вам его показать, это только для… Ну, словом, личное… — Белянкин смутился и замолчал. В его ответе чувствовались правдивость и юношеская искренность, а в самой недоговоренности — беспокойство: разве можно, чтобы не Лена, а кто-то другой прочел его письмо? Студент стоял перед нами молчаливый и сосредоточенный, и рука крепко сжимала письмо. И как раньше там, в вестибюле, где я пытался вручить вместе с букетом крошечные листки, так и здесь, в кабинете, я разглядел на его побледневшем лице оттенки злости и негодования: зачем кто-то чужой и посторонний вмешивается в его жизнь. — Хорошо, Белянкин, я вас больше не задерживаю, — сказал директор. Белянкин уже был у дверей, когда Тарасевич с неожиданной для него горячностью воскликнул: — Как же эти странные листки вдруг оказались в букете студента моего института? — Степан Егорович, — обернулся к нам Белянкин, — видно, листки кто-то уронил на цветы. — А где вы собирали букет? — Около старой, заброшенной беседки, что за рощей. Вечером… Съездил на попутной машине — туда и обратно. Там еще база Райпищеторга. Когда за студентом закрылась дверь, директор сказал: — Итак, все ясно! Эту шутку сыграл с вами не студент моего института. Степан Егорович взял коробочку, где лежали листочки с микротекстом, затем сложил вдвое листы бумаги, на которых этот текст был перепечатан, и протянул все это мне с любезной улыбкой: — Возвращаю, как говорится, по принадлежности. Мне снова бросились в глаза слова: «Эратосфен… личинка стрекозы… Дижонваль»… Условный текст? — Расскажите лучше, что нового покажет в наступающем театральном сезоне Художественный театр в Москве… Как? Ваша пьеса там не пойдет? Сожалею… — Простите, Степан Егорович, студент Белянкин сказал, что букет был сорван у какой-то развалившейся беседки… — Хорошо! Понимаю. Я пошлю туда Белянкина и других студентов. — Искать в траве другие такие листочки? — Искать того, кто их уронил на цветы. Студенты побывают там и разузнают, кто занимается столь странными шутками. Как жаль, что мне нельзя ни на час отлучиться из института! А то я бы пошел с ними. Дорога живописная, ведет к дачному поселку научных работников. Поселок имени Ломоносова. — Степан Егорович! А не кажется ли вам, что вся загадка скрыта в одном слове «Дижонваль»? — Да, да, я забыл вам сказать… Я не поленился и заглянул на кафедру физики. Про барометр Дижонваля там и не слыхали. Тут что-то не то… А неужели Художественный будет ставить современный водевиль?.. Размышления и сомнения Какими необычайными картинами расписаны стены в ресторанчике! Белый медведь, стоя на льдине, вытянул свою морду и почему-то касается носом острого паруса лодки, уходящей в даль неестественно голубого моря. А на другой стене — дети, сидя на корточках, пускают маленький бумажный кораблик в бурный ручей. К потолку прибиты рога горного козла. С них свешиваются лампы под яркими цветными бумажными абажурами. Я ел какое-то непонятное мясное блюдо с тушеными помидорами, пил стакан за стаканом крепкий чай и думал: «Уже третий день я собираюсь уехать из города и все не уеду». Белянкин и его товарищи искали, смотрели, нет ли около беседки следов, примет человека, который уронил там загадочные листки, расспрашивали окрестных жителей, разглядывали чуть ли не каждую травинку, каждый цветок. Но студенты ничего не узнали, ничего не нашли. «Пора уезжать!» — говорю я себе. Этот городок очень мил, но не оставаться же здесь для разгадки кем-то предложенного ребуса. Да, пора уезжать! Завтра же. Однако странное дело: ведь я согласен с профессором Тарасевичем, что листки с микротекстом — чья-то смешная затея? Согласен! Но все же, но все же искренний тон странных листков, спокойная их серьезность заставляют меня искать в них какой-то особый смысл, бывать в библиотеке, читать справочники… Так проходят дни. Я все не уезжаю из городка. Чего-то жду. Мне чудится, будто чья-то участь, участь путешественника, отправившегося в тяжелый путь, скрывается в этих листках. Люди приходят в ресторан. Уходят. У каждого своя жизнь, своя судьба. Музыканты сидят на эстраде. Играют, Смотрят на входящих с бесстрастным выражением глаз. Но музыка их вовсе не бесстрастна. То грустью, то весельем звенят струны. Из отдельных слов микротекста видно, что путешественник пробыл долго в чужой стране, сделал много открытий. Вел там дневник. Этот дневник он везет… Путешественник, говоря об ученом древности, указывает, что мир перед Эратосфеном разрастался от одного неторопливого подсчета к другому. Эратосфен, живший очень давно (с 276 по 194 год до нашей эры), действительно первый в истории человечества установил длину окружности земного шара. Но как понять, почему перед автором микрозаписок окружающий его мир вдруг вырос в сто или двести раз?.. И потом, в листочках упоминается Дижонваль. Барометр Дижонваля! Просто удивительно, почему из Москвы все нет ответа на мою телеграмму Чарушину о барометре Дижонваля. Что за чудесная картотека имен и терминов у моего давнего друга! Он начал ее составлять чуть ли не со школьной скамьи, день за днем. И нет, кажется, вопроса, на который его картотека не ответила бы. Митя Чарушин, всегда точный и аккуратный, влюблен в свою картотеку. Его золотое правило: каждому, кто к нему обратится с вопросом, он сразу же либо телеграфно даст ответ, либо в подробном письме попросит уточнить вопрос. Но Чарушин молчит. Уж не смешным ли ему показался мой «барометр Дижонваля»? Сегодня опять пересмотрел в библиотеке все справочники, но ничего не отыскал о барометре Дижонваля. Странно, почему на листках есть слово «версты»? «38.000 верст». Версты… Почему версты, а не километры? Значит, писал человек пожилой, такой человек, который привык считать расстояние верстами, по-старому… Следовательно, неведомый автор листков — человек пожилой. Может быть, эти листки написаны много лет назад? Но, во всяком случае, уменьшение текста при помощи фотографирования было сделано в день или накануне того дня, когда эти листочки были найдены на цветах. Иначе крошечные листы под первым же дождем развалились бы. Тарасевич сказал, что все это чья-то шутка. Придется с ним согласиться. Ресторан опустел. Гасли огни. Давно ушли музыканты. Я сидел за столом, а на меня со льдины, нарисованной на стене, устало смотрел белый медведь: не пора ли тебе уходить? Раздумывая, я медленно брел по ночным улицам городка. Как отгадать, как прочесть странные листки? И кто, наконец, их автор? Спал городок. Ночь тянулась над ним не спеша и осторожно. По обеим сторонам улицы дремали тополя, которые столько видели за свой долгий век. Тихо и покойно было кругом. Но откуда эта печаль на душе? В кармане у меня лежит спичечная коробочка с листочками. Я остановился и мысленно повторил несколько фраз, показавшихся мне столь странными, когда впервые листки были прочитаны. И вдруг здесь, на тихой улице городка, мне пришло в голову: так для шутки и забавы не пишут Но тогда кто же этот путешественник? Где он? И где остальные листки дневника? Этот путешественник пишет, что ему предстоит долгий путь «Необозримы пространства, которые мне надо пройти с моим вьючным животным Беспокойство и страх овладевают мною » Что с ним случилось? Как же так? Завтра я уеду из городка и увезу на дне чемодана спичечную коробочку с листочками, которые не прочел как надо и даже не мог догадаться, для чего их уменьшали Вот о чем думал я ночью, возвращаясь в гостиницу, и чувствовал: мне стал дорог этот неизвестный путешественник, о котором ничего, совсем ничего не знаю. Дежурная по гостинице, как всегда не отрывая глаз от книги, сказала: — Вам письмо. Оно в номере. На сколько суток вы оставляете за собой номер? Барометр Дижонваля существует «Дорогой Григорий Александрович! Твоя телеграмма с запросом о барометре Дижонваля не застала меня в Москве Был в Новгороде Шел по следам жизни одного замечательного землепроходца Сегодня вернулся в Москву. Прочел твою телеграмму. Ты спрашиваешь меня, знаю ли я что-либо о барометре Дижонваля Знаю, что ни в производстве, ни в продаже такого барометра никогда не было. Все? Нет! Такой барометр был, есть и будет Думаешь — шутка, парадокс, анекдот? Ничуть. Он существует Ты, конечно, знаешь, что среди генералов Наполеона Бонапарта был един, о котором Наполеон, уже на острове Елены, писал, что он был самым талантливым из всех его полководцев Это Пишегрю. Его биография в известном смысле примечательна и трагична, но не буду сейчас ею заниматься Перехожу прямо к твоему вопросу. Так вот. Декабрь 1794 года застал Пишегрю в походе — он вел французское республиканское войско на Голландию и с успехом продвигался вперед Но в один далеко не прекрасный для Пишегрю день природа нарушила его планы Дождь, слякоть, все дороги размыты, реки разлились, войску продвигаться нельзя. Неудача грозит всему походу. Пишегрю принимает решение — отказаться от наступательных действий. Но вдруг из Утрехта — из Голландии — Пишегрю получает донесение, где указывается точно день, когда ударят сильные морозы: земля промерзнет, на реках появится крепкий лед, и можно будет войску двигаться дальше. Пишегрю поверил в это донесение, хотя оно подкреплялось ссылкой на барометр, который никогда и никто в расчет не принимал. И действительно, в указанный день все вокруг замерзло. Пехота и кавалерия Пишегрю двинулись дальше. 29 декабря Пишегрю по льду переходит реку Ваал Но вот 7 января погода опять резко меняется. Снова дожди, слякоть, лед тает Пишегрю, пройдя далеко в глубь страны, оказался в еще более трудном, почти катастрофическом положении. Но тут он снова получает уведомление из Утрехта, от 13 января, где ему точно указывают, когда он сможет двинуть войска по замерзшим рекам и дорогам. Донесение и на этот раз не обмануло. Уже 14 января подул северный ветер, 15-го резко понизилась температура. А 16 января Пишегрю уже в Утрехте! И тут он освобождает из тюрьмы Дижонваля Катремера, генерала Батавской республики, того, кто посылал предсказания погоды. В Голландии в 1787 году Дижонваля заключили в тюрьму, где он пробыл около семи лет, то есть до того дня, когда его освободил Пишегрю Все свои прогнозы погоды Дижонваль делал в тюремной камере, на основе наблюдения за поведением пауков Впоследствии, в Париже, он писал: «Когда пауки-круговики совсем не делают паутины, тогда наступает та скверная погода, которая на барометре обозначается дождем и ветром, если пауки начинают протягивать радиальные паутинные нити, тогда можно рассчитывать, что через десять — двенадцать часов буря утихнет; если они уничтожают четверть или треть паутинной сети, чтобы сохранить ее остаток, это знаменует приближение ветра. Вообще, когда пауки начинают в большом количестве протягивать свою паутину, можно ожидать хорошей погоды; если они делают небольшие сети, это значит, что погода будет переменчива; если, наконец, совсем не показываются, то с полным основанием можно рассчитывать на дурную погоду». Мой любезный, но забавный друг, ты сам не знаешь, какое мне доставил удовольствие своим не совсем обычным вопросом. Почему все так легко понимают шахматиста, который хочет сразиться с тем, кто может поставить его в неожиданно затруднительное положение? Почему понимаем мы хозяйку, которая, услышав где-то в гостях новый рецепт торта, с таким упоением и волнением принимается дома за трудную задачу? Какую же творческую радость испытываю я, сотрудник справочно-библиографического отдела библиотеки, когда, услышав своеобразный вопрос, начинаю готовиться к ответу: сопоставляю факты из разных областей науки, литературы, искусства, ищу и перелистываю справочники, энциклопедические словари, старинные издания, мемуары, архивные документы! Дорогой друг! Вряд ли ты ждешь от меня научной проверки наблюдений Дижонваля над пауками. Теперь еще вот что: ты знаешь, что гордость моей жизни — картотека имен и терминов, которую я составляю вот уже десятки лет. И не было еще случая, чтобы картотека меня подвела. Так что без ложной скромности скажу: не счесть моих ответов на вопросы и не перечислить моих отгадок на разные загадки. А вот сейчас никак не отгадаю, не пойму и не возьму в толк, почему тебя вдруг заинтересовал Дижонваль. Уж не вздумал ли ты написать научно-художественный сценарий о пауках? Так не лучше ли вместо Голландии и Франции конца восемнадцатого века вспомнить нашего Поливанова? Народоволец семидесятых годов прошлого века, Петр Сергеевич Поливанов был осужден царским правительством на вечное заключение. И вот однажды, когда за решеткой стояло хмурое утро петербургской ранней весны, обреченный на вечное одиночество человек увидел в камере живое существо. Это был паук — самый обыкновенный паук-крестовик. Они стали друзьями — человек и паук; человек заботился о пауке, кормил его, брал в руки. Паук спокойно влезал на палец человека. А когда человек трогал его лапки, паук спокойно и осторожно перебирал ими. Человек беспокоился — не слишком ли разжирело животное: это вредит здоровью. И заключенный срывал сеть паука — пусть потрудится, похудеет, это полезно. А паук? Он, в свою очередь, словно старался развлечь заключенного. Всякий раз было что-то новое в том, как паук ткал свою сеть, соединявшую ножки стола с перекладиной. Иногда он останавливался во время работы, разрушал часть сети, будто был чем-то недоволен, и начинал переделывать ее. Поэтому Поливанов писал о пауке, что это была «аристократическая натура»… Что же это такое? Поехал ты на курорт, а лезешь в «паучье царство» в каком-то Ченске! Мало ли ты разбрасывал, растрачивал свой живой талант по пустякам! Кидался от одной науки к другой. А тут еще — пауки! Ну, дело твое, не спорю. Мне-то нравится твой талантливый разброс, удивительное мозговое завихрение. До свидания. Надеюсь, ты еще хорошо отдохнешь. С приветом твой Д. Чарушин». Шнурки… пауки…. Я думал о пауках, когда рано утром вышел из города и направился туда, где студент Белянкин собрал свой букет, букет с теми листками, которые меня удивили, озадачили, ввергли в беспокойство и не выпускают из Ченска. Письмо Чарушина я несколько раз прочел в гостинице при свете лампы. Что открыло мне это письмо? Я уверился: неизвестный путешественник, желая узнать погоду, вынужден был наблюдать за поведением пауков. В наши дни узнавать прогнозы погоды у пауков! В наши дни! Ну хорошо! Письмо Чарушина разъяснило значение нескольких слов микролистков. «Барометр Дижонваля», «думал о Поливанове»… Но теперь, после этого разъяснения, микролистки стали для меня еще более загадочными. Почему пошел я туда, где были сорваны цветы? Очень просто. Ни ночью, ни на рассвете я не мог уснуть. Было душно. В институт к Тарасевичу с письмом Чарушина можно было пойти только во второй половине дня. К тому же после письма Чарушина мне очень хотелось посмотреть пауков «в натуре» и, конечно, побывать в том месте, где были найдены записочки Студент Белянкин подробно рассказал в институте о месте, где он собрал свой пресловутый букет, и я хорошо представлял себе, как туда идти. Дорога асфальтирована. По обеим сторонам росли в два ряда молодые, гибкие тополя. Наверное, их посадили тогда же, когда асфальтировали дорогу. Я иду по тропинке вдоль шоссе. Сквозь чащу кустарника то показывалось, то исчезало море. Дорога поднималась все выше и выше. Потом спускалась, вновь поднималась. Где-то вдали виднелись белые домики дачного поселка научных работников. Внизу, под горой, в долине, налево от асфальтового шоссе, извивалась проселочная дорога. Она исчезала в роще. А там, дальше, что за развалины? Спустившись с горы, я на проселочной дороге встретил женщину и мальчика лет семи-восьми. Они вели на поводу прихрамывающую лошадь. Мы разговорились. Женщина рассказала, что работает в подсобном хозяйстве научных работников. Лошадь ушибла ногу о борону; надо показать ветеринару. — А там, за рощей направо, — спросил я, — что за развалины? — Там до революции была усадьба. Чудак помещик жил, — сказала женщина. — Поначудил этот помещик, понастроил разные ходы под землей так, чтобы прямо из своей спальни под землей к морю выходить. А то, бывало, по ночам при луне у моря вдруг сам появится и гостей за собой с музыкой приведет. Наши старики рассказывают: «Приходим мы на музыку эту к морю, подходим ближе — глядь, а музыки уже не. слышно и людей не видно, обратно музыка под землю ушла…» Я не дослушал, попрощался и пошел дальше. Шел и думал о пауках. Но не мог не думать и о… шнурках. Да, о шнурках. Они то и дело развязывались, приходилось останавливаться, нагибаться, завязывать, а они снова развязывались. Шнурки… шнурки… Черные и белые, коричневые и желтые, длинные и короткие, тонкие и толстые — все с железными наконечниками, — они висели на веревочке ларька в Ченске у чистильщика обуви. Когда я подошел к нему, он старательно чистил свои высокие черные сапоги, вытягивая то одну, то другую ногу. Лишь после этого, налюбовавшись блеском сапог, он лениво протянул мне пару шнурков. Какие строптивые, нетерпеливые, беспокойные шнурки достались мне в удел! В первый же раз, когда я поспешно стал их вдевать, они сразу заупрямились. Никак не влезали в отверстия. Я дернул. А шнурок в отместку уронил свой маленький железный наконечник. За день шнурок совсем разлохматился, наконец оборвался. Но хуже всего обошлись со мной шнурки вчера вечером. Хотелось быстро снять ботинок, но потянул не тот конец узелка — узелок не развязался, а затянулся туго, совсем туго. Лезвие бритвы срезало узелок — шнурок укоротился. И теперь я шел по тропинке рядом с дорогой, а шнурок то и дело развязывался. Но не смешно ли, что я так много говорю о шнурках? Ничуть! И не странно, и не смешно! Ведь все, что потом приключилось, как раз и связано со скверным характером моих шнурков, которые с непонятной злостью и в отместку мне неведомо за что всё развязывались и заставляли так часто нагибаться к земле. Мысли мои то и дело возвращались к письму Чарушина: «Дижонваль… пауки…» И больше всего я хотел в те минуты увидеть самого обыкновенного паука. Казалось мне, что теперь на него я посмотрю совсем иначе. Увижу совсем не таким, каким видел всегда. Я стал оглядываться по сторонам, подходил к кустам, но нигде не увидел и следа какой-либо паутины. Роща стала гуще и темнее. Проселочная дорога свернула направо. Я шел по запущенной, забытой аллее каштанов, полутемной и прохладной, меж прямых черных стволов. Аллея стала расширяться и замкнулась вокруг деревянной полуразрушенной беседки. Тут же валялась сорванная калитка. Неожиданная акация, разросшаяся, по-видимому, после того, как люди перестали посещать беседку, заслоняла вход. С трудом я пробрался в беседку. Здесь торчали полусгнившие столбы столика и скамеек. Я присел на край сломанной скамейки. Под скамейкой и меж столбов буйно и высоко росла бледно-зеленая трава. Паутина, которую я отыскал меж столбов беседки, была серая и оборванная. В ней повисли крошечные кусочки прутиков. Паук, видно, давно ее оставил.  Вдруг раздался резкий лай собаки. Я пошел на лай. Густые кусты цветущего шиповника преградили мне дорогу. Как красиво алели их цветы! Так это было здесь! Здесь студент Белянкин ломал ветки шиповника, к которым пристали загадочные листочки… В букете были и незабудки. Вот и они — спокойно растут вдоль ручейка. Лай затих. А потом послышался вновь, но не такой резкий. Он точно исходил откуда-то из-под земли. Я стал присматриваться и прислушиваться. За кустами я увидел что-то вроде землянки. Она находилась совсем недалеко от меня. Вход был защищен тесовым навесом. На навесе лежали квадратики дерна. Это было сделано наспех — там и здесь из-под дерна еще виднелся белый тес. К землянке вела неровная дорога, вся в ямах и камнях. Из землянки слышался лай. Я подошел к входу и медленно, осторожно стал спускаться вниз. Несколько каменных ступенек. Площадка. На площадке стол, два стула. На столе мерцал фонарь «летучая мышь», лежали счеты и какая-то книга. Ступеньки вели дальше, в глубину. А оттуда шел отрывистый лай собаки. — Слушайте! — крикнул я в темноту. — Кто там? — ответили из подвала. Собака еще яростнее залилась. — Фу, замолчи ты, Курчавка! — прикрикнул кто-то на собаку. Собака смолкла. — Есть тут кто-нибудь? Выходите! Сначала молчание, потом… потом снова окрик: — Кто там? И снова, точно в ответ на эти два слова, отчаянный лай. На площадку прыгнула собака. Прыгнула и как вкопанная остановилась; вся рыжая, а спина черная. Она глядела на меня совсем не грозно и махала пушистым хвостом. Кто-то, кряхтя и охая, взбирался по ступенькам. Из темной глубины поднималась рука с зажженным фонарем. Предо мной предстала могучая женская фигура в ватнике и больших резиновых сапогах. — Здравствуйте! — пробасила женщина и добавила: — Приехали? По вызову? — Приехал, — ответил я в недоумении. — А где ваш транспорт? — Какой транспорт? — Без транспорта нельзя. — Но я… я пришел… — То-то и дело, что ходят сюда многие. — Многие? — переспросил я. — Вы что, загадочки пришли загадывать, цветочки собирать, как другие, или за овощами приехали? Лук, морковь, бурак. Если вы за овощами, то почему без машины, без тары для погрузки? Кто же вы такой? — Кто я? — Вот-вот! По какому случаю на базе появились? Оторопев, растерявшись под натиском вопросов, я не гнал, как все объяснить сердитой женщине, и только пробормотал: — А вы кто? Какая база? — Как так — кто я? Я Анна Ивановна Черникова, заведующая базой Райпищеторга. — Прощайте! — крикнул я, повернулся и ушел. Сделав десяток-другой шагов, я оглянулся и из-за кустов увидел: за мной, держа собаку на поводке, следовала Анна Ивановна Черникова. Я прыгнул через небольшой ручеек. Несносный шнурок! Опять… опять развязался. В который раз! Я нагнулся, потянул оба конца шнурка. Какая-то колючка (репейник, что ли!) зацепилась за растрепанный конец шнурка. Я стал снимать. В колючке запутался дохлый паук. Всю дорогу я думал о пауках, о письме Чарушина, — верно, только поэтому я заметил паука и спрятал его в спичечную коробку. Дохлый паук — Барометр Дижонваля существует! Вот письмо, а вот и «испорченный» барометр! — воскликнул я, входя в кабинет директора института Степана Егоровича Тарасевича, и положил на стол письмо Чарушина и спичечную коробку с дохлым паучком. Профессор сдержанно поздоровался со мной, посмотрел на меня с некоторым недоумением и, представив доценту Серафиме Васильевне Воронцовой, прибавил: — Надеюсь, порывистый ход ваших рассуждений по поводу найденных записок не будет стеснен присутствием нашего молодого специалиста. Маляры затянули окраску коридора и некоторых кабинетов, и Серафима Васильевна расположилась у меня со своим микроскопом. Из-под больших стекол очков на меня посмотрели голубые глаза. Посмотрели, как мне показалось, весьма насмешливо. А затем Серафима Васильевна снова опустила глаза к микроскопу, и правая ее рука быстро забегала по листу бумаги, делая какие-то записи. Степан Егорович внимательно прочел письмо Чарушина и развел руками: — Пусть так! Пусть барометр Дижонваля — пауки. Но что это меняет? — Все! Все меняет! Раз есть барометр Дижонваля, следовательно… …следовательно, — рассмеялся Тарасевич, — есть и пауки. — Следовательно, есть и путешественник, который вынужден узнавать погоду по поведению пауков. — Фантазия! — Что? А записки? Я вижу вьючное животное на привязи, путешественника, который уже погрузил свой мешок и дописывает дневник… — Ребусом называется загадка, состоящая в том, что часть слова или целые слова выражены посредством нарисованных фигур, нот или других знаков, звучание которых сходно с задуманными словами, — сказала медленно Воронцова, продолжая глядеть в микроскоп. Что вы хотите сказать? — спросил я. — Какой-то затейник написал ребус, кроссворд. В нем вместо простого слова «паук» проставил два слова: «барометр Дижонваля», а рядом с Эратосфеном — «личинку стрекозы»… А вы вот маетесь, отгадываете этот ребус. «Ребус, кроссворд», — повторил я про себя и почувствовал, что эти веселые и простые слова, само их звучание не только снимает с записок загадочность, но и показывает все в смешном виде. Но это ощущение длилось всего мгновение. Нет! Где, кто, когда и зачем станет составлять такие кроссворды? И я сказал: — Не ради кроссвордов и ребусов остался я в Ченске, отнимаю время у вас, Степан Егорович, писал Чарушину. А сегодня утром даже побывал там, где студент Белянкин вместе с цветами подобрал загадочные листки. — С чем же вы вернулись из этой экспедиции? — Экспедиция не удалась. Подобрал одного паука, да и то дохлого… — Дохлый паук!.. — захохотала, откинувшись от микроскопа, доцент Воронцова. Она хохотала все громче: — Дохлый паук!.. Ой, не могу! До…до…до…хлый!.. Дайте посмотреть! Воронцова подбежала к пауку, который лежал в спичечной коробке. Она сняла очки, протерла их и снова надела, всмотрелась в паука. — Апофеоз исканий, загадок, предположений, писем в Москву — дохлый паук!.. Как же вы, Степан Егорович, — обратилась она к профессору Тарасовичу, — не подумали, что все это так просто и ясно: какой-то дачник чудил, составлял кроссворды, а литератор из Москвы пытается из крапивы делать бриллианты! — Дачник?! Но позвольте! — воскликнул я. — Там, где найдены листки, и дач-то нет! — А ветер? — резко повернулась ко мне Воронцова. — Ветер не тратит время по пустякам, как некоторые другие. Налетел и унес с подоконника эти смешные записки. — А знаете, — сказал Степан Егорович, — в этом утверждении есть толк. А мы… мы явно перемудрили. Что я мог ответить? Как возразить? Передо мной лежали только дохлый паук и весьма странные записки. — Вот вы и молчите! — с усмешкой сказала Воронцова. — Нечего сказать! А перебаламутили весь институт. Что — не так? — Перемудрил, признаю, перемудрил… Воронцова вернулась к микроскопу и снова стала что-то бегло писать. — Да, заблудились мы с вами, — тихо сказал Степан Егорович. — А вот молодой специалист нас поправил. — Что ж, пора откланяться, уезжать, — сказал я и стал прощаться. — Знаете что? — проговорила вдруг с доброй улыбкой Воронцова. — Я вам на память этикетку на паука дам, определю точно род и вид. Но что прилипло к его лапе? Что было дальше? Я стоял у дверей, Степан Егорович записывал мой московский адрес, и вдруг… — Ой, что это? Ах, не может быть! — воскликнула Воронцова. — Скорей сюда!.. Смотрите! Листок! Слова! Мы оба подбежали к микроскопу: — Что случилось? — Что, что? Воронцова откинулась на спинку стула, очки сдвинулись на кончик носа. На лице были испуг, замешательство, недоумение. — Смотрите! Читайте! «Лист 1022 …Итак, все ясно. Туберкулез излечим. Как врач, я пришел к этому пониманию после ряда наблюдений, о чем подробно записал на предыдущих листках дневника. Все знают: туберкулезная бацилла окружена оболочкой. По своим химическим и физическим свойствам эта оболочка подобна воску. Протеолитические ферменты, гидролизирующие белки и полипептиды не в силах воздействовать на восковую оболочку туберкулезной бациллы, и потому организм человека не в силах справиться с этой бациллой. Нет такого лекарства, которое помогло бы расщепить восковую оболочку бациллы. Это известно всем врачам. Но в эти дни я наблюдал рядом со мной насекомое, которое питается воском и переваривает его. Так разве не ясно, что это насекомое обладает ферментом, который может разрушить восковую оболочку туберкулезной бациллы, расщепить жиры оболочки. Это насекомое — гусеница пчелиной моли Galleria mellonella. Я предлагаю вливать больному туберкулезом кровь гусениц. Не сомневаюсь: ферменты крови гусеницы разрушат жиро-восковую оболочку бациллы, и организм человека легко одолеет обезжиренное тело бациллы. Бич человечества — туберкулез — исчезнет! Galleria mellonella легко разводить: необходима соответствующая температура и большое количество вощины. Но странная участь, моя невероятная судьба, о чем я уже писал в листах 2 — 12…» Доцент Воронцова смотрела в микроскоп и читала это письмо спокойно, раздельно и четко. Прочитав фразу о невероятной судьбе и странной участи врача, который писал эти записки, она откинула голову от микроскопа: — На этом обрывается текст! Напряженная тишина водворилась в кабинете. И, когда Степан Егорович, чтобы зажечь верхний свет, подошел и повернул выключатель, шаги его и щелчок показались мне резким стуком, а свет загоревшейся лампочки заставил вздрогнуть. Наклонясь над микроскопом, Степан Егорович молча прочел ту же записку, а потом рассудительно сказал: — Теперь надо сравнить, сличить с той запиской, которую студент Белянкин подобрал там же с букетом цветов… Вот-вот, спасибо. Увеличьте свет, Серафима Васильевна, что-то не в фокусе… Спасибо. Да, одна и та же рука, один и тот же почерк, и один и тот же способ уменьшения при помощи фотоаппарата. Взволнованный, я наклонился над микроскопом, пытаясь что-то рассмотреть, прочесть, но ничего не увидел. Рядом со мной Степан Егорович говорил: — Вот что безусловно: мысль об излечении туберкулеза таким способом весьма оригинальна. Писал не дилетант. Врач. Специалист… Туберкулез теперь успешно вылечивают стрептомицином, паском и другими медикаментами. С успехом применяют, хирургическое вмешательство… Какой же врач этого не знает? А тут вдруг: лечение туберкулеза ферментами гусеницы пчелиной моли. Повторяю: предложение весьма оригинальное, но и весьма запоздалое. — Юному дачнику подарили микрофотоаппарат, а увеличитель забыли, — смеясь, заметила Серафима Васильевна, — и вот наш юный фотограф стал забавляться. Снимал, мудрил над чем ни попало. Разные ребусы про Эратосфена, старые письма, записки, выписки из старинных медицинских журналов… Попался бы рецепт о ращении волос на лысине, сфотографировал бы и этот рецепт. Рассеянно я слушал их разговор, пытался повернуть какой-то винт в микроскопе, наклонялся над ним, но опять ничего не увидел и с нетерпением стал оглядываться. — Что, не видно? — заметила наконец Воронцова. Она молча повернула один, другой винт микроскопа. — Теперь хорошо? — Да, да! Спасибо! — А вот другой, новый листок, который вы сегодня принесли с паучком. И под стеклами микроскопа обозначился острый, несколько старомодный почерк с легкой вязью, с наклоном вперед, с буквой «ять», с «и с точкой»,.. «Странная участь, моя невероятная судьба», — читал я слова и не в силах был оторвать от них глаз. Я вчитывался в слова, всматривался, и стало мне казаться, будто слова звучат, будто их кто-то произносит совсем рядом со мной глухим, старческим голосом. Казалось, микроскоп не только увеличил линейные масштабы слов на бумаге, по и создал звуковую ткань, создал тот объем живого слова, которое, согреваясь и накаляясь теплым дыханием человека, вырывается наружу, звучит, заставляет думать, чувствовать, трепетать сердца слушателей. «Странная участь, моя невероятная судьба…» И передо мной возникла в подробностях одна история, которую я услышал ночью в поезде, подъезжая к Ченску. Один неизвестный мне пассажир рассказывал о странной судьбе какого-то доктора, жившего давным-давно в Ченске. Все в этом рассказе было как будто бы и достоверно, но настолько необычно и неожиданно, что вызывало во мне недоверие к рассказчику. Теперь же, здесь, его слова вдруг ожили и крепко связались с записками, лежащими под микроскопом. «Странная участь, моя невероятная судьба…» — Позвольте же, — сказал я, обращаясь к Серафиме Васильевне и Степану Егоровичу, — передать вам историю одного доктора, который жил в Ченске. Мне кажется, что эта история проливает свет на записки. Ее я услышал ночью в поезде. — Спросонок? — иронически спросила Воронцова. — Вы недалеки от истины. Проснулся на верхней полке вагона и слышу… Вы ведь знаете, я ехал сюда, в Ченск, чтобы сесть на пароход и — на курорт… Ночной разговор Толчок. Проснулся. Поезд стоял. С верхней полки вагона было видно, как за окном в темно-синем небе остановилась луна. На последней станции луна медленно и осторожно выплывала из-за водокачки. Но поезд тронулся, и она сразу же вдруг проплыла над водокачкой, над деревьями у платформы и пустилась провожать его. Бежала луна в небе хлопотливо и деловито, все время заглядывала в окна вагона и остановилась теперь, когда поезд тоже остановился. Она пристально глядела в окно, на поезд: скоро ли он пойдет? Ждала. А под ней в степи кое-где рассеивался туман, серебрилась трава. — Почему мы стоим? — спросил чей-то молодой голос на нижней полке. Я прислушался. Видно, я очень крепко спал и не слышал, как эти пассажиры появились в купе. А кто-то внизу, старческим кашлем отделяя слово от слова, ответил: — Ждем встречного… Наступила та напряженная тишина, которая бывает, когда глухой ночью поезд вдруг останавливается в пути и, как живое существо, чего-то ждет. — И вы, Алексей Митрофанович, знали его? — нарушил тишину тот же молодой голос. — Даже неоднократно лично разговаривал. Ченск был тогда забытым богом городком. Учтите — царское время! Еще тогда с японцами не воевали. И железная дорога верст за семьдесят от Ченска проходила. Одним словом, заштатный, захолустный городок. Все здесь друг друга знали. — И всегда доктор таким странным был? — Его за что в городке чудаком считали? За то, что писем из Москвы боялся. Почтальон подаст письмо из Москвы, а он в руки не берет. Точно змей в запечатанном конверте лежит. Все знали: письма, не вскрывая, он отсылает назад в Москву. Я бы сам это за странность посчитал, если бы вдруг совсем случайно не оказался свидетелем, так сказать, отчаянного момента жизни доктора… И все мне открылось. После этого вот момента никто в городе доктора не встречал. Исчез, словно сквозь землю провалился! А тут разные слухи пошли… — Ну и дела… Про такое книжки пишут, — проскрипел чей-то новый голос в темноте. — Так что же случилось? — нетерпеливо спросил молодой. Старик закашлялся долгим, мучительным кашлем. Он, видно, хотел что-то сказать, отбивался от кашля. Я свесил голову с верхней полки, чтобы услышать конец этой истории. Сколько таинственного наслушаешься в долгие дни пути и на палубах пароходов и в вагонах поездов. Всегда находится старик, который был очевидцем самых невероятных событий, и всегда находятся благодарные слушатели. За окном, как и раньше, молча стояла в небе луна. Степная речка при луне казалась неподвижной. Осторожно склонялись темные кусты к блестящей воде. Наконец старик заговорил: — Вы спрашиваете, что с доктором случилось? Скажу. Не торопите. А пока прошу приметить: тогда какое время было? Чуть человек живет не как все — в чудаки запишут. Так было и с доктором. А за что? Первое — за то, что не садился за стол в карты играть с акцизными чиновниками; второе — за то, что аппарат изобрел и летать по воздуху вздумал. Опыты разные делал. Деньги за лечение не брал, а жалованье либо на опыты все уходило, либо лекарства больным за свой счет в аптеке покупал… Я слушал старика и думал: начатая история не будет досказана. Она просто придумана. Рассказчик сам не знает конца, не знает, что случилось с доктором, а просто предается воспоминаниям далекого прошлого. Или, может быть, старик дома не избалован вниманием, надоел своими разговорами? Над ним даже посмеиваются внуки, а здесь, в этом вагоне, где за окном застыла тишина степи, слушают его с большим интересом. И действительно, старик нее дальше и дальше отходил от начатой им истории: он говорил о нравах чиновников и купцов в городке, рассказывал о том, сколько времени когда-то уходило, чтобы стекла в лампах были чистые и фитили хорошо заправлены. Он говорил… говорил… — Да, в ту ночь я у приятеля задержался. Помню, большая гроза была. С ливнем. А когда дождь кончился, я домой пошел. И еще помню — на горе, в монастыре, одиннадцать пробило. «Одиннадцать пробило», — повторил я машинально в полудремоте вслед за стариком. И, уже не слушая его, дорисовал в своем воображении захолустный ночной городок после дождя: когда ливень кончился, наверное, сразу же небо очистилось от туч; умытые дождем звезды стали большими и начали пристально смотреть на мокрые крыши заснувшего городка. Вот смолк последний, одиннадцатый удар колокола; и еще тише стало кругом, но совсем ясно слышно, как на деревьях, в палисадниках, скатываясь и падая с листа на лист, постукивают тяжелые капли. Еще с вечера у каждого домика прогремели болты ставней, проскрипели засовы ворот: все запечатано, закрыто, заперто. Где-то невзначай начинала лаять собака и сразу умолкала. Опять тишина, пук капель. Доски тротуаров мокрые, и поэтому шаги запоздалого прохожего — старика, который теперь ведет свой рассказ (тогда он был еще молодым), — его шаги слышались совсем приглушенно… Таким я представил себе спящий ночной городок. Но о чем же еще там, внизу, говорит этот старик? О скрипке? О какой скрипке?.. — …И вдруг скрипка! Вот иду я, а совсем близко скрипка стала слышна. Играет она так жалобно, будто разбудить кого-то боится и сдержать обиду не может. Остановился я. Из-за сиреневого куста вижу — доктор на скрипке играет. Свеча на столе горит. Совсем было заслушался, все на свете забыл. И так бы до утра все слушал, если бы на улице совсем рядом не зазвенели бубенцы. Посмотрел — к домику доктора фаэтон подъезжает. Лошадей я сразу узнал. Тогда в Ченске мещанин такой был, Иван Федосеевич, коней под седло напрокат давал и раза два в неделю фаэтон за семьдесят верст к станции подавал и встречал московский поезд, пассажиров в город привозил. И вот вижу я — слезает высокий господин. С кокардой на фуражке. Идет прямо в сени. Доктор играет, ничего не видит, а приезжий уже перед ним стоит и руку на скрипку кладет. «Здравствуйте!» «Простите, я вас не знаю…» «Вы письма наши назад отсылали. Вот они. Читайте! Ответ дайте! Я подожду». «Оставьте меня в покое!» «Я доверенный торгово-промышленного банка „Братьев Дутовых“. Позвольте вам напомнить, что, будучи студентом последнего курса Московского университета, вы утеряли рукопись с разными проектами. И объявление изволили дать о потере. За любое вознаграждение умоляли вернуть». «Да, так было». «А дальше? Договаривайте, договаривайте!..» «Рукопись с проектами мне принес хозяин трактира, где я ее уронил». «Хозяин вам сказал: „Вот, мол, проектики… Я показывал их знающим людям, и говорят — большие деньги на этих выдумках заработать можно. Только вот беда: ни одни ваш проектик не закончен. Начато — брошено, начато — брошено. А как всякий проект до выгоды довести — только один человек может знать, только тот, кто их придумал“. И еще вам хозяин сказал, что описи и копии с проектов для порядка сняты. А толку что? Все это пока мертвый капитал. И хозяин вам отдал все ваши проекты в подлинном виде. Не так ли?» «Да!» «А вознаграждение? Деньги в банк от вас по обязательству, по векселю, ведь не поступили?» «Никому не обязан я давать отчет в своих поступках». «Напоминаю: у вас денег тогда не было. Их нет и теперь. Хозяин трактира вас пожалел, согласился взять вексель на тысячу рублей». «Да, так было. Но по какому праву вы так разговариваете со мной?» «Вот вексель. Платите!» «Оставьте, сударь, меня в покое! Вексель я выдал не вам, а хозяину трактира. Мы тогда договорились. Он будет ждать». «Договорились!.. Вот его передаточная надпись на векселе. Теперь владелец векселя — банк „Братьев Дутовых“. Протест учинен. Платите!» «Дайте срок… обождите! Я расплачусь… через месяц». «Отсрочек не будет!» «Неделю, одну неделю! И я расплачусь». «Не верю!» «День… Только один день дайте сроку!» «Знаете что? Банк возвратит вам вексель, а вы письменно в пользу банка откажитесь от своих проектов. Не скрою — за границей готовы к делу приспособить один проектик. Ждут». «Дайте срок… Я подумаю, один день…» «Теперь двенадцать без четверти. В девять утра я здесь буду. Либо проекты, либо по векселю платите!» Приезжий вышел. Скрипнули ступеньки крыльца. Широко расселся в фаэтоне. Бубенцы зазвенели, и все стихло. Дождь опять начался, да сильный такой. Я домой поспешил… Утром в городе все ахнули — доктор исчез. Как сквозь землю провалился. Стали искать, выспрашивать. Пастух видел, как кто-то очень рано шел к беседке, что у пасеки за городом. Стали пасечника расспрашивать. А он отвечает: «Видел!.. На заре прошел человек… А что за человек — не разглядел… Погода была пасмурная, пчелы не вылетали, я и заснул. Знать ничего не знаю, ведать не ведаю». Стали тогда присматриваться к следам. После дождя они хорошо видны. Но за ручьем следы кончались… Старик рассказчик закашлялся. В купе все еще было темно. Но где-то далеко стал бледнеть край неба, светлее стали кусты у речки, а вода в ней уже перестала блестеть. Я подумал, что таинственное исчезновение героя — наилучшее сюжетное завершение всей истории. Но там, внизу, слушатели стали требовать подробностей. — Была ли записка? Старик подробно объяснял: — Сначала подумали, что доктор в море утонул. Но потом нашли записку, обгорелую какую-то. А в ней такое мудреное было написано, что разные слухи пошли. Толком ничего понять нельзя. И совсем уже стали забывать об этом деле. И я обо всем бы забыл, если б не пасечник. Проговорился он как-то мне, что только для отвода глаз, чтобы отвязаться, сказал, что будто спал и ничего не видел, а на самом деле своими глазами видел, как тот человек, что к ручью прибежал… Долгий, протяжный гудок встречного поезда заглушил слова рассказчика. С шумом и грохотом пролетел курьерский, замелькали желтые блики на стенах купе. Наш поезд дал ответный гудок, тронулся с места, прогрохотал по мосту и звонко застучал по шпалам. В небе с места тронулась луна. Уже побледневшая, она поплыла в вышине вслед за поездом. Подул свежий степной ветерок. Не разбирая слов случайных пассажиров, я задремал под мерный стук колес. — Проснитесь! Проснитесь, гражданин! — Передо мной стоял проводник вагона. — Подъезжаем в Ченску… Я спустился с верхней полки. В купе было пусто. Рассказ остался без конца Каждый рассказчик, каждый чтец знает: бывает такая минута, когда внимание слушателей неожиданно обостряется, как бы включается чуткий контакт. Так же молчат слушатели, в тишине звучит тот же голос рассказчика, но он чувствует, что с какой-то минуты, с какой-то фразы слушатели начинают умом, сердцем и воображением своим жить судьбами героев, о которых идет повествование. Больше того, мысли и чувства слушателей обгоняют рассказчика. Блестят глаза, меняется выражение лиц… И уж началось самое главное: зазвучали паузы — секунды молчания рассказчика. Какую глубину, неподдельную искренность приобретает все повествование! Так было и с историей об исчезнувшем докторе из Ченска, которую я рассказывал Воронцовой и Тарасевичу. И, когда я кончил рассказ, еще целую минуту продолжала длиться та же внимательная тишина, в которой протекало мое повествование. — Нас обоих захватил ваш рассказ! — наконец воскликнула Воронцова. — Мы взволнованы судьбой выдуманного вами доктора. Сочинено здорово! Только где конец? Взялись рассказывать, надо было и конец придумать. — Здесь вовсе не выдумка! Не измышления! — воскликнул я. — Как? Разве вы не видите?.. Эта история с доктором… Разве она не связана с запиской о туберкулезе, которая лежит под микроскопом. — Я уже давно живу в Ченске, но ничего не слышал об исчезновении какого-то доктора, — покачал головой Степан Егорович. Он устало и медленно подошел к сейфу и не спеша стал его запирать. Воронцова старательно перетирала стекла окуляров и прятала их в футляр. А я? Я не знал, что делать. Молчал. Беспокойное ощущение вины перед занятыми людьми стало овладевать мною. Зря отнимал время… Мысленно я пробежал все дни, проведенные мною в Ченске. Зачем я приходил с букетом цветов к студенту Белянкину, которому надо было думать о зачетах и экзаменах? Зачем вот уже который раз я отвлекаю профессора Тарасевича от работы, приношу какие-то листочки? Зачем из-за меня заставили машинистку срочно печатать вместо программ и приказов какие-то ребусы, прочитанные под микроскопом? Чувство вины и неловкости меня вконец утомило. В институте был ремонт. Мы шли по длинному темному коридору и задевали какие-то ведра, стояки. В проволочной сетке под самым потолком тускло горела забрызганная белилами электрическая лампочка. Шаги гулко раздавались и будили полуночную тишину давно опустевшего института. Я смотрел на лампочку и думал: «Я совсем как она, эта лампочка, которая светит не так, как надо. Но ей, запыленной, забрызганной белилами, помешали светить неаккуратные маляры и нерадивая уборщица. А мне? Кто мешает мне жить как надо? Сам я. Только я». Мы вышли из института и стали прощаться. Летняя ночь была душная и тяжелая. Профессор Тарасевич, прощаясь, стал утешать: — Не беда, если выдуманный вами рассказ об исчезнувшем докторе никак нельзя связать с записками, которые вы нашли. Не огорчайтесь! Рассказ сам по себе интересен. Только конца нет. Воронцова весело встряхнула мою руку. Я остался у дверей института. Пытался привести свои мысли в порядок. По асфальту звонко стучали каблуки Воронцовой, уверенно и спокойно шаркали подошвы профессора Тарасевича. Потом из темноты долетел насмешливый голос Воронцовой: — Придумайте и расскажите нам завтра же утром конец этой истории о пропавшем докторе из Ченска! Шаги стихли. Голоса умолкли. — Конец-то и придумать нельзя, — послышался рядом со мной чей-то тихий, старческий голос. — Доктор Сергей Сергеевич Думчев как пропал, так о нем в нашем Ченске с той поры ни слуху ни духу… — Кто это? Кто говорит?.. Часть вторая Дом с башенкой Бессонное окошко Белые занавески на окнах уснули, побелели, засеребрились: полная лупа стояла над городком. Тени крыш, заборов, крапов строек, деревьев спали па булыжной мостовой в самых неожиданных положениях. А моя тень перемещалась, металась — то пропадала, то вновь появлялась: я шел — искал домик с башенкой. Домик с башенкой? Да! Услышав из темноты, что доктора, который когда-то исчез, звали Сергей Сергеевич Думчев, я вздрогнул от неожиданности, недоумения, удивления, а потом, придя в себя, воскликнул: — Кто это? Кто говорит? — Это я, Андрей Варфоломеевич, сторож институтский. Как пришел на ночное дежурство, так стул и вынес сюда. Ночь теплая. Сначала слушал вальсы всякие из городского парка. Потом вы все вышли, я конец разговора вашего услышал. Был, был такой доктор в нашем Ченске. Да вот исчез… — Но как? При каких обстоятельствах? Что с ним случилось? — забросал я вопросами сторожа. И услышал в ответ: — Об этом меня, почтеннейший, не спрашивайте. Много разных разговоров было. В городе с того времени, может, только два-три человека остались. Вот, к примеру, Булай Полина Александровна. Возраста она уже почтенного. Ну, помоложе меня лет этак на десять. С ней поговорите и от нее многое узнаете. Пресимпатичная особа. А в городе ее когда-то «вечной невестой» прозвали. Будто ждала она, ждала жениха своего, Сергея Сергеевича Думчева, в том самом домике с башенкой, из которого он и ушел, пропал. Так и живет она там до сего дня. — А адрес? — Какой там адрес! Вот если идти отсюда налево, дойдете до переулка, а переулок выведет к площади, от нее бульвар идет, с бульвара повернете во вторую улицу — опять налево. С этой улицы, считай, третий переулок направо. Так вот в этом переулке, па правой стороне, четвертый дом от угла после забора. Дом с башенкой. Но как бы вам лучше пояснить — с мезонинчиком таким. А вокруг мезонинчика — балкончик. Махонький, с перильцами. — А название переулка? — Раньше Верхнетроицким назывался, а теперь не знаю. Да вы и так найдете. Как сказал я, так и идите… Почтеннейший, зачем же ночью людей беспокоить? — крикнул мне вслед Андрей Варфоломеевич, увидев, что я устремился налево, к переулку. Конечно, я вовсе не собирался стучать ночью в чужие двери, будить в полночь незнакомых людей. Так зачем же я искал дом с башенкой? Разве прояснится темный смысл микрозаписок оттого, что я при луне посмотрю, взгляну на какой-то домик? И разве может быть какая-либо связь между человеком, который исчез много-много лет назад из домика с башенкой, и крошечными записками, найденными две недели назад в довольно сохранном виде на цветах за городом? Но надо! Непременно надо было убедиться, что есть такой домик в Ченске, а следовательно, ночной разговор, услышанный в поезде, не выдумка. Конечно, можно будет сверить почерк странных записок с каким-либо рецептом, хранящимся у женщины из дома с башенкой. Необходимо убедиться, что писал эти записки доктор, который исчез… И уже не буду я так смешон со своими догадками. Но в этом ли дело? Это мелочь. Главное, что вот-вот — и загадка исчезновения человека, может быть, перестанет быть загадкой. Но откуда эта уверенность, что писал микрозаписки о дневнике открытий и о туберкулезе тот же человек, который жил здесь, в Ченске, в том домике, куда я теперь иду? С бульвара я повернул во вторую улицу налево. А с этой улицы надо свернуть в третий переулок направо. Вот и четвертый дом после забора — дом с башенкой! Шумят на легком ветру деревья в палисаднике. Сквозь их густую листву светит одно окошко. Я тихо поднялся по ступенькам крылечка и на двери домика прочел на эмалевой дощечке: «Зубной врач П. А. Булай. Прием все дни, кроме воскресенья». Постоял. Прислушался. В домике было тихо. Слегка шумели тополя. Светило в палисадник бессонное окошко: кто-то кого-то ждал. Новое знакомство Только изошло солнце, и я уже был у дома с башенкой. Ниже эмалевой дощечки надпись, сделанная чернилами на обрывке бумаги: «Звонок не звонит — прошу стучать». Я постучал, но дверь мне не открыли. Снова постучал. Молчание. Посмотрел на часы: семь. «Не слишком ли рано?» Чтобы сократить время ожидания, я пошел на вокзал. Выйдя на перрон, я стал дожидаться прихода дальнего поезда и зачем-то спросил проходящего по перрону дежурного по станции: скоро ли придет? Вот пришел дальний поезд. На тихой станции стало шумно, беспокойно. Забегали люди. Затолпились у киосков. Гудок паровоза. И снова все кругом опустело. Вернулся к дому с башенкой. Ходил по переулку. Но на дом все посматривал — словно боялся: не убежит ли куда-нибудь, не тронется ли с места, не спрячется ли? На часах девять. Пора! На мой осторожный стук отозвался торопливый голос: — Иду, иду! Двери приоткрылась. Маленькая остроносая женщина высунула голову, повязанную белесоватым, когда-то голубым платком. Быстрые, любопытные глаза внимательно глядели на меня. — Ага! Вы тот самый, что ехали в вагоне, где моя Зинуша проводником? Не вас ли до полуночи ждала? Свет не тушила. Пожалуйста, заходите! Я ее разбужу. — Нет, нет! Я пришел к зубному врачу Полине Александровне Булай. — К Булай? К Полине Александровне? Пожалуйста, проходите. Присядьте вот тут., — Она указала на одинокий стул среди высоких шкафов и кованых сундуков, заполнивших длинный коридор. — Сейчас постучу. Подойдя к какой-то двери, она постояла, к чему-то прислушалась и вернулась обратно: — Сколько ни живу здесь, а не возьму в толк ее жизнь. Неизвестно, когда встает, когда ложится. И сейчас но пойму: спит или не спит. Больные всё больше после обеда приходит. — Что ж, — поднялся я, — приду после обеда. — Видать, вы приезжий? — сказала она. — Приезжий. — А откуда будете? Надолго ли сюда? Часто ли к ней ходить будете? — Не много ли вопросов сразу? — Ах, гражданин, — сказала женщина тихо, — не от любопытства спрашиваю, а от боязни! Боюсь! Ох, как боюсь, опасаюсь я! Всего в этом доме боюсь. — Чего же вы боитесь? Она еще больше понизила голос и, указывая на ту дверь, к которой раньше подходила, заговорила: — Ее боюсь… В эту минуту дверь отворилась. — Вот она! Ну потом, потом все расскажу вам. На пороге стояла женщина, высокая, седая, гладко причесанная, в черном старомодном платье, наглухо застегнутом. На вид ей было лет шестьдесят пять. — Полина Александровна Булай? — Пожалуйста, заходите! — Полина Александровна раскрыла дверь комнаты. «Странный зубоврачебный кабинет», — подумал я, входя. Комната была сплошь заставлена старинными шкафчиками со множеством ящиков и ящичков, низенькими креслами, столиками с бесконечными безделушками. На стенах без всякого порядка висели гравюры и репродукции старинных картин, изображавших радостный семейный уют. Картины были в почерневших от времени золоченых рамах с отбитыми краями. У окна стояло зубоврачебное кресло, сиденье и подголовник которого были обиты малиновым бархатом, сильно потертым. Все носило следы старины, некоторой дряхлости, но нигде не было ни пылинки. — Садитесь в кресло, — сказала Булай и подошла к умывальнику. Стала мыть руки. — Полина Александровна, я не больной. — Зачем же вы пришли? — Чтобы поговорить о Думчеве. — Сергее Сергеевиче? — переспросила она спокойно, тихо и как-то особенно светло. И при этом без всякого удивлении. В дверь слегка постучали, и в комнату вошла соседка. — Полина Александровна, — спросила она, — вы не брали из кухни мою эмалированную кастрюлю? — Нет, Авдотья Васильевна, не брала. — Не брали? Ну и хорошо. Может, моя Зинуша припрягала. Потом ее спрошу. Спит она, сердечная, сейчас… Да, вот еще что я вам скажу: в том сундуке, что на кухне, мышь всю-то ноченьку скреблась. И теперь она, видно, там. Открыть бы, выгнать бы… — Мышь? В моем сундуке, что с письмами?.. Булай вышла из комнаты. Авдотья Васильевна осталась в комнате и заговорила: — Боюсь я… Того боюсь, что, верно, не в своем уме моя соседка. Зинуша моя с поездом на целые недели уезжает. Во всей квартире остаюсь я одна с Полиной Александровной. Ходит она тихо, говорит мало. Уж давно, я еще и не переехала сюда, а в городе про нее разное говорили, будто она все на дорогу глядит, жениха какого-то ждет. А я как на. нее посмотрю, так и думаю: «Самой-то невесте саван пора шить»… Зинуша говорит: «Мама, чего вы беспокоитесь? Человек живет тихо, дело свое исполняет. Вполне нормальная старушка». А я все сомневаюсь. Коли будете к ней ходить, присмотритесь, мнение свое составьте и мне скажите: надо ее опасаться или нет… Послышались шаги Булай. Соседка ушла. Я снова обратился к Полине Александровне: — Прошу вас… Извините за беспокойство… Прошу вас рассказать все, что вы знаете о Сергее Сергеевиче. О том, как он исчез… — Нет, нет, не произносите этого слова! Он просто ушел… ушел из этого дома. — Ушел? Давно? Сразу я почувствовал всю бестактность моего восклицания, смутился и смолк. Булай помедлила, словно собираясь с духом, и сказала: — Простите, как вас зовут? Я назвал себя. — Так что же, Григорий Александрович, привело вас сюда? Ведь Думчева все забыли. — Совсем случайно я услышал один рассказ, который приблизил меня к судьбе Думчева. Но, прошу, пока не спрашивайте ни о чем. — Хорошо, я вам верю. Когда-то очень давно меня прозвали невестой Сергея Сергеевича. Ах, разве вы теперь можете себе представить, вообразить, как когда-то глухой провинции забавлялись скучающие люди! Однако дело не в этом. Я сейчас думаю о том, как лучше рассказать вам о Думчеве. Не знаю, с чего начать: с того ли, в какой необычной обстановке увидела его в первый раз, или просто о встречах и разговорах с ним. — Если можно, расскажите все по порядку. — Но отложите же свое вечное перо! Нельзя же спокойно рассказывать, вспоминать, когда каждое слово записывают. Я послушно спрятал авторучку и блокнот в карман, уселся поудобнее в кресло и приготовился слушать. — Итак, это было давно… — начала Полина Александровна. За дверями послышался шум. — Не обращайте внимания, это Гибралтар передвигает мебель и снова подметает чистый пол у моих дверей. — Но почему Гибралтар? — Так я окрестила соседку Авдотью Васильевну за то, что мимо ее глаз, как кораблю мимо Гибралтара, незаметно не пройти. Всякий будет досконально изучен. Она всегда всего боится. — Итак, это было давно… — повторил я. Икар на ярмарке — Да, давно, — повторила Полина Александровна. — Мне было тогда семнадцать лет. Я помню тот день, тот час и даже ту минуту, когда я впервые увидела Сергея Сергеевича Думчева. Это было на заре воздухоплавания. Нет, правильнее сказать так: перед самой зарей воздухоплавания… День был воскресный, девятое июня. Была ярмарка. Старая, седая женщина говорила, а я забыл, что она стара. Уже не видел, что она седа. И уже не верил, что все это было так давно. Точно огонь ее несбывшихся мечтаний сжег эти десятилетия. Прошлое вернулось. Я его увидел, услышал… Вот ярмарка. Южная ярмарка под полуденным солнцем. Шумная, пестрая, звонкая и нарядная. Проснешься, откроешь ставни, распахнешь окно — и гудит-звонит ярмарка вовсю, шумит людской толпой, пестрит, мелькает яркими платками и юбками баб, гудом гудит и оглушает криком, ржанием, блеянием и мычанием. А в лавках и ларьках, наспех сколоченных из свежевыстроганных досок, разметались на солнце, блестят и пышут буйными красками ленты, ситцы, платки, бусы, сливаясь и переливаясь в яркие полосы. Тесно, не пробраться! Со скрипом вертится-крутится карусель под стон шарманки, под визг девиц, сидящих в размалеванных колясочках, под свист восседающих на деревянных резвых конях парней — веселых, насмешливых парней в картузах, залихватски заломленных набекрень. Тесно! Едва-едва пробираясь под возами продавцов и между ног покупателей, нюхая землю и поджав хвост, ищет своего хозяина дворовая собачонка. Но где там! Сидит он где-нибудь в кабаке. Парень-гармонист ткнул ее ногой. Собачка взвизгнула, сжалась, подобрала хвост, кинулась под воз и снова пошла пробираться дальше. Тянут слепые певцы песню. Песню однотонную и протяжную. Когда она началась? Когда кончится? Неизвестно. Их ведет, расталкивая толпу, мальчуган, протягивая рваную шапку, белобрысый, остроносый, с хитрыми глазенками. А они идут за ним, положив друг другу руки на плечи, высоко подняв к небу бесстрастные лица. И вслед за ними легко и вольно идет цыганка с накинутым на одно плечо пестрым с бахромой платком, увешанная бусами, бренча монистами, сверкая огромными полукруглыми серьгами, слегка поводя плечами, идет меж возов и лавок, хватая за руки то одного, то другого, и скороговоркой заверяет: «Позолоти ручку, погадаю — судьбу расскажу!» А солнце все выше и выше, все жарче и жарче. Все шумнее и люднее южная ярмарка. И вдруг откуда-то издалека долгий, протяжный крик: «Летит! На небо летит человек!» Крик потонул в шуме и грохоте базара. Никто не обернулся и не отозвался. Базар продолжал гудеть. Какой-то человек в чуйке и в картузе с блестящим козырьком вскочил на воз и замахал руками. «Братцы! — кричал он, стоя на возу. — Братцы, глядите! Глядите, что делается на вышке!» «Где, где?» «Вон на вышке! С вышки человек полетит!» «На небо полетит человек!» И толпа, нестройная, любопытная, жадная до зрелищ, кинулась к видневшейся на холме вышке. На широком помосте вышки лежал снаряд, похожий на огромную стрекозу. Рядом с этим снарядом стоял молодой человек и поправлял какие-то длинные ремни на снаряде. Он был в косоворотке и в черном плаще-крылатке. Бледное лицо, длинные нервные пальцы, губы сжаты, а когда он выпрямился, то глаза его сосредоточенно устремились куда-то далеко через головы обступивших помост людей. Странен, непонятен и очень одинок был этот человек на крикливой, нарядной южной ярмарке. Он, видно, был так занят своим снарядам, что не замечал всего, что делалось вокруг. Хозяин-предприниматель, построивший на холме вышку, получал по пятачку с каждого входящего за изгородь. Огороженное место вокруг вышки густо заполнялось народом.  Хозяин поднялся на несколько ступенек вышки и возгласил: — Почтеннейшие дамы и господа! Сейчас человек на небо полетит. Сами своими собственными глазами увидите. Так не угодно ли за спою плату вопросики задавать этому человеку? Как-никак, от нас и небо человек отбудет и обратно к нам прибудет! Предприниматель вытер блестящую лысину красным клетчатым платком. Из толпы послышались голоса — обращались к человеку на вышке: «Назовись: кто ты такой?» «Личность какая?» «Промысловое свидетельство? Веры какой?» «Раз на небо летит — так веры какой?» «Я Сергей Сергеевич Думчев! Русский», — отвечал молодой человек. «Ну, лети!» — сказали в толпе. Человек, назвавшийся Думчевым, снял крылатку и продолжал возиться у снаряда. «Уважаемая публика! — обратился хозяин к Толпе. — Терпение! Лишь пять — десять минуточек — и полетит!..» — Я стояла недалеко от вышки, — продолжала свой рассказ Полипа Александровна, — и видела, как дрожали руки Думчева. Беспокойство, волнение, испуг охватили меня. Ведь вышка высокая! Неужели они все здесь не понимают, что он, этот смельчак, сейчас разобьется? «Отговори, отговори его от полета!» — упрашивала я брата-студента. Учился он в политехническом. Знаете, такие красивые эполеты на синей тужурке. Он очень хорошо разбирался в технических делах. Всюду брат сопровождал меня. Как давно это было! Я тогда носила широкую соломенную шляпу. У меня была длинная русая коса. «Коллега! — крикнул брат изобретателю. — Не помочь ли вам?» И он стал взбираться на вышку. Но изобретатель отрицательно покачал головой. Он продолжал возиться у снаряда. Кругом говорили: «Никогда не полетит!» «А почему птица летит? Вся сила у птицы в перьях, — объяснял степенный купец. — А в его снаряде крылья-то без перьев». «А летучая мышь летает или не летает? — обернулся брат и добавил: — Выходит, что дело не в перьях!» «Ну, так что ж он не летит? Дотянет до ночи, да так и не полетит!» «Время! Времечко!» «Скорей! Начинай! Пора!» — кричала нетерпеливая толпа. Думчев расправил широкие крылья снаряда и подтянул весь снаряд к краю вышки. Толпа затихла.  Он продел ноги в ремни и приладил снаряд к поясу. Затем стал просовывать руки под крылья. Крылья были легки, из ивовых прутьев, обтянуты материей и очень подвижны, по-видимому на шарнирах. «Вот-вот полетит!» — раздались голоса. «Стой! Стой! — вдруг закричал хозяин. — Стой!» Все время хозяин не стоял на одном месте: то взбирался на вышку, то убегал к калитке проверять выручку. «Стой!» — крикнул он, расталкивая толпу, и подвел к самой вышке какого-то чиновника с женой. Чиновник крикнул Думчеву: «Слушайте! Супруга моя желает задать вопрос, а вы, сударь, потрудитесь ответить!» Жена чиновника вскинула лорнет: «Молодой человек, я любопытствую, какая материя на крыльях этих? Снизу мне кажется, что это муслин. Скажите, где вы брали такой прелестный цвет? Много ли за аршин платили?» Думчев обстоятельно ответил на этот вопрос. «Теперь лети!» — крикнул хозяин. Брат тихо сказал: «Поля! Помнишь эти стихи: Любители пошлого сыты, Их доля светла и легка, А руки Икара разбиты За дерзость обнять облака». В толпе говорили: «Примеривается к ветру!» Внезапно Думчев кинулся с площадки. Полетел! Все замерли, затаили дыхание. И вдруг побежали вслед. Бежали, перепрыгивая, перелезая через изгороди. Бежали молча, запрокинув голову. Снаряд неожиданно накренился. Люди шарахнулись в стороны. Быстрым рывком ног, продетых в стремена, что были прикреплены к веерообразному хвосту, Думчев восстановил равновесие. Стрекоза выпрямилась. «Ура-а-а!!!» — загудело кругом. Но это продолжалось едва ли больше одной-двух минут. От порыва налетевшего ветра всколыхнулись платки у баб. Схватились за шапки и картузы бежавшие за снарядом люди. Ветер подул сильнее. Брат, бежавший рядом со мной, крикнул: «Беда! Ветер мешает ему! На схватку с ветром пошел наш русский Икар!» Я видела: крылья снаряда-стрекозы перекосились. Снаряд сильно наклонялся то в одну сторону, то в другую. Вот-вот упадет! Брат кричал: «Смотрите! Ветер валит аппарат влево — Думчев выносит ноги вправо! Ветер вправо — Думчев влево! И снаряд выравнивается!» Но ветер точно понял уловки человека и налетел сверху. Аппарат «клюнул» носом. И тогда Думчев стал руками опускать и поднимать крылья. Аппарат опять на время выпрямился. Рядом со мной раздавалось: «У него силы кончаются! За воздух не уцепишься!» Аппарат падал. Напрасны были взмахи крыльев. Снаряд гнало ветром к морю. Толпа ахнула: «Утопнет! Утопнет!» Заголосили женщины, кто-то начал креститься. У самой воды снаряд ткнулся в песок. «Убился! Убился!» — кричала толпа и бежала к морю. Я опередила всех. Соломенная шляпа сбилась набок и едва держалась на ленте. Я первая подбежала к Думчеву. За мной — брат. «Вы живы?» — крикнула я. Думчев пошевелился. Расстегнув ремни, мы помогли ему выбраться из-под снаряда, застрявшего в сыпучем песке. Подбежали люди. Подходили осторожно и молча, точно боялись потревожить Думчева. Даже мальчишки, босоногие, вихрастые, перебегая от толпы к снаряду и от снаряда к толпе, говорили между собой шепотом. Брат попросил всех разойтись. Принесли кувшин воды, и я смочила Думчеву лоб. Брат побежал за извозчиком. Думчев пришел в себя. Но он не замечал никого. Время шло. Люди стали расходиться. Вдруг он сделал усилие, чтобы подняться. Я помогла ему. Он встал, обернулся и увидел свой разбитый аппарат. «Я еще полечу! Полечу!» — сказал он тихо и упрямо. Низко над нами легко пронеслась чайка. «Как эта птица?» — Я указала ему на чайку. «Птица?» — переспросил он. «Как эта чайка?» — повторила я. Он долго молчал, точно справляясь с какими-то своими мыслями. «Нет! Нет! — вдруг резко крикнул он. — Лучше птицы! Как муха! Не только летать, но и стоять в небе! Стоять в воздухе так же твердо, как человек на земле!» Я испугалась: не помешался ли он? И спросила: «Какая муха? Что вы! Разве муха стоит в воздухе?» Он ничего не ответил. Потом тихо прибавил: «Я научусь всему этому не здесь! А там… только там!» «Где?» Но он ничего не ответил. Мне стало страшно. Брата с извозчиком все еще не было. Медленно, опираясь на мою руку, Думчев пошел в город. У моря остался разбитый аппарат. Уже темнело. Я помогала идти этому странному человеку… Рядом с ним я по-иному, по-новому теперь услышала шум моря, по-новому увидела, какие косые лучи бывают у заходящего солнца. А он шел рядом со мной, опустив голову. На меня он ни разу не посмотрел. И все шептал: «Выхода нет! Выхода нет! Только у них! У них учиться». Я слышала эти слова, но ничего не понимала и ни о чем не спрашивала. А солнце уходило в море. Письмо Андрея Булай Где-то далеко в коридоре то стучал, то шуршал веничек соседки. С самого начала рассказа Полины Александровны я думал: «Скорей бы проверить, доктор ли Думчев писал микрозаписки. Его ли рука? Сверить почерк! Это главное». Но длился рассказ, и постепенно душа моя стала полна иными мыслями, чувствами. Я ощутил резкое дуновение воздуха, почувствовал острый порыв ветра, взметнувшегося под крыльями первых самолетов. Как светла и дерзновенна была мечта тех людей, что впервые отважились подчинить себе воздушное пространство! Странное состояние: сидеть в зубоврачебном кресле, смотреть на старую ножную бормашину и на блестящие металлические инструменты, но ничего этого не видеть, а принимать сердцем тепло и свет той мечты, что владела Думчевым, когда на самодельном аппарате он поднялся в воздух и полетел над кричащей ярмаркой. Но что же значат слова Думчева после неудачного полета: «Я научусь всему этому не здесь! А там… только там!» Понять бы эту фразу как надо, раскрыть бы ее подлинный смысл! Шуршал, стучал веничек соседки в коридоре. Полина Александровна прервала мое молчание: — Я уже говорила вам, что за полетом Думчева наблюдал и мой брат, который учился в Петербурге в Политехническом институте. После этого полета брат часто навещал Думчева. Бывал он у Сергея Сергеевича и всякий раз, когда приезжал в Ченск в последующие годы. Вот что написал мне брат, когда узнал об исчезновении Сергея Сергеевича. Я взял у Полины Александровны письмо и прочел: «Дорогая Поля! Я взволнован, потрясен твоим сообщением о Думчеве. Ты пишешь, что его одежда найдена на берегу моря. Неужели он утонул? С этим не могу примириться. По кусочкам, мозаично создаю образ этого человека. Его уж больше никогда-никогда не увижу. Что сильнее всего удивляло в нем? Многообразие интересов, научных поисков и опытов! Однажды, наблюдая за его опытами, я подумал: «Это немыслимо! Как же вмещаются в голове одного человека научные интересы, столь разные и далекие один от другого? Что, если все — только порыв, увлечение?» Не удержался, сказал Думчеву об этом. Он не рассердился: «Да, понимаю! Так со стороны может показаться… Но за кем следую? У кого учусь?» С необыкновенной живостью он кинулся к книжной полке, достал Пушкина и прочел: «Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник…» О ком это сказано? О Ломоносове! За ним надо следовать, у него учиться, как проникать в разные отделы науки». «Так было когда-то… — сказал я. — Далекий восемнадцатый век!» «Когда-то? А я докажу, покажу, что естественные науки и техника переплетаются. И у мухи, стоящей в воздухе, надо учиться, как строить самолет. Разные науки — совсем не разные. И даже математика и поэзия едины!» Тут уж я не выдержал: «А вы сами-то и впрямь верите, что математики писали стихи, а поэты…» «Лобачевский писал стихи так же, как любимый мною Тютчев. Оба они поэты! И близки друг другу по духу и по стилю». «Что ж, — сказал я, — прочтите мне стихотворение Лобачевского». «Прочту Тютчева, а затем Лобачевского, — сказал он. — Для них и солнцы, знать, не дышат И жизни нет в морских волнах. Лучи к ним в душу не сходили, Весна в груди их не цвела. При них леса не говорили И ночь в звездах нема была! А теперь послушайте, как у Лобачевского: «Но вы, которых существование несправедливый случай обратил в тяжелый налог другим, вы, которых ум отупел и чувство заглохло, вы не наслаждаетесь жизнью! Для вас мертва природа, чужды красоты поэзии, лишена прелести и великолепия архитектура, незанимательна история веков…» Думчев читал эти строки как-то торжественно. Но я так и не понял, что же общего между Тютчевым и Лобачевским. И вот теперь, когда Думчева пет, я взял в руки томик Тютчева и труды Лобачевского, прочел снова те же отрывки и говорю: «Да, Думчев был прав. В те дни я не понимал его. Теперь за это бичую себя». Почему-то сейчас вспомнился один разговор с Сергеем Сергеевичем. Это было утром в день моего отъезда из Ченска, когда я пришел к нему попрощаться. Я сказал: «Вот вы ведете поиски в разных областях науки. Но где же цель, в чем ведущая задача?» «Чтоб стать микроскопом, живым микроскопом!» «Вы смеетесь, Сергей Сергеевич». «Ничуть, — продолжал Думчев серьезно и просто. — Почему вы не желаете допустить, вообразить: человек делает разнообразные опыты и приходит к находке самых удивительных ферментов. Допускаете?» «Допускаю», — сказал я. «А допускаете ли вы, что такие ферменты лежат теперь здесь, перед вами на столе, в виде порошка? Человек принимает этот порошок. И вот…» Думчев задумался. «…и вот, — подсказал я, — человек видит мир как будто сквозь стекла микроскопа». «Почему — как будто? Мир перед этим человеком действительно начнет вырастать в масштабах, потому что человек начнет… — Думчев не закончил фразы и весело рассмеялся: — А здорово я над вами подшутил? Человек микроскоп… могущественные ферменты… Не правда ли, какая нелепая, смешная выдумка? — Думчев смеялся все заразительнее и все веселее. — А вы вот-вот и поверили бы мне». Он схватил скрипку и заиграл мазурку Венявского… «Милая Поля! Я знаю, что все деньги Сергей Сергеевич тратил на опыты или на покупку лекарств для больных. При мне к Думчеву приходил хозяин домика и говорил: “Вам, доктор, ничего не остается, как броситься в море, — арендную плату вы мне не уплатили еще за прошлый год”. Уплати же, Полина, по получении моего письма все, что причитается хозяину. Поселитесь с мамой в этом домике. Запри на замок лабораторию. Приеду, разберусь в записках, работах, опытах Думчева. Заканчиваю письмо, уж пятый час ночи. Что-то странное и непонятное есть во всей этой истории… Самоубийство? Но столько начато поисков! И какая-то великая научная задача, стояла перед Думчевым! Не мог же он сам все оборвать. И потом: самоубийство — это трусость. А я вижу Думчева таким спокойным, смелым, сосредоточенным, каким он стоял на помосте на ярмарочной площади, готовый к своему безумному полету… Напиши мне, Поля дорогая, все поподробнее и яснее. Как хочется поскорее приехать к вам, повидать всех вас! Твой брат Андрей Булай». — Но ответить брату я не смогла, — тихо и горестно сказала Полина Александровна. — Провокатор выдал брата царским жандармам. Андрей участвовал в одном революционном деле. Он скончался, когда гнали по этапу в ссылку. Я сделала, как просил брат, — поселилась в этом доме. Лабораторию я заперла на замок. Все в ней осталось в таком виде, в каком она была, когда Сергей Сергеевич бросил на нее свой последний взгляд… Вы, может быть, хотите посмотреть лабораторию? — Старая женщина достала из ящика столика большой ржавый ключ. В лаборатории Думчева Я распахнул дверь, чтобы пойти вслед за Полиной Александровной в лабораторию. Булай взяла с собой свечу в медном подсвечнике и спички. На пороге перед нами предстала соседка Авдотья Васильевна. Она как-то значительно посмотрела на меня, точно собиралась что-то сказать, но промолчала. Мы поднимались по узкой внутренней лестнице со скрипучими ступеньками. Остановились на небольшой площадке перед лабораторией Думчева. Булай отомкнула ржавый замок, висевший на дверях. Огонек свечи, неровный и колеблющийся, вырывал из темноты лаборатории всевозможные предметы: колбы, книги, склянки, ноты, скрипку в футляре, штатив с пробирками, портреты, микроскоп, медный чайный подносик со стаканом и блюдечком, спиртовку, лупу. Я взял из рук Полины Александровны свечу и осторожно обошел всю небольшую комнату. Осмотрел стены, потолок. Это был мезонин слегка округлой формы. С улицы он-то и казался башенкой. Окна были закрыты плотными ставнями. Полине Александровне было, наверное, тяжело и тоскливо бывать здесь. И сразу же она оставила меня одного. Хорошо помню, как она уходила: медленные, тихие, осторожные шаги. На отдельном столике стояло диковинное сооружение. Это была, по-видимому, модель насекомого в полете. Здесь же лежала записка. Смахнув пыль, я увидел: острый, с легкой вязью, несколько старомодный почерк. Знакомый почерк! Это была та же рука! Та, что писала микрозаписки, которые я читал в институте под микроскопом. Молча стоял я, держа в руках свечу, и думал: «Это он, Сергей Сергеевич Думчев, писал о каком-то путешествии, в которое отправляется, чтобы передать дневник открытий. Какое это путешествие? Для чего он уменьшал текст записок? И как записки, написанные им давно, могли оказаться теперь на цветах у беседки? Или не Думчев, а кто-то другой уменьшал при помощи фотографии листки его старого дневника и уронил их на цветы? Тишина прислушивается к этим вопросам. Она прислушивается и к скрипу телеги, проезжающей по булыжной мостовой, к отдаленному сигналу автомобиля, запутавшегося в переулках. Прислушивается. Молчит. Все годы тишина хранила легкий звон колб и склянок, переставляемых Думчевым, хранила шорох перелистываемых книг, сухой скрип пера, хранила тяжелые шаги сосредоточенного человека, в последнюю минуту в раздумье остановившегося у этих дверей. Тишина прислушивалась: вот шаги стали удаляться — все глуше скрипели ступени. Неожиданно резко хлопнула наружная дверь. Тишина вздрогнула. Жалкое трепетание колокольчика там, внизу, — вот последнее, что услышала тишина. И человек исчез! Навсегда! И с тех пор тишина лаборатории, сроднившаяся со своим доктором, хранит эти звуки и чутко ждет — с каждым годом все настороженнее, — не раздадутся ли знакомые шаги, не зазвучит ли его голос, не зашелестят ли снова страницы книг под его рукой, не запоют ли снова струны скрипки — вот этой скрипки, которая лежит на углу стола в запыленном футляре. Но почему в моей голове зазвучала мазурка Венявского? Почему возник этот мотив, возник и не уходит? Потому что на скрипке Думчев играл мазурку, говоря о ферментах, о порошке и о человеке-микроскопе. Где же этот порошок? Надо осмотреть лабораторию. В записке, лежащей около сооружения, напоминающего модель насекомого в полете, объяснялась «тема» этого сооружения. Привожу дословный текст. «Искусственное воспроизведение полета насекомого. С целью сделать более наглядными действие крыла насекомого и влияние на него сопротивления воздуха устроен сей аппарат. Фигура сия изображает два искусственных крыла, имеющих твердую жилку, к которой прикреплены сзади кусочки кишечной перепонки, поддерживаемой крепкими тонкими нитями. Плоскость этих крыльев горизонтальна; прибор из рычагов поднимает и опускает их, не сообщая им никакого бокового движения. Крылья приводятся в движение маленьким медным барабаном — компрессором, в котором воздух переменно сжимается или разрежается действием насоса. Поверхности барабана сделаны из каучуковых пластинок, сочлененных с обоими крыльями рычагами; воздух, сжатый или разреженный в барабане, сообщает упругим перепонкам сильные и быстрые движения, которые передаются одновременно обоим крыльям. Горизонтальная труба, уравновешенная гирей, позволяет аппарату вертеться вокруг горизонтальной оси и служит в то же время для приведения воздуха из насоса в двигательный барабан. Ось состоит из ртутного газометра, допускающего герметическое закрывание воздушных трубок и вместе с тем позволяющего инструменту свободно вертеться в горизонтальной плоскости. При таком устройстве аппарата можно изучить механизм, посредством которого сила сопротивления воздуха в сочетании с движением крыльев обусловливает движение насекомого вперед. Действительно, если с помощью воздушного насоса привести в движение крылья искусственного насекомого, то можно видеть, что аппарат начинает быстро вертеться вокруг своей оси. Механизм движения насекомого объясняется, стало быть, этим опытом». Удивительные записи, рисунки и пространные чертежи лежали тут же, точно Думчев спорил, был вовсе не согласен с чужим проектом сооружения и собирался построить по своим чертежам какую-то иную модель насекомого в полете. Я не очень хорошо разбираюсь в проектах, чертежах, моделях машин, конструкций, сооружений, но никогда не оставался равнодушным к ним. Здесь ум и сердце человека искали, находили, снова теряли, терпели поражение, но побеждали. Здесь изобретатель горевал и радовался точно так же, как писатель в работе над книгой, как художник — над картиной. Записи Думчева производили впечатление поисков ума, своеобразного и сильного. В самом деле, разве можно предположить, что кто-нибудь подсчитает число взмахов крыла насекомого в одну секунду? У Думчева я нашел вот какую таблицу:  Здесь же, под таблицей, было отмечено полное совпадение движений обоих крыльев насекомого: оба крыла движутся одновременно, и оба совершают одинаковое число движений. В записках Думчева несколько раз повторяется: «Я найду, непременно найду настоящую причину летательной силы насекомого!» На отдельном листке было сделано презанятное вычисление: «Вес грудных мускулов птицы составляет одну шестую часть всего тела, в то время как у человека это соотношение равно одной сотой. А у насекомого?» «Главное — исследовать силу мышц насекомого при полете. Определить, какой груз может поднять крыло насекомого». Затем была еще одна запись: «Нашел! Вот! Вот причина летательной мощи насекомого!.. Вертикальные и продольные мышцы насекомого. Энергия вертикальных мышц поднимает крыло. Энергия продольных — опускает. Взмах крыла — отброшена струя воздуха, и перед насекомым воздух пониженного давления. В любом направлении насекомое может отбрасывать токи воздуха. Не поэтому ли оно может подниматься под любым углом?» А рядом была новая запись: «Теперь остается найти последнее: как и почему оно (по-видимому, речь шла о насекомом) стоит в воздухе?» Быстрые, азартные росчерки пера. И при этом очень деловые и точные записи, чертежи и фотографии. Из них я мог заключить, что в своих опытах Думчев шел невероятными путями: он применял одновременно и графический, и оптический, и даже музыкальный метод. И тут опять были какие-то непонятные чертежи. На одном я увидел сопоставление дрожаний… камертона и взмахов крыла у шмеля и пчелы. Первые две линии этого чертежа были обрывистые, почти точечные и показывали частоту взмахов крыла у шмеля; третья линия была волнообразная, с острыми гребнями. Она была образована дрожанием камертона, снабженного острием. А вот пожелтевший листок нотной бумаги с записями весьма странных «мелодий». Это напевы комаров, шмелей, мух… На полках было расставлено множество книг и журналов. Тут же, в деревянных библиотечных ящичках, — хорошо организованная картотека. Все в строго алфавитном порядке. Я обратил внимание на то, что в одном ящичке лежало всего несколько карточек не по алфавиту: Свифт — «Путешествия Гулливера» (на английском языке), Афанасьев — «Сказки», Н. Рубакин — «Дедушка Время», Е. Маевский — «Доктор Мухолапский» (на польском языке), Ринер — «Человек-муравей» (на французском языке), Ласвиц — «На мыльном пузыре» (на немецком языке). На каждой карточке была аннотация книги. Я прочел их при свече. Все эти столь разные книги, написанные на разных языках и в разное время, были схожи в одной детали — в неожиданном сопоставлении масштабов героя и окружающей его среды. На другой полке я увидел карточку «Кибальчич». К перечню физико-механических опытов удивительного русского человека, самоотверженного героя-революционера и гениального изобретателя было приписано обращение Думчева к нему: «Ты, казненный царем! Ты, начертавший проект реактивного двигателя! Имя твое вспомнят, когда человек полетит в мировое пространство и познает далекие миры». И рядом с этим возгласом стояли два слова, написанных красным карандашом: «Личинка стрекозы». Эти слова были подчеркнуты тем же красным карандашом. Что это — бред? Что общего между проектом Кибальчича и личинкой стрекозы? Или вот — на карточке Циолковского было написано: «Ты, мой дорогой современник! Человечество реактивным двигателем покорит межпланетное пространство». Но опять рядом с этим обращением к Циолковскому была красная, подчеркнутая надпись: «Личинка стрекозы». «Какая странная приписка!» — решил я. Необычайная лаборатория, где записываются мелодии комаров, где подсчитываются взмахи крыльев осы… Где на карточках трудов Кибальчича и Циолковского вспоминают о личинке стрекозы… Да, о ней упоминалось и в микрозаписке… Какой хоровод нелепостей в одном маленьком доме тихого городка! И как загадочны микрозаписки, в которых Думчев дает людям ненужные запоздалые советы, как лечить туберкулез, или пишет о том, что мир вырос перед ним в «сто — двести раз»… Горит свеча. Закрыты ставнями окна лаборатории. Молчат книги. Молчат колбы, склянки и пробирки. Молчит старенький микроскоп, устало наклонив свой окуляр над запыленным предметным стеклышком. Где же он теперь, Думчев? Что с ним случилось? Я оглядываю в последний раз лабораторию. Смотрю на пыльный футляр, в котором лежит скрипка Думчева, вспоминаю мазурку Венявского — ее исполнял он, говоря о ферментах, о порошке, о человеке-микроскопе… Да! Я так и не нашел порошка в лаборатории! Разве можно что-либо найти в пыли, при свече и закрытых ставнях? Лампа с рефлектором И снова скрипящие ступени, свеча в руке — как бы не оступиться на темной лестнице; недоумевающий взгляд соседки с веничком в руке: «Какая вам, гражданин, выгода будет из всего этого?» Я спросил Полину Александровну, где порошок, о котором упоминает в своем письме ее брат Андрей. Хорошо бы сделать химический анализ. — Не знаю, — произнесла она с горечью и болью в голосе, — не знаю, где порошок. Чужие люди обшарили лабораторию, искали, всё пересмотрели, но не нашли никаких порошков. С наивной беспомощностью она стала перебирать пальцами бахрому салфетки на небольшом столике и с грустью смотрела в окно, за которым уже разгорался летний день. И вдруг точно вспомнила: — Да, одну записку Сергея Сергеевича я никому не показывала. В последний раз я видела Сергея Сергеевича в субботу вечером… Я слушал внимательно, не перебивая, и, только когда рассказ кончился, понял, как много в нем связано с этой запиской. — …Я зашла к Сергею Сергеевичу с горничной Дуняшей, чтобы передать книги, которые у него взял брат и не успел сам занести перед отъездом. И, когда мне было пора идти домой, он вдруг задумался, взял скрипку и запел «Буря мглою небо кроет». Он всегда был задумчив, у него было большое грустное сердце. Но в этот вечер улыбка и взгляд были радостны. Я стала подпевать. Музыка захватывала его все больше и больше. Где-то далеко прогрохотал гром. На небе собирались тучи. Мне надо было поскорее вернуться домой. Но я не решалась прервать скрипку. Сергей Сергеевич все играл и играл. Гром ударил совсем близко. «Барышня, барышня! — вбежала моя горничная. — Я вам из дому зонтик, калоши и шаль принесла». Думчев опустил скрипку. Я поспешно попрощалась, просила не провожать меня. Он сказал, что всю ночь будет играть. Мы с Дуняшей побежали домой. На повороте улицы, под дождем, я оглянулась. В последний раз! Ах, какая гроза была! Ливень… Я слушал Полину Александровну и припоминал голос, прерываемый кашлем, там, в поезде… «Помню, большая гроза была. С ливнем. И вдруг скрипка… совсем близко стала слышна». — Ночью дождь то стихал, переставал, то снова начинал лить. Дул ветер. Деревья шумели под окном. Все в доме рано легли спать. Задремала и я. Вдруг слышу тихий частый стук в мое окно. Прислушалась. Стук по стеклу повторился. Кто-то стучал все настойчивее. Собака на дворе было залаяла. Сразу же стихла, заскулила под окном — словно знакомого узнала. Я подбежала к окну. Прильнула лицом к стеклу. Приставила ладони. На меня сквозь мокрое стекло смотрят знакомые глаза: Сергей Сергеевич! Я вскрикнула. Тут Дуняша со свечой вбежала из другой комнаты: «Барышня! Барышня! Что с вами?» «Ничего, иди спать!» — ответила я. Она ушла. Я распахнула окно. Тревожно и глухо шумел за окном мокрый сад. Дождь шел все сильнее. И мне почудились чьи-то тяжелые удаляющиеся шаги. Это был Думчев. Он, наверное, приходил к моему дому, хотел что-то передать; но не посмел, а Дуняша со свечой спугнула его. Наступило утро, серое, туманное. Небо не прояснялось. И было странно слышать, как весело чирикают мокрые воробьи. И я увидела под моим окном на сырой земле след. Он был полон воды. Я сразу послала Дуняшу к Сергею Сергеевичу. Она вернулась и говорит: «Пропал наш доктор!» А в городе уже пошли нехорошие слухи. Говорили, что доктор утонул и даже одежду нашли. Как-то, проходя через кухню, я увидела, что Дуняша разжигает какой-то бумажкой лучину для самовара. Мне бросился в глаза знакомый почерк… Я выхватила, затушила, расправила скомканную обгоревшую бумагу. Да, это был почерк Сергея Сергеевича. Легкомысленная Дуняша не смогла толком рассказать, где и как она взяла бумажку. Полина Александровна подошла к дубовому резному шкафчику с опускающимися и поднимающимися решеточками, собранными и составленными из хорошо отполированных планочек — свидетельство неторопливой мысли столяров девятнадцатого века, — и стала что-то искать. — Я ищу, все ищу, — говорила она, — и все никак не найду. Где же она, где эта записка?.. Ах, вот она! Бережно и осторожно положила она на стол бархатную папку, открыла ее: — Читайте! На обгорелой бумаге я прочел следующее: «Глубокоуважаемая Полина Александровна! На время вынужден уехать. Прошу Вас, зажигайте по вечерам лампу с рефлектором в моей лаборатории… читайте… Дарвина и Фабра». Все тот же почерк: на всех записях в лаборатории, на листках, прочитанных под микроскопом, и на обгорелой потускневшей бумажке. И, чем внимательнее я всматривался в разрозненные слова, тем больше овладевало мной тревожное чувство, тяжелое беспокойство. Эти отдельные слова, едва уцелевшие от огня, такие заброшенные и одинокие, придвинули меня к судьбе того неизвестного человека, который когда-то вложил в них столько надежд. Что с ним случилось? «На время вынужден уехать»… Может, он и не утонул? 1, 2, 3, 4 |
|||||||