 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Азимов Айзек :: Толстой Лев Николаевич :: Раззаков Федор :: Горький Максим :: Сименон Жорж :: Чехов Антон Павлович :: Картленд Барбара :: Андреев Леонид Николаевич Популярные книги:: The Boarding House :: Дюна (Книги 1-3) :: Человек, который принял свою жену за шляпу :: Улики :: Полет :: Бессмертие человеческой личности как научная проблема :: Кот, который гулял под землей :: Созвездие Ворона :: Жонглер преступлениями :: Никто не любит Крокодила |
Майский деньModernLib.Net / Научная фантастика / Балабуха Андрей Дмитриевич / Майский день - Чтение (стр. 5)
Правда, на следующий день Стентон проснулся с заложенным носом, а к полудню уже чихал вовсю, словно нанюхавшийся перца кот. «За все надо платить, – улыбаясь, сказала Кора и принесла ему какие-то капли из аптечки. – Это – за грехи вчерашней ночи, капитан!» Стентон долго пытался понять, что именно имела она в виду. Как давно это было! И как нужно это было бы не тогда, а сейчас, сейчас! Впрочем, нет – и тогда и сейчас. Пожалуй, только теперь Стентон понял, насколько нужна ему Кора и что страх потерять дирижабль – в значительной степени страх потерять ее. Если бы можно было сейчас встать и пойти к ней! Но именно теперь этого нельзя. Ни в коем случае. После того, что он сегодня сделал, это было бы похоже на предъявление счета. В дверь постучали. – Да, – сказал Стентон. Дверь приоткрылась, бросив в каюту треугольник желтого электрического света. – Можно, капитан? Кора! До чего же нелепо устроен человек: тосковать, мечтать увидеть, увидеть хоть на миг, а когда этот миг приходит – не знать, постыдно и глупо не знать, что делать!.. – Да, Кора, – как можно спокойнее сказал Стентон. – Прошу. Кора вошла, беззвучно закрыв за собой дверь. – Сумерничаете, Сид? – Да. Сижу, смотрю. Красиво… Сейчас зажгу свет, – спохватился он. – Что-нибудь случилось, Кора? – Не надо света. И не случилось ничего. Просто мне захотелось немного посидеть с вами. Не возражаете, капитан? Сколько нежности может быть в одном человеческом голосе! У Стентона перехватило дух. Сколько ласки может быть в человеческом голосе… Одном-единственном. Ее голосе. – Конечно, можно, – сказал он. – И пожалуйста, Кора, не называйте меня больше капитаном, хорошо? Какой я капитан… Кора села на диван. Их разделял теперь только угол стола. Стентон пытался разглядеть, что на ней надето, – явно не форма, – но для этого в каюте было слишком темно: луна поднялась уже так высоко, что лучи ее не попадали в каюту; прямоугольник окна слабо светился, но не освещал. – Сид, – сказала Кора после минутного молчания, – я хочу поблагодарить вас, Сид. И не думайте, что я такая уж стерва. Если я приняла вашу помощь… вашу жертву… то не потому, что считаю это естественным. То, что сделали сегодня вы, – это не помочь даме выйти из машины. Я знаю. Но… поймите меня, Сид! Ведь, в сущности, вы очень мало обо мне знаете. Пожалуй, я знаю о вас и то больше. Знаю, что вы начинали почти с нуля. Знаю, как добивались приема в Колорадо-Спрингс. Но… нас с вами нельзя равнять. Вы – американец. Англосакс. Вы – Сидней Хьюго Стентон. А я – Кора Химена Родригес. Понимаете – Родригес. Пуэрториканка. «Даго». Такие, как вы, всегда лучше нас – потому уже, что их предки прибыли сюда на «Мэйфлауэре». Не знаю только, как «Мэйфлауэр» смог вместить такую толпу… А вы знаете, каково это – быть «даго»? Паршивым «даго»? А быть девчонкой-«даго» еще хуже… Да, я пробилась. Просто потому, что однажды попала на обложку журнала – фотографу чем-то понравилось мое лицо. И благодаря этому мне удалось устроиться в «Транспасифик» стюардессой. Через три года я стала старшей. И дальше я пойти не могла. Если бы не эти неожиданные курсы суперкарго для дирижаблей – кем бы я стала? И кем я стану, если потеряю то, чего достигла? А вы – вы всегда сможете добиться своего. Вы достаточно сильны, Сид. И – полноправны. Теперь вы понимаете меня? – Да, – сказал Стентон. – Понимаю. Но благодарить меня не надо. Я сделал так, как считал нужным. Я не знал всего того, что вы рассказали, но это не важно. Я только хочу, чтобы вы поняли – я… – Он замолчал, подбирая слова, но Кора не дала ему продолжить. – Не надо ничего объяснять, Сид. Я ведь не дура. Стентон встал. Разговор явно зашел куда-то не туда, и теперь непонятно было, как же его кончить. – Я знаю, – серьезно сказал он. Кора тоже поднялась. Теперь они стояли почти вплотную. – И еще одно, Сид. Я пришла не только поблагодарить вас. Я пришла к вам. На сегодня или навсегда – как захотите… Так, наверное, чувствуют себя при землетрясении – земля качается и плывет под ногами, сердце взмывает куда-то вверх, к самому горлу, и нет сил загнать его на место… Стентону не нужно даже было идти к ней – он только протянул руки и обнял Кору. И так было бесконечно долго, пока где-то на краю сознания не всплыл тот давний день, и Стентон отчетливо услышал веселый голос Коры: «За все надо платить, капитан!» Он резко отстранился. – За все надо платить, Кора? – спросил он с сухим смехом, разодравшим ему гортань. Он закашлялся. Мгновение Кора стояла, ничего не понимая. Потом вдруг поняла. – Ка-акой дурак! Боже, какой вы дурак, Сид! Хлопнула дверь, и Стентон остался один. Он подошел к окну и прижался лбом к стеклу. Броситься за ней, догнать, вернуть! Но сделать этого он не мог. И знал, что никогда не простит себе этого. Стентон подошел к туалетной нише, открыв кран, сполоснул лицо. Потом закурил и довольно долго сидел, глядя на мертвые циферблаты контрольного дубль-пульта над столом. Почему так? Если с тобой происходит что-то на море или в воздухе, то стоит отстучать ключом три точки, три тире и снова три точки, стоит трижды крикнуть в микрофон «Мэйдей!» – и все сразу придет в движение. И если можно сделать хоть что-то, если есть хоть один шанс на миллион, чтобы выручить тебя из беды, – будь уверен, что этот шанс используют непременно. Но когда приходит настоящая беда – беда, горше и больнее которой для тебя нет, кто поможет тогда? Кому ты крикнешь «Мэйдей!»? Кому кричать «Мэйдей!»? Стентон встал и вышел из каюты. Дойдя до соседней, двери, он постучал: – Бутч! Полуодетый Андрейт впустил его в каюту. – В чем дело, Сид? – Бутч, ты хвастался на днях, что у тебя припрятана где-то бутылка ямайского рома. Какого-то невероятного и исключительного. Он еще цел? – Цел. Старый ром, двадцатилетней выдержки. – Давай. – Он обошелся мне в тридцать монет, Сид. Стентон достал бумажник и отсчитал деньги. Бутч отошел к шкафчику и извлек из него пеструю картонную коробку. – Держи. В оригинальной упаковке. Если нужно еще что-нибудь… – Нет, – сказал Стентон. – Спасибо, Бутч. Спокойной ночи. Он вернулся к себе. Достав из бумажника салфетку с записанным телефоном, он проверил, подключен ли селектор дирижабля ко внутренней сети Гайотиды, и набрал номер. Трубку долго не снимали. Стентон уже собирался дать отбой, когда голос Захарова на том конце провода произнес: – Захаров слушает. Стентон назвал себя. – Вы предложили мне гостеприимство, товарищ Захаров. Разрешите воспользоваться им? И вашим чаем по-адмиральски. Ром я принесу – ямайский, двадцатилетней выдержки, в оригинальной упаковке. – Добро, – сказал Захаров и стал объяснять, как найти его квартиру. Положив трубку, Захаров с кряхтеньем встал с постели. Вот и выспался, подумал он, ну да ничего, завтра отосплюсь. В самолете. На часах было двадцать два десять – значит, лег он полчаса назад… Захаров улыбнулся, быстро оделся, поставил на электрическую плиту чайник и принялся убирать постель. XI Едва баролифт, закачавшись, стал на дно, Аракелов сравнил показания внешнего и внутреннего манометров. Все в порядке: давление внутри было чуть-чуть выше наружного. Он нажал кнопку замка, и диафрагма люка начала раскрываться. Аракелов был уже наготове: пригнувшись, он оперся руками о закраины горловины, чтобы, едва отверстие достаточно расширится, одним толчком («Трап – для умирающих батиандров», как говаривал старик Пигин) бросить тело вниз, в темноту. И вдруг он понял, что привычной темноты нет. Снизу, из люка, шел ровный, холодный, рассеянный свет, и это не был свет прожекторов. Диафрагма раскрылась полностью, и Аракелов увидел уходящие вниз металлические ступеньки трапа. На одной из них сидел… сидело… Нет, не осьминог. И не кальмар тоже. Скорее, что-то среднее между ними – ярко-оранжевое бесформенное туловище удобно устроилось на ступеньке. Два огромных круглых глаза в упор смотрели на Аракелова, и в них читалось откровенное ехидство. Восемь ног спускалось вниз, и существо болтало ими в воде – ни дать ни взять, мальчишка, сидящий на мостках у реки. А в двух длинных ловчих щупальцах был зажат стандартный ротный спаренный лазер образца двадцать первого года. Стволы его смотрели прямо в грудь Аракелова. «Опять струсил?» – спросило чудовище, и Аракелов ничуть не удивился – ни тому, что оно говорит, ни тому, что говорит оно голосом Жорки Ставраки. «Нет, – сказал он, спрыгнул в воду и, отведя ствол лазера в сторону, примостился рядом с чудовищем. Ему было весело. – Маска, маска, я тебя знаю». «Ну и знай себе. Ведь ты же не пошел…» «Я пошел. И сделал. Без меня «Марта» ничего бы не смогла». «Да, – по-свойски подмигнуло существо, и Аракелов впервые удивился по-настоящему: он никогда не слышал, чтобы спруты мигали. – Да, ты пошел – вторым. Вторым уже не страшно…» «Я пошел бы и первым». «Бы… Существенная разница. Ты просто испугался, дружок». «Нет. Я боялся, пока не знал. А когда узнал – перестал бояться. Я тебя знаю. И не боюсь». Спрут помолчал, играя лазером, потом насмешливо спросил: «А кто тебе поверит?» «Поверят, – ответил Аракелов, но прозвучало это у него не слишком уверенно. – А не поверят – плевать. Я-то знаю…» «Вот и расскажи это своим – там, наверху. Посмотрим, поверят ли они». «Поверят. Потому что знают меня. А я знаю тебя». «Не знаешь! – Чудовище расхохоталось. Смотреть на хохочущий роговой клюв было жутковато. – И никогда не узнаешь». Аракелов заметил, что оно стало как-то странно менять форму, расплываться. Так расплывается чернильное облачко каракатицы. «Знаю. Ты – сероводород. И мне на тебя наплевать». «Нет, дружок. Я – пучина. Сегодня я сероводород, ты прав. А завтра? Я сама не знаю, кем и чем буду завтра, как же можешь это знать ты?» «Ничего, – сказал Аракелов. – Теперь я тебя всегда узнаю. Всегда и везде». «Посмотрим, – хихикнуло облачко сепии, окончательно расплываясь, растворяясь в сгустившейся вокруг тьме. – Посмотрим… А пойдешь ли ты еще хоть раз вниз? Разве трусы ходят вниз? И разве их пускают сюда?..» «Пойду! – заорал Аракелов, бросаясь вперед, на голос. – Вот увидишь, пойду!» Он сделал мощный рывок, но голова уперлась во что-то жесткое, холодное, и он проснулся. Было совсем темно. Значит, проспал он долго и уже наступила ночь. Он лежал на боку, упираясь лбом в холодный пластик переборки. Хотелось пить. Аракелов повернулся и сел. И тогда увидел, что за столом кто-то сидит. Кто – разобрать было невозможно: из-за плотно зашторенного иллюминатора свет в каюту не проникал. Он протянул руку к выключателю. – Проснулся? – Это была Марийка. – Ты? Здесь? – От удивления Аракелов даже забыл, что собирался сделать. – Да… – В голосе ее прозвучала непривычная робость. – Понимаешь, мне нужно было увидеть тебя первой. До того, как ты увидишь других. Вот я и пришла. Аракелов ничего не понимал. Голова спросонок была тяжелой – может быть, из-за снотворного. Он протянул руку и нащупал часы. Поднес их к глазам: слабо светящиеся стрелки показывали почти полночь. – Ты не хочешь разговаривать со мной? – Сейчас, – хрипло сказал Аракелов. Он пошарил по столику: где-то здесь должен быть стакан с соком. Он всегда в первую ночь после работы внизу ставил рядом с постелью сок и, просыпаясь, пил. Это так и называлось: постбаролитовая жажда. Ах да, спохватился он, Зададаев… снотворное… Значит, соку нет. Но стакан неожиданно нашелся. Ай да Витальич! Кисловатый яблочный сок быстро привел Аракелова в себя. – Саша… – Марийка подошла, села рядом. – Ты не простишь мне этого, Сашка, да? – Чего? – не понял Аракелов. Он обнял Марийку и вдруг почувствовал, что плечи у нее мелко-мелко вздрагивают. – Да что с тобой? Марийка откровенно всхлипнула. – Я так и знала, что не простишь… – Ничего не понимаю. – Аракелов растерялся. Марийка подняла голову. – Значит, ты не знаешь? Тебе не сказали? – Да чего?! – Сашка, это ведь я… – Ты?! – Все сразу встало на свои места. Перед Аракеловым мгновенно возникла залитая солнцем палуба и Марийка, томно раскинувшаяся в шезлонге… «Мне надо в „Марте“ посидеть, на следующей станции она по моей программе работать будет». И зададаевские умолчания и увертки стали ясны. Эх, Витальич!.. – Значит, ты… – повторил Аракелов. – Да, – сказала Марийка. – Понимаешь… Это все так получилось… – Понимаю. – Аракелов отодвинулся от нее и оперся спиной о переборку. Ему было больно от обиды и обидно до боли. – Дух струсил, надо нос ему утереть. Понимаю. – Ничего ты не понимаешь! Я же люблю тебя, дурак! И знаю, что ты не струсил, не мог ты струсить! Это они гово рили, что ты струсил… – Они? – Ну да. Я в «Марте» сидела, люк был открыт, а они рядом встали… – Кто? – Жорка, Поволяев и еще кто-то, я их не видела, только слышала. И говорили, что ты струсил. Мол, батиандры со своей исключительностью носятся, подумаешь, дефицитная профессия, нужно им себя беречь для грядущих подвигов… А что человек погибает – ему наплевать, духу нашему… И в таком роде. – Та-ак, – сказал медленно Аракелов. – Ясно. – Это он предвидел еще внизу. – И я к ним не вышла. Понимаешь, не вышла. Сама не знаю почему. Побоялась, что ли? – Чего? – Не знаю. Я бы, наверно, им по рожам надавала. «Стоило бы, – подумал Аракелов. – Но это я могу и сам». – И что же ты сделала? – Когда они отошли, вылезла, поставила слип на авто спуск. Я видела, как это делают… – Ясно, – сказал Аракелов. В принципе, в этом не было ничего невозможного. Отмотать метров двадцать троса на барабан носовой лебедки «Марты», застопорить судовую лебедку, а потом помаленьку стравливать трос, соразмеряясь с опусканием слипа. Для опытного водителя это не представляло особого труда. Но как справилась с этим Марийка? Ведь опыта работы с «Мартой» у нее с гулькин нос… И как никто ей не помешал? Ведь слип скрежещет так, что только в баролифте не слышно! Конечно, когда «Марта» уже пошла к воде, остановить ее было бы нельзя, но до того? Куда смотрел вахтенный? «Мда-а, – подумал он, – дисциплинка… Пораспустил народ Ягуарыч…» – И никто тебя не остановил? – Нет… – Молодцы! – искренне восхитился Аракелов. На мгновение ему даже стало весело. – Хоть судно укради, не заметят, если есть о чем посудачить!.. Но на кой черт ты полезла? Зачем? – Затем, что я слышать не могла, как они про тебя… Понимаешь? Я уже все знала – и про патрульники, и про «рыбку». Я понимала, что ты там сидишь и думаешь… – Вот и не лезла бы. Лучше бы сама подумала… – Я и думала. Что тебе экспериментальные данные нужны. И что если даже «Марта»… не пройдет… Ты скорее сообразишь, что к чему. До Аракелова дошло не сразу: слишком уж нелепо это было. Нелепо, немыслимо, невозможно! – Дура! – заорал он, забыв, что уже ночь, что за тонкими переборками каюты давно уже спят. – Ты соображаешь, что говоришь? – Да, – тихо сказала Марийка, и Аракелов осекся. – И когда делала, тоже соображала. Только что все вот так получится – не сообразила. Аракелов обнял ее, прижал к себе, гладил по волосам, целовал мокрое от слез лицо, шею, руки… – Дура, – задыхаясь, бормотал он, – сумасшедшая, не нормальная… Что бы я без тебя делать стал, а? – А что ты будешь делать со мной? – печально спроси ла Марийка. – Ведь ты… Ты же мне не простишь. И прав будешь. – Ничего, – сказал он. – Это все ерунда. Понимаешь, ерунда. И прощать или не прощать я тебя не могу. Я ведь люблю тебя. Просто люблю и не могу ни винить, ни прощать. – Я им скажу, я им все скажу, слышишь? – Я им сам скажу, – пообещал Аракелов. – Это все не так страшно. Это все утрясется… Главное, что есть мы. Понимаешь – не ты, не я. Мы. Марийка благодарно улыбнулась – он понял это по изменившемуся голосу: – Спасибо, Сашка… Он еще долго сидел, обняв ее одной рукой, а другой бережно и легко гладя по волосам – до тех пор, пока по дыханию не понял, что Марийка уже спит. Тогда он тихонько встал, продолжая обнимать ее плечи левой рукой, и осторожно уложил Марийку на постель. Она все-таки проснулась. – Ягуарыч мне втык устроил… Поклялся списать. Вахтенным по выговору, а меня – на берег… Это, говорит, еще не все… Вот завтра утром разбор устроим… Там больше получите… Но мне все равно, понимаешь? Пусть спишут… Если ты меня в жены возьмешь… – Язык у нее заплетался. – Спи, – сказал Аракелов. – Пустяки все это. Спи, милая. Она и в самом деле уснула – на этот раз окончательно. Досталось же ей сегодня, подумал Аракелов. Он бесшумно оделся и вышел из каюты. Поднявшись на главную палубу, он прошел на нос и встал, опершись вытянутыми руками на планшир и глядя на фосфоресцирующие буруны, вскипавшие у форштевней. Да, подумал он, майский день, именины сердца… Океан был темным, почти черным; серебряные блики лунного света только подчеркивали его черноту. Он был бескрайним и бездонным. Таинственным. И где-то там, в глубине, скрывались его таинственные порождения – Великий морской змей, чудовище «Дипстар», чудовище «Дзуйио Мару»… Подумать только – еще утром Аракелову казалось, что найти их – единственная трудная задача в жизни. Это было каких-нибудь шестнадцать часов назад… Каким же еще мальчишкой он был тогда! А теперь… Марийка что-то сказала про завтрашний разбор… Значит, дошло до этого. Значит, завтра будет бой. Бой на ближней дистанции – как в старину. Что ж, равнодушно подумал Аракелов, бой так бой. Что еще остается? Благородно поднять флажный сигнал «Погибаю, но не сдаюсь» и благопристойно пойти ко дну… Пойдет ли он еще ко дну? Туда, вниз? Или прав был спрут из кошмара? И уже никогда не придется Аракелову войти в баролифт? Нет, подумал он, этого не может быть. Это может быть. Это очень может быть, трезво рассудил он. Пусть ты убежден, что был прав. Абсолютно прав. Пусть ты можешь с чистой совестью сказать: я сделал. Только поэтому живы водители четырех патрульных субмарин, тех, что шли на поиски погибших; только поэтому останутся в живых все те, кто не пойдет уже в сероводородные облака, ибо кто предупрежден, тот вооружен. Пусть поймут и поддержат тебя Зададаев, Ягуарыч – ведь не может не понять этого капитан, – Генрих и кто-то еще. Даже многие. Даже большинство. Но всегда найдутся и другие. Те, из-за кого могла погибнуть Марийка. И такие, как те. И возникнет слух – слух, который окажется сильнее любого официального одобрения. От него не спрячешься никуда: батиандров мало, очень мало, и друг о друге они знают всё. Даже будь их много, знать все друг о друге им необходимо: ведь пойти с человеком вниз можно лишь тогда, когда знаешь его до конца. Когда веришь ему, как себе. Больше, чем себе. А кто поверит теперь Аракелову? Да, конечно, он был прав, но говорят… И придется жить, ежедневно борясь с этим «говорят». Разве можно так жить? А ведь ему еще только тридцать два… Менять профессию? Уходить? Значит, проклятый оранжевый спрут был прав? Нет, решил Аракелов. Нет. Ни за что. Бой так бой. И чем скорее, тем лучше. Аракелов почувствовал, как рождается и крепнет в нем холодная, упрямая злость. Нет! Он еще будет внизу. Он еще поймает всех этих Великих морских змеев и чудовищ «Дзуйио Мару». Он еще спустит с них шкуру. Спустит шкуру, сделает сумочку и подарит Марийке. Аракелов поднял глаза к горизонту и увидел, как впереди, прямо по курсу, взошла звезда. Яркая, автоматически отметил он. Наверно, планета. Только какая? Внезапно звезда погасла, потом вспыхнула вновь. Снова потухла. И загорелась опять. И тогда Аракелов понял, что это. Это была не звезда. Это был лазерный маяк на вершине Гайотиды. 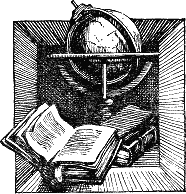 Примечания 1 Мастером на международном судовом жаргоне называют иногда капитана. 2 Радиотелефонный сигнал бедствия. Состоит из слова MAYDAY, повторенного три раза, и слова ici («здесь»). Полный аналог радиотелеграфного сигнала SOS. Иногда сигнал «мэйдэй» буквально переводят с английского, как «майский день», хотя подобное толкование неверно, как неверно и распространенное толкование сигнала SOS – «спасите наши души». На самом деле оба сигнала подбирались по удобному созвучию и сочетанию знаков азбуки Морзе. 3 Генеральный груз – разнородный груз, доставляемый в разные адреса. 4 ПУТЕК – Pacific Undersea Test and Evaluation Center – Тихоокеанский центр подводных исследований и измерений. 5 Гайоты – плосковершинные подводные горы, открыты Хессом во время второй мировой войны. 6 Фул-спит – полный ход. 7 Клер – открытый, незашифрованный текст. 8 Аппараты для глубоководного исследования делятся на автономные, то есть способные самостоятельно передвигаться под водой (например, батискаф), и макаемые – все время связанные с надводным кораблем (например, батисфера). 9 Семпер фиделис (Semper fidelis – лат.) – всегда верный. 10 ВВ – взрывчатые вещества; ОВ – отравляющие вещества. 1, 2, 3, 4, 5 |
|||||||