 |
|
Популярные авторы:: Грин Александр :: Борхес Хорхе Луис :: Раззаков Федор :: Чехов Антон Павлович :: Толстой Лев Николаевич :: Азимов Айзек :: Лондон Джек :: Горький Максим :: Сименон Жорж :: Громов Дмитрий Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Справочник по реестру Windows XP :: Галоши счастья :: Гость :: Похищенный кактус :: Десятое правило волшебника, или Фантом :: White Fang :: Жизнь, Вселенная и все остальное :: Рыжая звезда |
Мера времениModernLib.Net / Отечественная проза / Арабей Лидия / Мера времени - Чтение (стр. 2)
— Устала, доченька? — спросила Антонина Ивановна, подбирая и вешая Зоины пальто и шляпку. Прибрав все на место, она снова торопливо ушла на кухню.
— Садись к столу, детка. Миша, бросай газету, обедать будем, — на ходу говорила она. Михаил Павлович отложил газету, подошел к буфету, забренчал тарелками. Он был в военной гимнастерке без погон и без пояса, в пижамных штанах и домашних шлепанцах. В когда-то красивых и кудрявых его волосах с каждым годом прибавлялось седины, и сами они словно бы отступали, все сильнее оголяя лоб. И хотя были они совсем разные — этот пожилой человек и юная, свежая, стройная девушка, но если внимательно присмотреться, можно было увидеть, как похожи они друг на друга. Эти чуть-чуть раскосые глаза Зоя получила в наследство от отца. Красиво очерченный рот тоже был отцовский. Зоя вымыла руки, причесалась, села к столу. — Ну, как там твои балансы? — ставя перед дочерью тарелку, спросил Михаил Павлович. — А ну их, — махнула рукой Зоя, взяла кусок хлеба, откусила. — Не получается? — из кухни спросила Антонина Ивановна, услышав их разговор. — Просто невыносимо, — чуть не со слезами ответила Зоя. — Ничего, дочка, научишься. Не сразу, конечно, — тоном, которым говорят с малышами, сказал Михаил Павлович. — И вообще работка, — говорила Зоя. — Восемь часов не разгибая спины… А глаза как болят… Ослепнуть можно… — Так, может, бросай, доченька, — нерешительно сказала Антонина Ивановна, останавливаясь около Зои. — Если трудно, так бросай. Что ж ты будешь надрываться. Еще и правда глаза испортишь… Зоя молча склонилась над тарелкой. Молча ел и отец. Села за стол и Антонина Ивановна. — Свет клином не сошелся на этом заводе. Найдем другую работу, — сказала она, берясь за ложку. — Но работать надо всюду, — заметил отец. — И всюду восьмичасовой рабочий день. — Мишенька, но надо ли ей слепнуть на этом, часовом? — умоляюще посмотрела Антонина Ивановна на мужа. — Другие же работают, и ничего… Сами ведь решили, что этот завод для Зои наилучший. Не так-то легко было устроить ее туда. А на другом, может, еще труднее будет. — Так не обязательно же на завод… Можно секретаршей куда-нибудь… — Это не профессия, — отставил тарелку Михаил Павлович. — Ничего, Зойка, — повернулся он к дочери. — Не вешай носа. Научишься. Не боги горшки обжигают. А работать, брат, всюду нелегко, — он похлопал ее по плечу. После обеда Зоя лежала на диване, смотрела в потолок и думала: «Неужели теперь так будет всю жизнь… Каждый день на работу, каждый день эти «волоски» да «балансы». И научусь ли я когда-нибудь делать так ловко, как Реня… А если и научусь… Все равно всю жизнь одно и то же, одно и то же… и так навсегда». Зоя глянула на свои маленькие часики, но уже сам их вид не принес ей обычной радости. Она увидела не красивый циферблат с позолоченными стрелками, а, кажется, сквозь стекло и весь корпус часов маячил перед нею в вечном своем движении баланс, наводя тоску и уныние. Когда-то, еще в школе, Зоя мечтала о собственных часах: стоит только захотеть — отогни рукав и глянь, который час. На уроке в любую минуту можно узнать, сколько осталось до звонка. Думала ли она когда-нибудь, что будет работать на часовом заводе, сама будет собирать часы и так их невзлюбит. И просто удивительно, что Реня может восхищаться такой работой. И не устает она ничуть. И глаза у нее не болят… Может, у Рени талант, а у нее, у Зои, его нет? Но ведь не одна Реня работает в цехе. Там больше трехсот девушек, что же, у всех талант, только у нее нет? Вероятно, без таланта еще и Инна Горбач, которую сегодня девчата ругали, что стрелки неаккуратно поставила. Если ругает начальство, это хоть и неприятно, но еще куда ни шло. А вот когда ругают свои же подруги… Наверно, хуже не бывает. А может, и правда бросить завод, как мама говорит. Зоя и сама уже тайком думала об этом, но почему-то ей становилось неловко. Стыдно было бросать завод, так мало поработав, да и вообще, можно сказать, не работав. Она же пока еще только ученица. Да и папа, видно, не обрадуется. Станет подшучивать, а то и корить… Настроение у Зои было плохое. Ей даже не хотелось вставать и идти в общежитие. А Реня с Валей и Любой сегодня пригласили ее пойти с ними в кино. И все же Зоя встала, подошла к шкафу. И как только взяла в руки новое платье, сразу повеселела. Она долго стояла перед зеркалом, разглядывая себя, поправляя то воротник, то поясок. Несколько раз меняла прическу. Зоя нравилась сама себе. «Красивая я, а это, в конце концов, для девушки самое главное», — думала она. — Куда же ты, доченька? — спросила Антонина Ивановна, заметив Зоины сборы. — Так… К девчатам пойду… Может, в кино сходим, — надевая пальто и все еще поглядывая в зеркало, сказала Зоя. — Сходи, сходи, доченька, — поддержала мать. Она вышла из кухни с тарелкой в руках и полотенцем через плечо. Вытирая тарелку, она глядела на Зою, словно на больную, желаниям которой сам бог велел потакать, только бы повеселела. — Но смотри, не гуляй поздно, — бросила уже вдогонку Зое, провожая ее невеселым взглядом. Михаил Павлович стоял у письменного стола, перебирая в ящике какие-то бумаги. Он писал воспоминания о своей боевой жизни. Это было что-то вроде мемуаров. Михаил Павлович участвовал в боях у озера Хасан, был на финском фронте. Со Вторым Белорусским дошел до Берлина. Сейчас Михаил Павлович считал своим долгом рассказать об этих боевых походах молодежи. Работа у него не очень клеилась. Сердце переполняли чувства, голову — мысли, но стоило взяться за перо, как мысли куда-то исчезали и на бумаге появлялись невыразительные фразы, совершенно не передававшие того, о чем думал и что чувствовал бывший полковник. Как только закрылась за Зоей дверь, Антонина Ивановна подошла к мужу и порозовевшей от горячей воды, еще немного влажной рукой тронула его за локоть. — Что же нам делать с ней? — показала она на дверь глазами. Михаил Павлович посмотрел на жену. Глаза его были спокойны, даже как будто веселы, и Антонина Ивановна сама сразу повеселела. И все же ей хотелось убедить мужа, что у нее есть основания для беспокойства. — Вот ты улыбаешься, Миша, — сказала она, — а ребенок страдает. Так ей, бедняжке, тяжко. Ты посмотри, как она похудела за этот месяц. Михаил Павлович сложил бумаги, задвинул ящик стола. — Не поднимай ты паники, когда не надо. И не подсказывай ей, чтоб работу бросила. Избаловала ты девчонку. Не привыкла она к работе, вот ей и тяжело. Антонина Ивановна обиделась: — Как это я ее избаловала? — Ты не обижайся, Тоня, — мягко сказал Михаил Павлович, — но вот сама скажи, вымыла ли Зоя когда-нибудь пол, приготовила ли обед. Да она же у тебя дома палец о палец не ударит. Антонина Ивановна пожала плечами, сцепила руки. — Мишенька, а что же я стану делать, если Зоя начнет мыть полы и готовить?.. Зачем же вам тогда я?.. Ведь она училась, а сейчас вот работает… Так почему же я должна еще и дома заставлять ее что-то делать? А самой вылеживаться, что ли? — Вот в том-то и беда, — пряча от жены глаза, неуверенно сказал Михаил Павлович, — что с самого начала у нас пошло не так, как следует. — Ах, боже мой, — присела на диван Антонина Ивановна, — уж не собираешься ли ты меня упрекать, что всю жизнь я была только домашней хозяйкой… — В голосе жены Михаил Павлович уловил такую обиду, что пожалел о словах, вырвавшихся у него. Он поспешил утешить Антонину Ивановну. — Что ты, Тоня, — подошел к ней. — Ну неужели мы на старости лет станем обижать друг друга, в чем-то упрекать? Он провел ладонью по гладко причесанным волосам жены, в которых уже было очень много седых. — Разве я не старалась всю жизнь, чтобы все у нас было хорошо? — говорила Антонина Ивановна. — Или я враг своему ребенку? Хотелось, чтоб Зоечка росла счастливой. Хватит и того, что одного ребенка я потеряла. Могла ли я не отдать все, что у меня есть, единственной дочке? Михаил Павлович спохватился. Знал бы, куда повернется разговор, и не начинал бы его. Воспоминание о ребенке, отнятом у них войной, было тяжким воспоминанием. По опыту знал Михаил Павлович, что теперь жена не скоро успокоится. Вот уже она закрыла лицо ладонями, и он увидел, как потекли по ее пальцам слезы. Михаил Павлович обнял жену за плечи, она прижалась к нему и сказала жалобно: — Боже мой, сколько лет прошло, а как вспомню его, сердце разрывается. — Успокойся, Тоня, — гладил плечи жены Михаил Павлович. — Ты же знаешь, что слезами Шурика не вернешь. — Ой, Мишенька, — всхлипывала Антонина Ивановна. — Когда уж так мне его жалко, так жалко. Ведь он же у нас был бы совсем взрослый. А Михаил Павлович стоял, стиснув губы, смотрел на портрет в желтой рамке, висевший над книжной полкой. Оттуда глядел на него полными радости и беспричинного восторга глазами их первенец, их сын. Валя на часовом заводе оказалась случайно. Она приехала из Гродно в Минск поступать в институт. Хотела в медицинский, почему — сама не знала, может быть, потому, что туда поступала школьная подруга. Не прошла по конкурсу. Не долго думая, устроилась на часовой завод. — Хотя и не доктор, а в белом халате, — шутила она не раз. Люба приехала в Минск из Дубровны после десятилетки. Она не любила говорить о себе, но Любина мать, маленькая женщина с натруженными руками, часто приезжавшая к Любе, сидя с девушками в общежитии, бывало, рассказывала: — Вот же любит моя Любочка эти часы. Еще в школу ходила, а уже сама их чинила, хоть, ей-богу, никто ее не учил. Были у нас старенькие такие ходики, все время останавливались. Так Люба, бывало, сама и разберет их и соберет. Не каждый парень так умеет, — с нежностью поглядывала она на дочку, спокойно слушавшую материны рассказы. — А как только кончила школу — в Минск, говорит, поеду на часовой завод… К Любе часто заявляются из Дубровны — то родственники, то просто земляки. Не так давно приезжала бабушка и несколько дней прожила с ними в общежитии. Маленькая, сухонькая, она впервые была в большом городе. «Боюсь, детки, что помру скоро, так перед смертью захотелось столицу нашу повидать, на Любочку еще разок глянуть, — говорила бабка. — Дочка не пускала, так я упросила». Совсем уже старая, но удивительно живая бабка интересовалась всем. Осмотрела газовую плиту на кухне общежития и сама попробовала ее зажечь. Ходила по коридорам, заглядывала в другие комнаты и все качала головой, цокала языком. Девушки покатали бабку по городу на такси. Долго, неумело и суетясь, бабка устраивалась в машине рядом с шофером, потом важно сложила руки, придала лицу серьезное выражение, затихла. Но очень скоро вся важность с нее слетела. Она поминутно оглядывалась, ойкала от восторга, и глаза ее сияли, как у дитяти. — Вот покаталась сегодня, — говорила она вечером. — Сам наш пан никогда так не ездил. Да что пан! Коня в бричку запряжет и доволен, сидит — крюком носа не достанешь Увидел бы, как его бывшая батрачка на этой, как ее, «Волге», каталась, в земле бы перевернулся! Бабка пила чай с девушками, угощала их вареньем, привезенным из Дубровны. — Ешьте, детки, ешьте, — приговаривала она, вынимая все новые банки и баночки. — Очень вы хорошие и очень вы мне угодили. Теперь и помирать можно, хоть и не хочется, детки, ой как не хочется! — Да вы, бабуля, еще долго проживете, — успокаивала ее Валя. — Еще Любу замуж отдадите, правнуков дождетесь. — Дай бог, дай бог, — кивала головой бабка. — А какие это вы часы здесь делаете? — допытывалась она после того, как чай был выпит и посуда убрана со стола. — Будильники, может? Или те, что на стенках висят? — Разве ж ты, бабуля, до сих пор не знаешь, что мы делаем ручные часы, женские? — с укором сказала Люба. — А кто ж его знает какие, детки… Знаю, что часы, — оправдывалась бабка. — Вот такие часы, вот, — показала ей Валя свои часики. — Ох, красивые, — разглядывала бабка, осторожно поворачивая их в своих огрубелых от работы пальцах. — И много вы их делаете? — Несколько тысяч в день! — Матушки святые! — удивилась бабушка. Она отдала часы Вале, глянула на Ренину, на Любину руки, где поблескивали такие же. — То-то я гляжу, что почти у каждой, даже нашей деревенской, часы… А когда-то, — бабка оперлась щекой на руку, — на всю Дубровну у одного Парфена часы были, да и те стояли. На те часы вся деревня смотреть ходила, как на чудо какое. Бывало, еще до той войны, я еще в девках ходила, соберемся у Парфена, и он давай рассказывать, как когда-то рассказывал ему его дед, а тому еще его дед рассказывал, что когда-то у нас в Дубровне часы делали. Целая фабрика была. Делали часы и царю отсылали, а потом царю не занравилось, что далеко от него та фабрика и что не может он сам командовать, чтоб больше часов делали. Тогда погнали его прислужники ту фабрику ближе к царю, а по дороге она затерялась. — Ну, это, бабушка, ваш Парфен уже сказки сочинял, — засмеялась Валя. — Не могло так давно, как вы говорите, быть фабрики в Дубровне. — Кто ж его знает, детки, может, и сказки. А только с чего человеку врать? Он тогда уже старый был, уважали его все. И часы те, такие круглые, с толстым стеклом, что у него в сундуке лежали, говорил, с той фабрики. А так оно было или не так — кто ж его знает. Давно уже ни Парфена нету, ни тех часов. Парфена еще той войной убили, а часы, кто их знает, куда подевались, может, дети растрясли. — Это очень интересно, то, что вы рассказываете, — поддержала бабку Реня. Она слушала старушку очень внимательно. — И если не все здесь правда, то доля истины должна быть, такие легенды на пустом месте не рождаются. Бабкин рассказ запал Рене в память. Через какое то время она заказала в библиотеке книги по часовому делу, в них оказались сведения, о которых она до сих пор и понятия не имела, на техминимуме о том и речи не было. А в одном очень старом справочнике она отыскала очень любопытный факт. Оказывается, не сказки рассказывал своим односельчанам дядька Парфен. И в самом деле в 1784 году в Дубровне была открыта первая в мире часовая фабрика и первая в мире школа часовых мастеров. Реня с интересом вчитывалась в скупые строчки справочника. Еще в восемнадцатом веке в Дубровне делали часы не хуже, чем делал их знаменитый французский мастер Брегет. Имя Брегета сохранилось в истории, даже Пушкин упоминает о нем в своем романе «Евгений Онегин», а о том, что не в Германии, не во Франции и не в Англии, а в Белоруссии, в селе Дубровно, еще в 1784 году была первая в мире часовая фабрика и первая в мире школа часовых мастеров — об этом почему-то можно узнать только из скупых строчек справочника. Почему именно в Белоруссии, в глухом ее углу, была открыта эта фабрика? А почему Швейцария, страна зеленых лугов, по которым бродят стада породистых коров и которая, казалось бы, должна заниматься только производством масла да сыра, почему Швейцария одно время занимала первое место в мире по производству часов? Все часы, производимые в Дубровне, отправлялись в Петербург, к императорскому двору. Там ими и распоряжались. Распоряжались там не только часами, но и людскими судьбами. Кому-то из высокопоставленных особ пришло в голову перевести фабрику в одно из подмосковных сел. Туда же перевели и школу часовых мастеров. Тяжким был путь мастеров пешком через многие сотни километров. На телегах везли только хлеб да оборудование фабрики. Прибыли в чужое село, а там и крыши над головой не оказалось. В каком-то хлеву, стоявшем на околице, обосновались новоселы. Чего то ждали. Берегли привезенное с собою добро — оборудование фабрики. Утешались слухами, что сам царь заботится о них, что из Москвы уже вышел обоз с провиантом и новым инструментом для фабрики. Не дождались того обоза. Съели хлеб, привезенный с собою из Дубровны, и стали понемногу разбредаться. Кто обратно в свою деревню подался, кто к местным помещикам в крепостные угодил, а некоторые канули неизвестно куда. Так и распалась фабрика, и не стало с того времени в России часов собственного производства. Да и не сильно это тревожило высокопоставленных особ. «Отечественное производство, — рассуждали, — дело очень ненадежное, куда проще пользоваться работой заграничных мастеров». Так перед Реней раскрывалась история часового дела в нашей стране. До самого Октября не было в России часов собственного производства, даже те «луковицы», на которых по-русски было написано «Павел Буре» и которые на массивных золотых цепях носили купцы, даже те «луковицы» делались заграничными капиталистами, имевшими свои фабрики в России. И только после Октября появились первые отечественные часы, которые правильно показывали время, но вместе с тем они показывали и то, насколько мы еще отстаем от других государств. И догнали… И перегнали… И по качеству, и по количеству, как говорится. А делают их молоденькие девушки, такие, как Реня, как Валя, как Люба. А в Любином сердце, быть может, бьется кровь тех мастеров, что жили когда-то в Дубровне, что ушли со своей фабрикой в белый свет и не вернулись, оставив свой талант потомкам. Третий год работают Реня, Люба и Валя в одной бригаде, а в этом году упросили, чтоб их поселили в одной комнате. И теперь еще крепче сдружились. Стол был накрыт для гостей. В центре — глубокая тарелка с традиционным для всех молодежных вечеринок винегретом, на маленьких тарелках — нарезанное тонкими ломтиками розовое сало и домашняя колбаса: очень кстати прислали сегодня Любе из деревни посылку. В доказательство Валиных кулинарных талантов выставила соблазнительно поджаристый бок какая-то довольно крупная рыбина. За бутылками с нарзаном и лимонадом стыдливо, будто догадываясь, что не место ей здесь, в женском общежитии, пряталась бутылка водки, немного смелее выступали вперед бутылки с вином. Сегодня Рене исполнилось двадцать лет. — Подумать только, девочки, — говорила подружкам Реня, — так много! Целых двадцать! — Много, — соглашалась девятнадцатилетняя Люба. — Много, — соглашалась и Валя, которой тоже недавно исполнилось двадцать. Валя сидела на своей кровати, забросив на тумбочку ноги в модных светлых туфлях. Люба ходила вокруг стола, раскладывая возле тарелок бумажные салфетки и бросая неодобрительные взгляды на Валю. Ей не нравилась Валина поза. «И вообще, эта Валя, — думала Люба, — очень несерьезный человек. Вечно с фокусами и минуты не посидит спокойно. Вот и сейчас: закинула ноги на тумбочку». — Как ты сидишь и не стыдно тебе? — не выдержала Люба. Она постоянно, как могла, воспитывала Валю. — А тебе жалко, что я так посижу? — притворно обиделась Валя. — Некрасиво же так! — Это я хочу проверить, как сидят американцы, — объяснила Валя. — Но вообще-то неудобно… Спина заболела, — поморщилась она и одним махом сбросила ноги с тумбочки, опустила на пол. — Вот так, — поучающе сказала Люба. — Лучше по-человечески сядь. Реня прислушивалась к незлобивой перепалке подруг и в душе улыбалась. Она любила и ту и другую, и Валино неудержимое озорство, ее веселые безобидные шутки, и Любину спокойную деловитость, рассудительность, строгость. В дверь постучали. — Почта, телеграмма, — объявила Валя, сидевшая дальше всех, но быстрее всех подоспевшая к двери. — Тебе, Реня! — От Юры, — вся засветилась Реня. Пока она расписывалась в книге почтальона, Валя уже развернула телеграмму и стала читать вслух: — Поздравляю!.. Целую!.. Умираю! — Давай сюда, — протянула руку к телеграмме Реня. — А ты потанцуй, — спрятала Валя телеграмму за спину. — Отдай телеграмму, не дури, — строго проговорила Люба. — Не можешь без своих штучек. Валя глянула на Любу, вздохнула и отдала Рене бумажку с наклеенными полосками телеграфной ленты. Реня так и впилась глазами в бледно напечатанные строчки. В дверь снова постучали. Это уже собирались гости. Пришли Женя и Володя. Женя — высокий, светловолосый, в черном костюме и белоснежной рубашке — выглядел таким франтом, что девчата прямо ахнули. — Женечка, ты, наверно, на дипломатический прием собрался, да заблудился, — смеялась Валя. И Володя был в новом костюме, сером с синей искринкой, но что бы ни надел Володя, все сидело на нем мешковато. А в новой одежде он чувствовал себя особенно неловко. Володя был рад, что девушки все внимание обратили на Женю и не очень присматриваются к нему, но все равно краснел хотя бы потому, что пришел в гости в девичье общежитие. Несмело постучал кто-то еще. Это появилась Зоя. — Молодец, не опоздала, — похвалила ее Реня. Нет, все-таки она не могла понять, откуда у нее такая теплота к этой девушке. Почему ей так приятно ее видеть? А Зоя сегодня выглядела тоже хорошо. На ней было платье из блестящей синей ткани, короткая юбка которого напоминала цветок колокольчика. Тонкую талию перетягивал широкий белый пояс. На ногах белые, под цвет пояса, туфли на шпильках. — Познакомься, Зоя, — подвела ее Реня к ребятам. — Это наш электротехник Женя. Тот самый Женя, который ублажает нас музыкой. — Сегодня целый день ставил грустные пластинки, наверное, давно не получал писем от жены, — вставила Валя. — А это — Володя. Ты его видишь каждый день, но, наверное, не знаешь, что он у нас руководит туристским кружком. Сейчас он немного освоится и начнет тебя вербовать в туристы. Пришли еще ребята и девушки. Тоненькая чернявая Катя Белякова и Олег — невысокий, с черными усиками. — Это наше конструкторское бюро, они придумывают новые модели часов, — представила их Реня Зое. Хозяйка пригласила всех за стол. Зоя оказалась между именинницей и Женей. Налили рюмки. — За здоровье именинницы! — За твое здоровье! — За твое счастье, Реня! — зашумели веселые голоса. Немного спустя, когда слегка перекусили, для второго тоста слово попросил Олег. Его знали как записного шутника, и когда он встал, все заулыбались, наперед ожидая смешного. Валя так и стреляла в него глазами, уже готовая захохотать. — Вот вы тут улыбаетесь, а я хочу говорить о серьезном, — сказал он. — Реня, — он повернулся к хозяйке и слегка ей поклонился, — второй тост, насколько мне известно, полагается поднимать за родителей, которые вырастили именинницу. Но все мы знаем, что родителей у тебя нет, что выросла ты в детдоме. — Олег слегка запнулся, переступил с ноги на ногу. Все давно перестали улыбаться, внимательно и серьезно слушали, что будет дальше. — Но ты выросла очень хорошим человеком. На заводе работаешь, в институте учишься и товарищ замечательный. Так давайте выпьем за тех, кто тебя воспитал. Назови нам из тех людей кого захочешь, и мы выпьем за их здоровье! Все весело повернулись к Рене, поддерживая тост. А Реня сидела растерянная и не находила слов. — Наговорил, — пожала она плечами. — Уж такая я хорошая! Да и задачку задал — назвать кого-нибудь из чудесных людей… Их много было… Но если так, — наконец решила она, — давайте выпьем за Анну Владимировну. Никто не знал Анны Владимировны, но все дружно подняли рюмки за незнакомую женщину. Зоя впервые услышала, что Реня выросла в детдоме, и теперь с особым интересом и уважением посмотрела на нее. Зое казалось, что человек, который вырос в детском доме, должен быть не таким, как все. Она представляла себе таких людей постоянно печальными, несчастными. А Реня вовсе не такая. Красивая, веселая, она выглядела совершенно счастливым человеком. Наоборот, несчастной на какую-то минуту ощутила себя Зоя. «Как хорошо им всем, — подумала она. — Работать никому из них не трудно и жить в общежитии весело. А я… Имела ли я вообще право приходить сюда?..» Зоя опустила глаза. Это сразу заметил Женя. — Вам что, скучно? — спросил он. — Ну, я не допущу, чтоб моя соседка да скучала, — заявил он, доливая вина в Зоину рюмку. Женя пустился болтать с Зоей, шутить, и она постепенно ожила, а потом и вовсе развеселилась. Скоро отодвинули стол, включили радиолу и стали танцевать. Женя сразу пригласил Зою. Танцевал он превосходно, это стало особенно ясно, когда после него Зою пригласил Володя. Тот поминутно сбивался с такта, наступал на ногу и краснел, как девочка. Дальше Зоя танцевала только с Женей. Он все время стоял рядом, и стоило зазвучать музыке, как тут же брал ее за руку, и ей это очень нравилось, нравилось, что такой красивый, совсем взрослый и даже женатый парень выделил ее среди других. Несколько раз подходила Реня, спрашивала, хорошо ли ей, весело ли. И Зоя искренне отвечала, что ей хорошо, весело. Потом снова сели за стол. Снова пили вино, ели виноград, яблоки. Конструкторша Катя прикрыла глаза, откинулась на спинку стула и завела звонким голосом: Ой, березы да сосны, Партизанские сестры… Валя выбежала из-за стола, взяла гитару. Песню сразу подхватили. Пели хорошо, слаженно. Валя хорошо аккомпанировала. Было видно, что не в первый раз собираются друзья, не в первый раз поют эту песню. Только Зоя не знала слов и все никак не могла попасть в лад. Немного лучше пошло у нее, когда запели «Подмосковные вечера». Зоя смотрела на Олега, который сидел напротив и дирижировал хором. Он то поднимал ладони кверху, показывая, где взять выше, то опускал их вниз, веля петь потише. Когда Зоя фальшивила, он грозил ей пальцем. 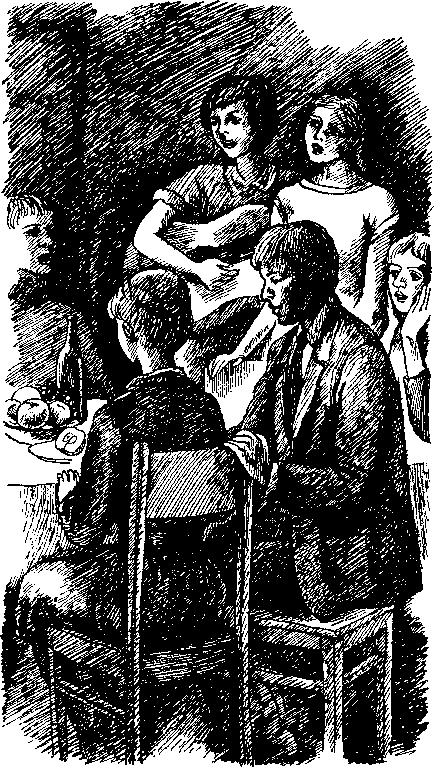 Вдруг Зоя почувствовала, что на плечи ей легла рука. Рука была Женина, она сразу догадалась, хотя не поворачивалась и не видела его. Стол и все, кто сидел за ним, на мгновение куда-то уплыли. Потом все снова вернулось на место. Словно откуда-то издалека возвращалась и песня. А Женина рука лежала на ее плечах — тяжелая, теплая, приятная. «Не видит ли кто-нибудь? Надо сбросить его руку, нехорошо так», — подумала Зоя и слегка повела плечом. Но Женя не убрал руку, наоборот, кажется, еще сильнее прижал ее к плечу. И Зоя больше не сопротивлялась. Только запела громче, словно голосом своим хотела отвлечь внимание от Жениной руки, показать, что ничего особенного с нею не происходит. «Но ведь он женат», — на какой-то миг спутала слова песни тревожная мысль. Но слово «женат» совсем не подходило Жене — такому молодому, красивому и хорошему, и Зоя перестала об этом думать. Ей хорошо — и пусть. Она не собирается отбивать его у жены. Хотя час был поздний, Антонина Ивановна не спала. Она отперла Зое дверь, спросила, не хочет ли дочка есть. — Что ты, мамочка, я же в гостях была, — засмеялась та. Лежа в своей мягкой, теплой постели, Зоя вспоминала сегодняшний вечер. В ушах еще звучала музыка, звенели песни. Она так и видела перед собою веселые лица Вали, Любы, Рени, Володи. Но чаще всех вставали перед нею глаза Жени, которые с таким вниманием следили за нею весь вечер. Женя провожал ее домой. Они шли по притихшему ночному проспекту. Изредка их обгоняли полупустые троллейбусы, временами мелькал зеленый огонек такси. Но скоро они свернули с проспекта, пошли малоосвещенной и, казалось, совсем уже уснувшей улицей. — Вы такая красивая, Зоенька, — говорил Женя, склонясь к ней и стараясь заглянуть в глаза. — Я сегодня как увидел вас, так прямо испугался, как бы не влюбиться… Женины слова сладко волновали. — Я намного старше вас, мне уже двадцать пять, и, поверьте, знаю, что такое случается не часто. Я уже очень давно не чувствовал того, что чувствую сейчас, — и он взял Зоину руку. Зоя осторожно высвободила пальцы. — Но ведь у вас… жена, — сказала она, как-то робко выговаривая слово — «жена». — Да, есть, я ни от кого этого не скрываю, — сказал Женя глуховатым голосом. Зое показалось, что он чего-то недоговаривает, и она вопросительно взглянула на него. В зеленоватом свете магазинной витрины лицо Жени показалось ей бледным и грустным, ей стало его жаль. — Вот видите, — вздохнул Женя. — Говорите, жена есть. А жена не хочет ехать ко мне, не хочет делить со мною трудностей… Не желает она ехать, пока мне не дадут квартиру. Живет у своих родителей, в Полоцке… Женя говорил все это таким тоном, что Зое всё больше и больше становилось его жаль. — Но хватит о печальном, — улыбнулся он. — Мне с вами так хорошо, так радостно, что я позабыл сегодня все свои житейские невзгоды, — и снова он взял Зоину руку. Зоя снова хотела ее отнять, но на этот раз он так крепко сжал ее пальцы, что они так и остались в его руке. — Мне очень хотелось бы встретиться с вами еще когда-нибудь, — сказал Женя, когда они подошли к Зоиному дому. — Что вы, разве можно? — несмело отозвалась Зоя. — О, да вы, оказывается, не Зоечка, а зайчик, трусливый такой зайчишка, — Женя уже держал обе Зоины руки в своих. Зое понравилось, что он назвал ее школьной кличкой. — Откуда вы знаете, как меня в школе звали? — засмеялась она. — Я все знаю, — многозначительно сказал Женя. — И знаю, что нам с вами непременно надо встретиться. Ну неужели вы такая, извините, мещанка, что не захотите со мною встречаться только потому, что я женат? Я ведь предлагаю вам дружбу, а от дружбы отказываться грех. Ну как, согласны? Зоя молчала. Она не знала, что отвечать. Так славно, так серьезно с нею еще никто никогда не говорил. Зое вспомнился Витя Кудревич, который учился с ней в одном классе и был в нее влюблен. Зоя пользовалась этим и часто просила, чтобы Витя дал ей списать трудную задачку, на которую у самой Зои не хватило терпения. Витя ворчал: «И сама могла бы, если б посидела», — но потом вытаскивал из портфеля тетрадку и клал ей на парту. Бывало, Витя вечерами приходил к ней, но как придет, как сядет у приемника, так весь вечер и головы не поднимет. «Умеет ли этот парень говорить?» — интересовалась Антонина Ивановна, когда Витя, просидев целый вечер и не вымолвив ни словечка, уходил домой. Стоя с нею у подъезда, Витя только тем и занимался, что выковыривал носком ботинка камешки из земли. А разве сказал он хоть раз что-нибудь ласковое? Когда оставались вдвоем, подолгу рассказывал о спортивных соревнованиях, называл имена и фамилии каких-то левых и правых защитников, боксеров каких-то, как-будто все это было интересно Зое. А Женя… С ним так необычно, он какой-то таинственный — как герой романа. И от каждого прикосновения его руки сердце замирает. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
|||||||