 |
|
Популярные авторы:: Грин Александр :: Борхес Хорхе Луис :: Раззаков Федор :: Азимов Айзек :: Чехов Антон Павлович :: Толстой Лев Николаевич :: Сименон Жорж :: Лондон Джек :: Чапек Карел :: Громов Дмитрий Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Гость :: Жизнь, Вселенная и все остальное :: Галоши счастья :: Похищенный кактус :: Десятое правило волшебника, или Фантом :: Справочник по реестру Windows XP :: White Fang :: Рыжая звезда |
Флаг миноносцаModernLib.Net / Военная проза / Анненков Юлий Лазаревич / Флаг миноносца - Чтение (Ознакомительный отрывок) (Весь текст)
Юлий Лазаревич АННЕНКОВ ФЛАГ МИНОНОСЦА  ГЕРОЯМ КРАСНОЗНАМЁННОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ МОРСКОЙ ЧАСТИ ГВАРДИИ КАПИТАНА 2 РАНГА АРСЕНИЯ МОСКВИНА И ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИКА ЕВГЕНИЯ ЮРОВСКОГО 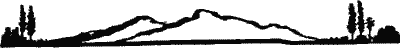 ВСТУПЛЕНИЕ Сегодня, в ночь полнолуния, я начинаю рассказ о Флаге миноносца, о людях, которые его несли, о событиях недавних лет, уже ставших историей и сохраняющих в то же время живую силу впечатлений сегодняшнего дня. Я пишу этот рассказ для друзей: для тех, которые живы, и в память тех, которых уже нет, а главным образом ради тех, что ещё не родились на свет. Когда они придут в этот весёлый и звучный мир, когда возьмут в руки циркуль или резец, пусть знают, что когда-то мы отказались от резца и циркуля, от кисти и карандаша, чтобы им не пришлось сжимать потной ладонью отполированный до блеска приклад автомата. Сегодня — ночь полнолуния, и город спит в эту светлую ночь свежий и обновлённый. Чёток рисунок полуобнажённых ветвей, и прозрачен воздух. Перламутровый свет льётся на мир. Я вижу реку и новый мост, взметнувшийся над нею, как рука, протянутая в будущее. В окнах горит свет. Их много, этих окон, и если подойти поближе и присмотреться, то можно заметить, насколько различен их свет. Есть окна оранжевые и светло-жёлтые, как разрез лимона… есть красноватые, розовые, даже голубые. А вот окно, светящееся сиреневым отливом на пятом этаже большого дома. Я знаю это окно и эту квартиру. Там живёт мать Андрея, Земскова. Вот о нем, о моем друге Андрее, я хочу рассказать. Но не только о нем. Я хочу рассказать обо всех. О моряках и лётчиках, о пехотинцах и кавалеристах и уж, конечно, об артиллеристах, потому что мой друг Андрей — артиллерист и самому мне тоже пришлось заниматься этим почётным ремеслом. Но нет ни сил, ни времени, чтобы рассказать обо всем. Это под силу только армии писателей, и такая армия, конечно, будет. Мы уже видели её первые отряды. Немало хороших книг написано о Великой Отечественной войне советского народа. Я сказал — немало. И все-таки недостаточно. Может быть, когда-нибудь явится гений — новый Пушкин, Толстой или Шекспир. Наверно, он сумеет в одном великом произведении оживить гигантскую панораму тех дней — горные вершины Сталинграда и Севастополя, могучие реки нашего наступления и неприступные скалы обороны. Может быть, в этом романе (или поэме) предстанет перед нами всё: русские солдаты и генералы, и враги, и друзья, и военные сводки, и полевые кухни, госпитали и штабы, взорванные танки на размытых дорогах, и город, притаившийся в ночи под маскировочными шторами. Мы прочтём там о скромных тружениках тыла и о судьбе жены солдата, о великих полководцах, сумевших объять мыслью целую эпоху, и о маленьком сержанте, у которого хватило сердца только на то, чтобы прикрыть им чёрную дыру ствола вражеского пулемёта. В той книге будет все: чувства всех, выраженные через немногих, душа миллионов, радость и горе народов. Если бы я мог перечислить все, что там будет, то, наверно, попытался бы сам написать эту книгу. Но я не знаю, как передать в одном романе эпоху. И это вовсе не значит, что все мы — простые солдаты писательской армии — должны дожидаться создания будущего гения, а пока сидеть сложа руки. Пусть каждый расскажет о том, что он знает сам. Пусть каждый, кто может, попытается передать чувства, волновавшие его, свою боль и свою радость, и да будет благословен этот труд, потому что каждое зерно попадёт в житницу народа. Ему одному принадлежит будущее, настоящее и прошлое. Он один сумеет отобрать полноценные золотые зёрна от шелухи. Сегодня, в ночь полнолуния, я открыл нижний ящик моего стола. Я давно ждал этой минуты и счастлив, что она пришла. Ворох писем и дневников покрывает бумаги сегодняшнего дня. На столе лежат выцветшие фотографии и другие — совсем ещё сочные и чёткие, будто они сделаны вчера. Старую карту нужно разворачивать очень осторожно. Она совсем перетёрлась на сгибах. Ведь вы знаете, как полагается складывать военную карту? Её складывают сначала вдоль, а потом гармошкой, чтобы можно было перелистывать её, как книгу. Офицеры читали эту книгу при свете электрического фонарика или коптилки, сделанной из снарядной гильзы, а иногда даже при свете луны, когда она бывала такой щедрой, как сегодня. Синие и красные дуги на карте, маленькие овалы, ромбы, кружки. Стрела — удар. Извилистая линия — рейд в тыл врага. Об этой карте можно писать день и два, и больше, и все равно не напишешь всего, что она рассказывает знающему её историю. Невозможно написать обо всем. И вот я решил рассказать только о Флаге миноносца. Я пишу «Флаг» с большой буквы потому, что для нас, которым его дали, не было ничего больше его. Я хочу рассказать вам о Флаге миноносца и о любви. Говорят — любовь к родине. Эти слова стали совсем привычными, и часто мы сами не думаем, что за ними лежит наша любовь ко всем, кто шагал вместе с нами по дороге, к городам и домам, и знакомым деревьям, которые цветут и отцветают и дают плоды.  ГЛАВА I ЛИДЕР «РОСТОВ» 1. УХОДИМ В МОРЕ  — На флаг и гюйс — смирно! Моряки стояли сомкнутым строем, вытянувшись вдоль бортов. Только чёрные ленточки чуть трепетали за их плечами. Вахтенный командир Николаев выждал положенное время: — Товарищ капитан-лейтенант, время вышло. Капитан-лейтенант Арсеньев кивнул головой, и тут же прозвучала команда: — Флаг и гюйс поднять! Николаев поднёс ладонь к блестящему козырьку фуражки. Горнисты вскинули вверх свои трубы, и сигнальщик начал медленно выбирать фал. Капитан-лейтенант Арсеньев смотрел, как на флагштоке его корабля поднимается бело-голубое полотнище. Лёгкие, певучие, настигающие друг друга переливы горнов неслись над Северной бухтой, над омытыми ночным дождём причалами, над россыпью белых домиков на крутом склоне Корабельной стороны. Каждое утро Арсеньев видел эту картину, но она неизменно волновала его, как в тот далёкий день в Кронштадте, когда ещё курсантом он впервые в жизни наблюдал церемонию поднятия Военно-морского флага. Флаг поднялся до места. Николаев подал команду «Вольно!» — и два коротких звука горна подтвердили её. Караул прошёл в помещение, чётко отбивая строевой шаг по железной палубе. Арсеньев уже собирался покинуть ют, когда к нему подбежал сигнальщик. — Товарищ капитан-лейтенант, семафор! — Он протянул небольшой листочек бумаги, и Арсеньев прочёл: «Командиру лидера „Ростов“. Корабль экстренно к бою и походу изготовить. Вам — немедленно прибыть к командующему флотом». Арсеньев отдал бланк старшему помощнику Зимину, приказал спустить командирский катер и направился к трапу. С лидера, стоявшего на бочках посреди Северной бухты, в том месте, где от неё отходит Южная, видно было много кораблей: крейсеры, тральщики, громоздкий теплоход, превращённый в госпитальное судно. У Минной стенки стояли эсминцы. Ни один из них, конечно, не мог сравниться с красавцем лидером эскадренных миноносцев «Ростовом», всего год назад спущенным со стапелей. Даже однотипный «Киев» уступал ему в ходе и в манёвренности. Люди тоже под стать кораблю. Арсеньев знал большинство личного состава уже около года, с тех пор, как был назначен командиром «Ростова», но только за последние месяцы он оценил этих людей по-настоящему, дважды побывав с ними в бою. Казалось, совсем немного времени прошло с памятного субботнего вечера. После больших учений эскадра возвратилась в Севастополь. Арсеньев уже представлял себе, как он отворит заросшую диким виноградом калитку на улице Щербака у Батарейной бухты. Надя побежит по дорожке навстречу ему и ещё на ходу, задыхаясь, будет рассказывать, как она раньше всех узнала силуэт «Ростова» ещё далеко за бонами. А следом за Надей, спотыкаясь, маша ручонками, потопает Ленка. Он посадит её себе на плечо, и они войдут все трое… Арсеньеву не пришлось больше войти в свой дом. В тот вечер командующий не разрешил покинуть корабль, а около четырех утра — уже серело — от Малахова кургана на северо-запад пролетел большой самолёт. Где-то в районе Батарейной бухты раздался сильный взрыв. Сергей Петрович Арсеньев никогда больше не видел ни жены, ни дочери. Незадолго до десантной операции под Григорьевкой командир лидера «Ростов» попросил разрешения сойти на берег вместе с десантом. Ему хотелось скорее столкнуться вплотную с врагом, увидеть людей, которые в первую минуту войны лишили его самого дорогого в жизни и, как он думал, навсегда отучили его улыбаться. Адмирал, конечно, не разрешил ему участвовать в десанте. Может быть, адмирал понимал, что происходит в душе моряка, но он ни словом не обмолвился об этом. Он спрятал рапорт Арсеньева в ящик стола и сказал: — Ты попросишь его обратно. Придёт такой день… Арсеньев не обратил тогда внимания на эти слова адмирала, но они удержались где-то в глубинах памяти и всплыли теперь, много дней спустя. В том же самом кабинете адмирал поставил перед командирами лидеров «Ростов» и «Киев» задачу почти невыполнимую: подойти на короткую дистанцию к румынскому порту Констанца и уничтожить артиллерийским огнём запасы горючего. Одновременно предстояло разведать боем систему обороны Констанцы, превращённой гитлеровцами в свою главную базу на Чёрном море. Эту задачу надо было решить во что бы то ни стало — не только нанести противнику урон, но, кроме того, доказать на деле как врагам, так и союзникам, что Черноморский флот — вопреки всем вымыслам — жив и боеспособен. Уже выходя из кабинета, Арсеньев внезапно обернулся: — Товарищ командующий, я хотел вас просить… — Вот, возьми! — адмирал протянул листок бумаги, сложенный вчетверо. Это был рапорт Арсеньева, поданный в первые дни войны. — И помни, Сергей Петрович, как говаривал Федор Фёдорович Ушаков: «На пистолетный выстрел!» Из здания штаба флота Арсеньев вышел вместе с командиром лидера «Киев» капитаном 3 ранга Глущенко. Они были давними приятелями, встречались семьями, вместе проводили выходные дни. После гибели жены и дочери Арсеньев перестал бывать у Глущенко. Он вообще почти не сходил на берег. Добродушный, преждевременно полнеющий командир «Киева», которого матросы за глаза называли между собой дядя Пуд, закончил училище двумя годами раньше Арсеньева. Он был старше по званию, и, безусловно, ему было обидно, что командиром ударной группы назначен Арсеньев, а не он. Но в глубине души Глущенко не мог не признавать правильность этого выбора. Спокойную решимость Арсеньева хорошо знали на флоте. Чтобы скрыть неловкость, Глущенко громко и много говорил, в то время как они спускались с городского холма на улицу Ленина. Арсеньев отвечал односложно. У здания Музея Черноморского флота, украшенного пушками времён Нахимова, Глущенко вдруг остановился: — А что, пожалуй, когда-нибудь и твой кортик покажут здесь пионерам? — Сомневаюсь. — Ты что же, не надеешься вернуться? — Надеюсь. Они прошли по кривой Минной улочке и простились на пирсе. Арсеньев крепко сжал мясистую ладонь товарища: — Ну, счастливо! Обо всем уже говорено. Надо действовать. — Он спрыгнул на катер, который крючковые подтянули к пирсу. Вернувшись на корабль, Арсеньев приказал сыграть большой сбор. Снова вытянулся на юте неподвижный строй моряков. Капитан-лейтенант всматривался в каждого из них, словно видел его впервые. Вот командир батареи главного калибра Николаев. Арсеньев невольно любовался выправкой лейтенанта. Складный ширококостный сибиряк с квадратными плечами и большой круглой головой, Николаев производил впечатление чрезвычайно спокойного, даже флегматичного человека, но Арсеньев уже знал, что неторопливость движений и чёткая, размеренная речь скрывают характер страстный и неудержимый. Видно было, что лейтенанту, который всего полтора месяца назад пришёл на корабль, морская служба по душе. Свои обязанности он выполнял с нескрываемым удовольствием, наслаждаясь чёткостью работы механизмов, слаженностью команды и даже звуком собственного голоса, отдающего приказания. Молодость! Арсеньев был старше всего на восемь лет, но восемь лет службы на флоте — это много. Вот старший помощник командира корабля — капитан 3 ранга Зимин. Этот годится Николаеву в отцы. Ему под пятьдесят, а на вид куда больше, потому что морская соль пропитала его насквозь, от морщинистых щёк до жёсткого седеющего затылка. Его цепкие маленькие глаза, почти лишённые бровей и ресниц, видят мельчайшую погрешность на корабле. «Ходячая лоция», «Черноморский краб», «Музейный компас» — мало ли как называет молодёжь мешковатого брюзгу Зимина? Остряк и говорун Закутников утверждает, что Зимин способен с закрытыми глазами провести корабль через Кавказский хребет. Младший штурман Закутников — только что из училища. Старается казаться солидным, а его губы в любой момент готовы расплыться в улыбке. «Сплошное легкомыслие, — подумал Арсеньев, — на уме одни остроты и девушки. С матросами недостаточно строг. Боцман Бодров позволяет себе обращаться к нему на „ты“ в неслужебное время. Впрочем, таких, как Бодров, тоже не много сыщешь на всем Черноморском флоте. Сила!» Артиллеристы, минёры, механики, трюмные машинисты, электрики, сигнальщики, рулевые… Ближе этих людей теперь у Арсеньева не было никого. Кто из них останется в живых к завтрашнему дню? Арсеньев разжал губы и сказал: — Товарищи матросы и старшины, товарищи командиры, поздравляю с боевым приказом! Он сделал паузу и окинул строй мгновенным взглядом, словно подвёл черту остро отточенным карандашом. — Уверен, что моряки лидера «Ростов» не опозорят наш Военно-морской флаг. Сигнальщик Валерка Косотруб, веснушчатый, вёрткий паренёк, знал о предстоящем задании не больше других. Только командиру и комиссару корабля было известно о том, что лидеры «Ростов» и «Киев» в 20.00 выйдут прямым курсом на Констанцу. Валерка не сомневался в серьёзности полученного задания. В противном случае капитан-лейтенант не стал бы специально собирать личный состав. Богатое воображение Валерки рисовало ему самые невероятные вещи, но, помимо предстоящего похода, Валерку занимало ещё одно обстоятельство. Ему было необходимо повидать Ксюшу. Сейчас это казалось невозможным. С завистью смотрел он на матросов, назначенных на барказ, который посылали за дополнительным боезапасом. И все-таки Валерке повезло: командир штурманской боевой части приказал ему отвезти в госпиталь больного сигнальщика. Барказ подошёл к Госпитальной пристани на Корабельной стороне. В нескольких десятках метров отсюда, за кирпичным забором, спускающимся к морю, на пристани Аполлоновка барказ должен был принять боезапас. — Отваливаем ровно через полтора часа! — сказал Косотрубу старшина. Полтора часа — срок вполне достаточный. Косотруб справился гораздо быстрее. Оставалось ещё сорок минут. «Вполне успею повидать Ксюшу», — решил он. Но прощанье затянулось. Ксюшина мама поднесла стаканчик чачи, потом Валерка сыграл на гитаре и выпил ещё одну стопку. У ворот разговаривали, кажется, недолго. Матрос взглянул на часы и обмер: часы стояли. Даже не обняв девушку на прощанье, он бросился бегом по склону горы, вздымая белую севастопольскую пыль. Валерка перепрыгнул через низкий каменный заборчик, упал, снова вскочил, промчался по старому виадуку и, наконец, выбежал на причал. Форменка была на нем мокрой, а волосы прилипли ко лбу. Барказ с боезапасом, единственный способ попасть на корабль, давно ушёл. Валерка, не раздумывая, прямо с разгона бросился в воду, затянутую маслянистой радужной плёнкой. Вначале он плыл быстро, но скоро сдал. Одежда намокла, а лидер, стоявший на рейде, казался очень далёким. «Неужели уйдёт без меня?» — эта мысль была страшнее смерти. Валерка плыл из последних сил, задыхаясь, выплёвывая воду. Ему удалось сбросить с себя ботинки и форменку. В таком виде доставила его на корабль шлюпка с лидера. Косотруб стоял на палубе, и вокруг его босых ног расплывалась лужа. К нему подошёл Федя Клычков — низкорослый широкогрудый матрос, прозванный самоваром за сложение и медно-красный цвет лица. — Ну, как? — спросил Клычков. — Выпил водочки, закусил водичкой? Как тёща поживает? Валерка угрюмо молчал. — Люблю шикарный морской вид! — продолжал Клычков. — Правильный видок! Тяжелее насмешек, тяжелее предстоящего наказания была встреча с капитан-лейтенантом. Валерке не дали переодеться, и он шёл в каюту командира корабля, как был, в облипающей тело тельняшке, оставляя следы на сверкающей палубе. Арсеньев процедил, не разжимая зубов: — Немедленно отправить на берег. — Разрешите сказать, товарищ… — Не разрешаю. Снять с него ремень. Старпом видел в бинокль, где вы были. Десять суток строгого ареста. Уже работали все котлы. На корабле царило то деловое оживление, какое бывает всегда перед выходом в море. Теперь никто не смеялся над Косотрубом. Не до того. Валерка захватил в кубрике свой сундучок и понуро побрёл к трапу. Он так и не сменил тельняшку, и влага пятнами проступала на сухой форменке. Вдруг он услышал передающуюся по трансляции команду: — Баковым на бак! «Значит, снимаемся с якоря? Уходим? А я остаюсь на корабле?» Валерка ошалело посмотрел вокруг, не веря своему счастью. Пробегавший мимо боцман Бодров огрел его по спине широкой ладонью: — Повезло тебе, парень! Командир решил взять тебя все-таки в море, мокрого чемпиона! Не помня себя от радости, Валерка кинулся бегом на свой боевой пост. Бодров с мегафоном уже распоряжался на полубаке: — Выбрать левый! Пошёл шпиль! С рычаньем поползла, наматываясь на шпиль, якорь-цепь. — Якорь чист! — доложил Бодров. С ходового мостика донёсся хриплый голос старпома: — Якорь на место! Арсеньев взялся за ручки машинного телеграфа: — Оба — малый вперёд! Забурлила вода за кормой, и тронулись, медленно поплыли мимо корабля знакомые очертания берега. Темнело. В кильватер «Ростову» шёл лидер «Киев». Корабли группы прикрытия снимутся позднее. Вот уже скрылись Приморский бульвар и строгая колонна памятника затопленным кораблям. Промелькнуло здание Института Сеченова, а за ним маленькая Батарейная бухта, с которой у Арсеньева связано было столько воспоминаний. При подходе к боновым воротам на мачте сигнального поста Константиновского равелина вспыхнули и погасли позывные. Город отодвигался все дальше и дальше. Только высоко на горе, в глубине бухты, светились красный и жёлтый огни Инкерманского створа. Они видны были ещё долго, и Арсеньев подумал, что эти огни — единственное, что связывает его сейчас с Севастополем. Он усмехнулся этой наивной мысли и приказал лечь на курс 270 — строго на запад. С открытого моря полз плотный туман. Корабль погрузился в него, и огни исчезли. 2. ГОТОВНОСТЬ № 1 Ночь ползла над Европой, над городами и заводами, над крышами и вершинами деревьев. Густая осенняя мгла покрывала Чёрное море, которое в старину звали Русским морем, а ещё раньше — в эпоху эллинов — Грозным морем. Грозное Русское море распростёрлось между Крымом и Анатолией, замкнутое с востока горами Кавказа, а с запада — обрывистыми берегами Румынии. Но как ни была темна эта ночь, на любом из берегов за чёрными бумажными шторами, за плотными ставнями теплились скупые военные огни. В приморских деревеньках и в портовых слободках при неверном свете коптилок рыбаки чинили сети, потому что, несмотря на войну, нужно ловить серебряную скумбрию и золотистую кефаль, а потом нести свой улов в ивовых корзинах на рынок, чтобы можно было прокормить детей. Долго не гасла настольная лампа в кабинете командующего Черноморским флотом. Тускло горели лампочки в тюремных камерах захваченной врагами Одессы, которую они назвали именем румынского фашиста Антонеску. А в Констанце невидимые сверху под глубокими козырьками прожекторы освещали подступы к нефтехранилищам — громоздким сооружениям из железа, цемента и кирпича. Под надёжной охраной пушек, мин и сторожевых собак там покоились жирная нефть, тяжёлое дизельное топливо и летучий бензин — живая сила кораблей, самолётов и танков. Огни были всюду — невидимые, но существующие, глубоко запрятанные, но светящие. Только море не имело огней. Тьма царила здесь безраздельно и властно. Черно-зеленые литые волны перекатывались одна за другой, и не было им конца. Зыбкая, колышущаяся равнина над бездной — полмиллиона квадратных километров сплошного мрака, и мрак от морского дна до самого неба. Так было в древние геологические эпохи, когда одни только летающие ящеры носились над волнами на своих перепончатых крыльях. Так было и сейчас. Среди этого доисторического хаоса и непроницаемой мглы шёл теперь незримый корабль — затерянный в волнах стальной клинок, несущий две с лишним сотни человеческих жизней. Уже несколько часов корабль шёл с задраенными иллюминаторами, без отличительных огней, рассекая густую черноморскую волну. Лейтенант Николаев вышел на полубак и остановился у борта. К нему подошёл старпом Зимин. Некоторое время оба стояли молча, глядя на чёрную воду, мчащуюся внизу. Под форштевнем вскипала пена, она отходила в сторону и расплывалась где-то сзади тончайшими кружевами. Молчание нарушил Зимин. — Боятся немцы нашего моря. Оно для них чужое, дикое… А нам на руку и ночь, и туман. Николаев ничего не ответил. Белые гребни все так же взметались над невидимыми волнами. — Ты подумай, Павел Иванович, мы идём, идём, а им невдомёк, что мы близко. Ни один вражеский корабль не выйдет в море в эту ночь. В кубрике тоже шёл разговор. Рассказывал боцман Бодров: — …Вот тогда мы и ударили под Григорьевкой ради того, значит, чтобы ликвидировать артобстрел Одессы. Эх, Одесса… Он запел вполголоса, а Валерий Косотруб подтянул, еле слышно перебирая струны гитары: Я не знаю, осенью или зимой туманной Мы вернёмся в город наш, город наш желанный… Это была грустная и все-таки бодрая песня. В конце Валерка даже повысил голос: Мы, из Одессы моряки!.. — Тише ты, черт беспутный! — прохрипел Бодров. — Мало тебе вчерашнего? Он вышел из кубрика, прошёл по левому шкафуту, скользя ладонью вдоль штормового леера. Потом поднялся по трапу в носовую надстройку. В каюте командира корабля было темно. «Не сходит с мостика», — подумал Бодров. В кают-компании за столом без скатерти сидело несколько человек. Плафоны и зеркала были сняты, и от этого знакомая кают-компания казалась чужой и неуютной. Лейтенант Закутников пытался рассказать какую-то смешную историю, но весело не получалось. То и дело он поглядывал на часы: «Скоро ли рассвет?» Командир БЧ-2 старший лейтенант Лаптев, худощавый, с тёмными дугами под блестящими стёклами очков, посмотрел на Закутникова с грустной улыбкой: — А ведь ты шутишь через силу, лейтенант. Не надо. И не смотри так часто на часы. Давай-ка лучше в шахматы. Твои — белые. Замолчали. Гудение турбин глухо доносилось через переборку, и позвякивала в пустом стакане ложка. Внезапно резкий звонок разорвал тишину: боевая тревога! Кают-компания опустела. Корабль сразу ожил. По трапам, по коридорам побежали люди, с визгом задраивались люки. Непрерывный звонок раздавался ещё около полминуты. Когда он затих, все уже стояли на своих боевых постах. Готовность № 1. На востоке мгла серела. Стали заметны рваные очертания облаков. 3. «НА ПИСТОЛЕТНЫЙ ВЫСТРЕЛ!» Перед восходом солнца знобко и неуютно. Свет медленно вытесняет тьму, и временами туманная мгла кажется ещё непроницаемее, словно ночь делает последнюю попытку удержаться перед лицом наступающего дня. В этот тусклый час все кажется зыбким и расплывчатым. Острый холод стелется над водой, и люди поплотнее застёгивают шинели и бушлаты. Арсеньев провёл на мостике всю ночь. Он сидел в своём кресле перед приборами, поблёскивающими разноцветными лампочками, и изредка разжимал губы, чтобы отдать короткое приказание. Вахтенный офицер у репитера гирокомпаса, старший помощник Зимин и командир БЧ-2 Лаптев не проронили за последние часы ни одного слова. Справа и слева на крыльях мостика, пронизываемые стремительным ветром, стояли у визиров сигнальщики. Начинало качать. Холодные брызги долетали до мостика. На полубаке все было мокрым. Орудийные башни, шпили, кнехты, якорь-цепи, тянущиеся по палубе из клюзов в цепные ящики, казались покрытыми липкой плёнкой. В 4 часа 30 минут с командно-дальномерного пункта доложили: прямо по курсу — берег. Дистанция 120 кабельтов. Арсеньев поднялся с кресла: — На румбе? — На румбе двести семьдесят. — Лево руля. На румб двести сорок. — Он перевёл рукоятки машинного телеграфа на «Самый полный» и сказал, наклонившись к переговорной трубе: — Выжать весь ход, сколько возможно. Корабль уже лёг на новый курс. Вероятно, где-то поблизости простирались минные поля. Может быть, справа, может быть, слева, может быть, прямо по курсу колышется на глубине нескольких метров металлический шар с чуткими отростками. Одно лишь прикосновение… «Киев» шёл в кильватерной струе «Ростова», который оставлял за собой зеленую, словно стеклянную дорогу. Становилось светлее. Туман расползался слоистыми полосами, а далеко за кормой — на востоке разметались над горизонтом розовые перья облаков. Вахтенный докладывал каждые две минуты: — Дистанция девяносто кабельтов. — Дистанция восемьдесят пять кабельтов… Корабли давно вошли в сферу огня береговых батарей. Теперь в визир или в бинокль можно было уже различить очертания города, распластавшегося вогнутой дугой на обрывистом берегу. В направлении с севера на юг тянулся массивный волнорез с маяком на конце, а дальше на берегу громоздились портовые сооружения. — Дистанция семьдесят пять кабельтов… Арсеньев молчал. Зимин подумал, что он не расслышал доклада и повторил: — Товарищ командир, семьдесят пять кабельтов. Арсеньев удивлённо взглянул на него. Он почти не сомневался в том, что береговые батареи огнём накроют лидеры. Важно было поджечь нефтебаки до того, как это произойдёт. В сознании его все время звучало: «На пистолетный выстрел!» Те, кто стоял на ходовом мостике рядом с командиром, и те, кто находился в орудийных башнях, у приборов, в жарких котельных отделениях и в снарядных погребах, понимали, что командир хочет нанести удар наверняка, достать залпами бензобаки, расположенные в глубине суши, заставить врага обнаружить огневые средства, даже если для этого придётся приблизиться к самому волнорезу с толстым полосатым маяком. Уж там-то, наверно, заметили корабли, сейчас раздастся свист снарядов, потом разрывы… Младший штурман Закутников выронил карандаш из дрогнувших пальцев. Сидя в штурманской рубке, он не видел ни берега, ни маяка, но линия курса, проложенная на карте, уже почти упиралась в берег. Лейтенант втянул голову в плечи. Скорее бы начался бой! Это стремительное движение в тишине, нарушаемой только шумом вентиляторов, угнетало его, прижимало к столу, не давало работать. В трубке раздался голос вахтенного командира: — Штурманская! Ложимся на боевой курс… Лейтенант вздрогнул, схватил карандаш и линейку. Лаг показывал скорость 35 узлов. До берега оставалось 45 кабельтов, когда корабль вышел из тумана. Валерка Косотруб даже без бинокля видел теперь высокое здание причудливой архитектуры у самого берега. Левее простиралась площадь, чуть дальше какая-то бесформенная тёмная постройка, должно быть элеватор. На заднем плане из общей массы домов выделялись церковь и какие-то три высокие трубы — одна рядом с другой. Командир батареи Николаев видел все это гораздо чётче с командно-дальномерного пункта. Он не чувствовал ни страха, ни волнения. Но ему все время казалось, что командир корабля пропустил момент. Только из-за тумана противник не заметил до сих пор корабли. Но они уже вышли из тумана… Небо все светлее… Сейчас покажется край солнечного диска… Чего ждёт командир?.. Медленно повернулись орудийные башни, стволы стотридцатимиллиметровых орудий главного калибра поднялись вверх. Глубоко внизу, под палубами, в центральном артиллерийском посту, уже выработали данные. Арсеньев перешёл в боевую рубку вместе с вахтенным офицером и командиром БЧ-2. «На пистолетный выстрел!» — ему самому не верилось, что враг до сих пор не обнаружил лидеры. Но сейчас — все! Он повернулся к командиру БЧ-2 Лаптеву и тихо сказал: — Открыть огонь по нефтебакам. На вышке сигнального поста у входа в гавань Констанцы солдат-наблюдатель отчаянно боролся с сонной одурью. Он изо всех сил пялил глаза в бинокль, но веки слипались, и в туманной дали чудились ему нелепые видения — какие-то руки тянулись из-за горизонта, перекошенные лица плавали в поле бинокля. Он протёр глаза и понял, что это только облака. А веки снова неудержимо опускались, и уже в узенькой щёлочке глаз, как предутренний сон, скользнул силуэт корабля. Скользнул и скрылся. Наблюдатель вздрогнул, схватил телефонную трубку. С соседнего поста никакого силуэта не видели. Он снова взялся за бинокль, но теперь уже не мог обнаружить силуэт в голубовато-сером пространстве. Глаза слезились от напряжения. Наблюдатель опустил бинокль. В этот момент внезапный гром рванул тишину и эхо повторило его. Набережная сразу наполнилась народом. Выскакивали полуодетые, наспех натягивали мундиры и шинели. Смотрели вверх, но в бледном небе не было самолётов. А гремело снова и снова. Гигантское пламя заслонило полнеба. Клубы черно-коричневого дыма поднялись над нефтебаками. Люди метались среди огня и дыма. Паника охватила даже самых хладнокровных. Внезапные залпы ошеломили противника. Он открыл огонь позже, чем можно было предположить. А тем временем орудия «Ростова» и «Киева» стреляли не переставая. Не успевал прозвучать залп, как в орудийных башнях раздавался низкий и сильный звук ревуна, и почти мгновенно следовал новый залп. Ревун — залп! Ревун — залп! Ревун — залп! Баки пылали. Арсеньев перенёс огонь на портовые сооружения и транспорты, стоявшие у стенки за волнорезом. Теперь лидеры шли вдоль линии причалов. Береговые батареи уже открыли огонь, но из-за грохота собственных орудий на «Ростове» не слышно было разрывов первых снарядов, выпущенных по кораблям. Снаряды летели с большим недолётом. В это время весь порт содрогнулся от нескольких почти одновременных могучих взрывов. Это взлетели на воздух склады боезапаса. Гавань Констанцы заволокло дымом. 4. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ Когда в порту взорвался боезапас, а Николаев доложил с командно-дальномерного пункта, что все стреляющие береговые батареи противника запеленгованы, Арсеньев вызвал шифровальщика: — Передать в штаб флота: задание выполнил, даю координаты батарей противника. Теперь можно было ложиться на курс отхода. На «Киев» передали сигнал: «Начать отход. Дым». Арсеньев вынул из портсигара папиросу, но прикурить её не успел. В момент поворота на курс отхода на «Киеве» раздался взрыв. Столб огня и дыма взметнулся высоко вверх. Все, кто был на верхней палубе «Ростова», видели, как «Киев» сильно накренился на левый борт и перевернулся килем вверх. Он затонул прежде, чем «Ростов» успел сделать поворот, чтобы прийти на помощь. Это почти мгновенное исчезновение корабля, который только что вёл огонь, корабля, где у каждого были друзья, казалось невероятным. Арсеньев представил себе толстое лицо Глущенко. Как же это?.. — Прямое попадание в зарядный погреб, — сказал Зимин. Арсеньев опустил голову. Ему казалось, что он в чем-то виноват перед Глущенко, перед всем этим кораблём, доверенным ему как командиру ударной группы. Солнце уже взошло. Малиновый диск только что поднялся над линией горизонта, и в отлогих лучах вся поверхность моря казалась затянутой колеблющейся золотой тканью. Десятки глаз тщетно всматривались вдаль, чтобы различить людей среди гребней волн. Но, кроме вечной констанской зыби, которая не утихает ни на минуту, не видно было ничего. С крейсера, возглавлявшего группу прикрытия, передали по радио: «Отходить на ост самым полным». Арсеньев положил руль право на борт. Всплески взметались вокруг корабля, вставая сплошной водяной стеной. Машины работали на пределе. Никогда ещё с момента спуска лидера на воду его винты не вращались с такой бешеной быстротой. Лаг показывал 42 узла. Снаряд разорвался на полубаке. Он попал прямо в первую башню. Там начался пожар. От страшного сотрясения вздрогнула вся носовая надстройка. Второй снаряд упал в нескольких метрах от левого борта, и осколки со свистом пронеслись над палубой. «Накрыли!» — подумал Арсеньев. Он хотел резко изменить курс, чтобы сбить пристрелку, но связь из боевой рубки была нарушена. Вышел из строя репитер гирокомпаса. Не работал машинный телеграф. Оставаться в боевой рубке было бессмысленно. Арсеньев распахнул дверь и, скользнув руками по поручням трапа, выбежал на верхнюю палубу. В это время корабль резко повернул влево. — Молодцы! Догадались сами положить лево на борт, — крикнул Зимин. Он побежал по шкафуту вслед за Арсеньевым, который спешил на запасный командный пункт, расположенный на кормовой надстройке. Зимину оставалось всего несколько шагов до трапа, когда осколок ударил его в грудь. На полубаке артиллеристы выносили снаряды из развороченной первой башни. Лейтенант Николаев в расстёгнутом кителе и в сбитой на затылок фуражке таскал снаряды вместе с матросами. Здесь же был комиссар корабля Батурин. Пятнадцать лет назад он служил палубным комендором на легендарном «Гаврииле». Этот неторопливый пожилой человек, казалось, обладал способностью находиться одновременно и в котельном отделении, и на верхней палубе, и в штурманской рубке. В самом начале боя он ушёл из боевой рубки. — Пойду к матросам. Там от меня больше пользы, — сказал он Арсеньеву. И действительно его присутствие среди личного состава во время обстрела оказалось просто необходимым. Плавные движения комиссара, его окающий волжский говорок и даже старенькая, видавшая виды фуражка с треснувшим козырьком вносили спокойствие и уверенность, где бы он ни появился. Чуть сутулясь и широко расставляя ноги, он шёл от одного боевого поста к другому, замечая каждую неполадку, помогая и словом и делом. Убедившись, что пожар на полубаке погашен, Батурин направился на ют. Ещё несколько всплесков вскинулись за кормой, и обстрел прекратился. Комиссар глубоко вздохнул. Ему даже не верилось, что выстрелы береговых батарей уже не достигают корабля. Валерка Косотруб, стоявший на кормовом мостике, перегнулся через поручни. Он не мог удержаться, чтобы не поделиться своей бурной радостью. — А от батарей мы все-таки ушли, товарищ комиссар! — Ты гляди-ка в оба! — ответил комиссар. — Обрадовался! Пловец! «Все-таки ушли!» — эта мысль была у каждого, потому что почти никто, за исключением командира корабля, не надеялся выйти живым из-под артогня. Но ни Арсеньев, ни Батурин, ни Зимин, лежавший теперь в кают-компании, превращённой в госпиталь, не считали, что бой закончен. Не прошло и пяти минут после прекращения обстрела, как с кормового мостика раздался голос Косотруба: — Справа 120, четыре торпедных катера! Орудия главного калибра открыли заградогонь. Николаев, находившийся теперь тоже на кормовой надстройке, видел, как перевернулся один из катеров. Остальным удалось проскочить. Они стремительно приближались, раскинув перед собой широкие белые усы пены. Лаптев приказал открыть огонь по ним зенитной батарее. — Вёрткие, сволочи! — проворчал Клычков. Это был лучший наводчик. Короткий, широколицый, словно вросший в палубу, он не отрывался от прицела орудия. — А ну, держи! — с первого снаряда Клычкову удалось попасть в головной катер. Клычков на мгновенье обернулся, и Батурин, стоявший рядом, увидел его счастливое лицо, по которому ползли капельки пота, оставляя за собой извилистую дорожку. — След торпеды! — закричал Косотруб. — Ещё торпеда! Действительно, остальные катера уже разворачивались, выпустив по две торпеды. Арсеньев резко положил руль лево на борт. Торпеды прошли мимо, но уже появился новый противник — самый грозный, о котором помнили все, удивляясь его отсутствию. Солнце поднималось над морем, и, как обычно, с солнечной стороны едва заметной цепочкой заходили самолёты. «Вот теперь начинается настоящий бой», — подумал Арсеньев. Огонь вели все исправные орудия. Кок Гуляев, приписанный по боевому расписанию к зенитной пушке, действовал быстро и хладнокровно, словно у своей плиты на камбузе. Перестук зенитных автоматов слился с воем пикировщиков. Их первый заход был неудачен. Бомбы легли далеко за кормой корабля, вздымая огромные фонтаны воды. Арсеньев запросил сведения с боевых постов. Потери были велики. Больше шестидесяти убитых и раненых. Три орудия выведены из строя. В надводной части несколько вмятин. Это были результаты артобстрела. Снова самолёты пикировали на корабль. Зенитки стреляли длинными очередями. Непрерывно меняя курсы, ведя огонь с правого и левого борта, корабль уклонялся от бомб. Командир автоматной батареи был убит наповал осколком в висок. Его заменил комиссар корабля. Он по-прежнему был спокоен и нетороплив. Старший лейтенант Лаптев, уже раненный в руку, без фуражки, в очках, с биноклем, болтающимся на тощей шее, прошёл по кораблю, сотрясающемуся от взрывов, и поднялся на прожекторный мостик. Здесь были установлены два зенитных автомата. Они стреляли длинными очередями. Заряжающие едва успевали вставлять обоймы со снарядами. «Невозможно вести такой огонь. Захлебнутся зенитки», — подумал Лаптев и тут же скомандовал: — По пикирующему — непрерывными! — Это были его последние слова. Бомба попала прямо в орудие, у которого он стоял. Вторая бомба разорвалась у самого борта. От дыма, горелой краски, орудийной копоти невозможно было дышать. Пламя, как вор, выглядывало рыжими вихрами то из-за переборки, то из люка, то из ящика с боезапасом, как только люди отворачивались в другую сторону. Румынский берег уже скрылся, но там, на западе, ещё можно было различить тёмное облако — дым пожаров. — Горит! — указал на берег Клычков пробегавшему мимо него Косотрубу. У Валерки была разбита скула. Он едва держался на ногах от усталости, но на конопатом лице играла обычная озорная улыбка. — Горит, Федя, и гореть будет, пока вовсе не сгорит! Хана теперь им! «Да и нам, пожалуй, тоже, — подумал Клычков, — долго не протянем». Младший штурман Закутников был легко ранен. Он вышел на минутку из штурманской рубки, чтобы взять пеленг на берег. Осколок ударился в пилерс и отскочил прямо в руку лейтенанту. На медпункте руку наскоро перевязали, и лейтенант отправился назад в штурманскую. Теперь он был полон такой энергии, какой и не ожидал в себе. Ему казалось, что самое страшное — позади. Увидев комиссара, распоряжавшегося у зенитных орудий, Закутников остановился. Ему хотелось совершить что-то значительное, самому сбить самолёт или спасти кого-нибудь от смерти. Батурин, не обращая внимания на лейтенанта, действовал спокойно и уверенно, как на учебных стрельбах, будто вокруг вовсе не рвались бомбы. — Разрешите вас заменить, товарищ комиссар? — спросил Закутников. Комиссар сердито посмотрел на него: — Давай на свой пост! Что с рукой-то? Закутников хотел ответить, что это пустяки, но не успел. Взрывная волна сбила его с ног. Он откатился к фальшборту и ударился головой о стойку. Очнулся Закутников уже в кают-компании, превращённой в госпиталь. У стола, покрытого клеёнкой в бурых пятнах, стоял врач. Руки его были до локтей измазаны кровью. Не оборачиваясь, он крикнул: — Доложите командиру: убитых — сорок шесть, в том числе комиссар Батурин. Раненых — семьдесят восемь. Арсеньев стоял на кормовом мостике, зажав в зубах давно погасшую папиросу. Обломки искорёженного металла покрывали палубу. У разбитых орудий лежали трупы. Санитары не успевали уносить раненых в переполненную кают-компанию. А с запада надвигалась новая волна бомбардировщиков. Внизу, в котельных отделениях, в трюмах и жилых помещениях, шла борьба ещё более ожесточённая — борьба с водой, которая врывалась через пробоину в носовой части. Арсеньев послал туда всех свободных от ведения огня. Одной из аварийных групп командовал мичман Бодров. Здесь, в глубине, бомбёжка была ещё страшнее. Корпус корабля сотрясался от близких разрывов. Люди падали с ног, чтобы тут же вскочить и снова из последних сил подпирать брёвнами водонепроницаемые переборки, которые прогибались под напором воды. Отступая из отсека в отсек, Бодров со своей группой яростно продолжал отстаивать жизнь корабля. — А ну, нажмём, хлопцы! Дальше вода не пойдёт! — кричал Бодров, но вода неумолимо появлялась во всех помещениях. Она пробивалась сквозь щели, подкрадывалась снизу к ногам, струйками стекала сверху. Откачивающая система не справлялась. После очередного разрыва погас свет. Бодров включил аккумуляторный фонарь, висевший у него на шее. Ему даже в голову не приходило, что можно подняться наверх. С ожесточением отчаяния он продолжал командовать, веря, что если Арсеньев не отзывает его, то значит есть ещё какая-то надежда на спасение. Дифферент на нос увеличивался, носовая часть корабля уходила под воду, но одна из турбин продолжала ещё работать, и корабль двигался вперёд — на восток — курс 90, как приказал командир. Но вот остановилась машина. Бодров выпрямился и прислонился к переборке. Сзади по тёмному коридору кто-то пробирался ощупью. Он услышал голос Косотруба: — Мичман! Все наверх! Бодров почувствовал вдруг непреодолимую усталость. Под его ногами уже струилась вода. — Кто приказал? — Командир корабля. Все наверх, говорят вам! Пропустив всех вперёд, Бодров отбросил гаечный ключ, который держал в руках, и последним поднялся на палубу. Здесь было тихо. Уже не стреляли орудия. Лидер «Ростов» превратился в неподвижную мишень, покачивающуюся на волнах. В кают-компании раненые и мёртвые лежали вповалку на палубе, на столах, в проходах. Обессилевший доктор накладывал повязку на размозжённое бедро полуголого моряка, а тот уже не стонал, а только порывисто втягивал в себя воздух. Лёжа на столе у борта, Зимин отдраил иллюминатор и выглянул наружу. Он увидел вдали несколько бомбардировщиков. Едва превозмогая боль, Зимин снова задраил иллюминатор, встал на ноги и сказал: — Наверх! Те, кто мог хоть немного двигаться, вместе с доктором начали подниматься наверх. Поддерживая друг друга, они карабкались по трапу, скользкому от крови. Опираясь на обломок железного поручня, Зимин выбрался на палубу. Один из самолётов пошёл на корабль бреющим полётом, стреляя из пушек и пулемётов. Зимин почувствовал, что ему обожгло плечо, и в тот же момент он увидел, как флаг корабля, сорванный осколком с гафеля грот-мачты, упал на палубу. Зимин рванулся вперёд, но не удержался на ногах и свалился грудью на штормовой леер, вцепившись в него обеими руками. К флагу уже бежали со всех сторон. Бодров поднял его и передал на кормовой мостик. Лейтенант Николаев укрепил флаг на конце ствола зенитного автомата. Кто-то из матросов тут же начал вращать маховик подъёмного механизма. Все, кто ещё держался на ногах, повернулись к флагу. Их было человек сорок, а то и меньше. Они тесно сошлись вокруг орудия с флагом: Зимин, Николаев, Закутников, странно повзрослевший за это утро. Рядом с ним Бодров, матросы — Клычков, Гуляев в изодранных кровавых фланелевках. Кровь была всюду — на мокрой палубе, на поручнях и переборках, на замках разбитых орудий, даже на кормовом флаге, потому что в крови были руки боцмана Бодрова. Ветер расправил ленточки на бескозырках с золотой надписью «Ростов» и развернул бело-голубое полотнище над тонущим лидером. — Справа десять — корабли! — закричал, срывая голос Косотруб. Эсминцы из группы прикрытия самым полным шли навстречу лидеру, но они были слишком далеко, чтобы успеть. Арсеньев даже не обернулся на крик сигнальщика. Он видел только два «Юнкерса-87», которые разворачивались на боевой курс. — По самолёту! — крикнул Арсеньев. Николаев, Клычков и Гуляев кинулись к последнему уцелевшему зенитному автомату. Застучали выстрелы. Пикировщик с воем обрушился на корабль. Если бы эсминцы, спешившие на выручку, были ближе, с них могли бы увидеть, как от прямого попадания бомбы «Ростов» переломился пополам. Носовая часть тут же пошла ко дну, а кормовая, с обнажившимися винтами, все ещё держалась на плаву. С кормового мостика грохотали выстрелы зенитного автомата. Когда второй «юнкерс» спикировал на эти обломки корабля, снаряд угодил ему прямо в моторную группу. Самолёт взорвался в воздухе, даже не долетев до воды. Это был последний выстрел «Ростова». В дыму и огне уже ничего нельзя было разобрать, но на поднятом в зенит орудийном стволе все ещё развевался бело-голубой флаг с красной звездой. 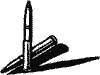 ГЛАВА II МОРЯКИ 1. ЭТО НЕ ПОЛ, А ПАЛУБА 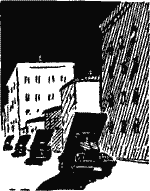 Сержант Сомин лежал на нарах в тёмной комнате и смотрел в окно. За окном тоже было темно и только изредка вспыхивали голубые затемнённые фары. Справа и слева от Сомина лежали такие же, как и он, люди в измятых летних гимнастёрках. Пахло мокрыми шинелями, новыми кирзовыми сапогами и ещё чем-то, очень противным. «Закурить, что ли?» — Он полез в карман, но вспомнил, что махорка кончилась ещё вчера. «До каких же пор мы будем здесь торчать!» — Отвернувшись от окна, Сомин закрылся с головой шинелью, и сразу она отгородила его от внешнего мира, а воспоминания двинулись в путь сами собой. В девятнадцать лет детство кажется очень далёким, гораздо дальше, чем это бывает в более зрелом возрасте. Картины родного города, излучина реки, дом под красной крышей и собака во дворе промелькнули мгновенно. Потом Володя Сомин увидел себя уже в Москве студентом первого курса истфака. Москва в представлении Сомина была неразрывно связана с Маринкой. Просто нельзя было себе представить, чтобы она не жила в этом городе. А сейчас Маринки нет, и неизвестно, где она. Как только Сомину пришло в голову страшное слово «эвакуация», все, что было до начала войны, отодвинулось на задний план, словно это происходило с кем-то другим — милый неправдоподобный рассказ о чем-то далёком. Три месяца в армии были отдельной, новой и единственно реальной жизнью, хотя за это время Володя не видел ни одного фашиста, кроме тех, что были изображены на погрудных мишенях в учебном полку. Попытавшись припомнить первые дни войны, раньше всего он увидел мешки с песком, загораживающие витрины. На стенах домов намалёваны маскировочные клумбы и деревья. Первый плакат: Гитлер просунул своё рыло сквозь разорванный договор, а красноармеец всадил ему в лоб русский четырехгранный штык. Воспоминания тех дней были очень чётки, но не многочисленны. Память отбирала только то, что действовало сильнее всего. Например, первая бомба, разорвавшаяся в переулке, и оконные рамы, лежащие в комнате на полу. Или длинный зеленоватый «юнкерс» на площади Свердлова. Володя старался тогда представить себе, как падал этот самолёт, когда его сбили наши зенитчики. Вскоре ему самому пришлось стать зенитчиком. Он видел себя шагающим на призывной пункт по пустынному утреннему переулку. На стенах чернели надписи: «Бомбоубежище». На Володе была клетчатая кепка и новый костюм, а за плечами — туристский рюкзак, набитый до отказа. Впоследствии, за исключением авторучки и безопасной бритвы, не понадобилась ни одна вещь из взятых с собой. Все пришлось отослать. В учебном полку были разные люди. Много таких же первокурсников, как Володя, которые воображали, что их сразу же пошлют на передовую. Были и люди постарше. Всех собрали в клубе. Володя подошёл к репродуктору и включил его. Передавали какой-то марш. Хмурый командир с одной шпалой на петлицах преспокойно вытащил штепсель, смерив неодобрительным взглядом узкоплечего, худощавого паренька с чуть припухлыми губами и круглым подбородком. На его лице не было еше ни одной морщинки. Светлые глаза сердито смотрели на командира. «Ничего, обтешешься!» — подумал капитан. — Как ваша фамилия? — спросил он. — Моя? Сомин. Сомин стоял перед капитаном, заложив за спину тонкие руки. На щеках у него выступил румянец. Густые брови насупились. — Учтите себе, красноармеец Сомин, с этой минуты ничего здесь не делается без разрешения. Ясно? Этот урок красноармейцу Сомину пришлось повторять ещё не раз, но в общем в учебном полку ему понравилось. Он легко вскакивал в пять часов по окрику «Подъем!» и бежал в трусах на зарядку. Строевая, матчасть, стрелковая подготовка, уставы… Кажется, он неплохо усвоил за три месяца эту науку. Во всяком случае разбирался не хуже сержанта, командира отделения. Черт бы его побрал! Тупой попался парень, и чем не понравился ему Володя с первого дня? Наряд за нарядом — то за нечищеные сапоги, то за опоздание в строй на четверть минуты. Ну да ладно. Сейчас я сам сержант. Только нашу пушку мы изучали плохо. Ни разу не пришлось выстрелить, зато чистить и протирать — сколько угодно. «Попадёте в часть — доучитесь!» — успокаивал лейтенант. А где она, эта часть? Вот уже третью неделю валяюсь тут на формировочном. Казарменный двор бурлит как котёл. Батареи формируются, получают матчасть и отправляются на фронт, а оттуда прибывают оборванные дикие люди, которые рассказывают страшные истории: «Немцы прут! Ничто не может их сдержать. У них много танков. Наши пушки не пробивают их броню». Такие разговоры приходилось слышать ежедневно, лёжа на голых нарах в тёмной казарме или стоя в тесноте где-нибудь в коридоре, ожидая очереди в столовую. Кормили два раза в день, потому что кухня не поспевала. Времени свободного — хоть отбавляй. Валяйся на нарах от подъёма до отбоя. В город не отпускали, но на тех, кто отлучался, смотрели сквозь пальцы. Лишь бы явился к вечерней поверке. Можно вдосталь походить по Москве. «…А Москва становится все более хмурой. Без конца идут грузовики с солдатами, а сверху из окон падает на них чёрный снег. Это в учреждениях жгут архивы. Говорят, не сегодня-завтра немцы ворвутся в Москву. А чем защищаться? Палками? Оружия на формировочном пункте — ни у кого, кроме часовых. Поскорее бы попасть в строевую часть, в какую угодно. Лишь бы было оружие и командиры, которые знают, что нужно делать. А кому воевать, у нас найдётся!» — думал он. — Вот сегодня послали регистрировать призывников. Сводчатый потолок огромного зала тонул во мраке. Над столиком слабо мерцала лампочка. Сомин сидел, зажатый со всех сторон людьми в гражданской одежде. Это были в большинстве случаев молодые деревенские парни. В полутьме они все казались на одно лицо. От усталости ручка выпадала из пальцев. А он писал, писал и писал на длинных серых листах: «Фамилия? Имя? Год рождения? Каким военкоматом призван?..» Сквозь монотонный гул толпы доносился рокот моторов — очередная батарея отправлялась на фронт. «Фамилия? Имя? Год рождения?.. Когда же я?» Он возвратился к себе на нары, разбитый физически и душевно. Спать он не мог. Мешали духота и мысли. Главным образом — мысли. Володя откинул шинель и снова вытянулся на спине, положив руки под голову. Какой-то пожилой солдат рассказывал о фронте. В темноте мелькала ярким пятнышком его цигарка. Солдат говорил о «бешеной артиллерии». Сначала Сомин не обращал внимания. Ему надоели эти рассказы о немцах и их вооружении. Но скоро он начал прислушиваться. Речь, оказывается, шла не о немецкой, а о нашей артиллерии. На передовой появились какие-то новые пушки. Этих пушек немцы боялись. Солдат взмахнул рукой, и огонёк его цигарки вскинулся высоко вверх: — Бешеная артиллерия! Она все сжигает. Даже танки. Громадные машины вдруг приезжают на передовую, и тут же начинается такой грохот, будто бьют сто артполков.. Огонь летит по небу, а потом сразу становится тихо, и неприятель долго ещё не стреляет с той стороны. А машины уже ушли. Раз! — и нету. А на том месте, где они были, остаётся чёрная выгоревшая трава. Рядом с Соминым лежал шофёр Ванька Гришин. До войны он работал слесарем на заводе «Компрессор». Познакомились они уже здесь, на формировочном. — Брешет! — сказал Гришин. — Заливает. — А может быть… — И, говорят, весь расчёт погибает, когда та пушка стреляет, — продолжал рассказчик. — Одно слово — бешеная артиллерия. Никто не стал с ним спорить. Гришин пошёл в коридор раздобыть у кого-нибудь на закурку, а Володя лежал и думал об этом непонятном роде войск. «Вот бы попасть туда. Невозможно, чтобы расчёт погибал при ведении огня. Ерунда!» Глаза слипались. Может быть, это все только пригрезилось в полусне? Его разбудил чей-то громкий голос. Посреди комнаты стоял молодой командир в чёрной форме с золотыми нашивками на рукавах. — Есть здесь зенитчики, спрашиваю? — повторил он. — Забираю в моряки! За ним стояло двое матросов с наганами и плоскими штыками в ножнах на поясе. Гришин тоже не спал. Он толкнул Володю в бок: — Пойдём? — Так ты ж не зенитчик. — Все равно. Лучше, чем валяться здесь на нарах и слушать всякую муру. У них — сразу видно — порядок. — А бешеная? — Черт с ней! — Пошли! Сомин слез с высоких нар и подошёл к командиру в чёрной шинели: — Товарищ командир, я хочу быть моряком! Ясные, доверчивые, широко открытые глаза уверенно смотрели на командира. — Будете! — ответил он. Моряки, как видно, спешили. Командир быстро отобрал человек десять и записал их фамилии в блокнот. — Бумаги оформят без вас. Клычков, проводите к машине! Коренастый круглолицый матрос сделал шаг вперёд: — Есть, проводить пехоту к машине! Командир окинул его суровым взглядом: — Проводите матросов к машине. Ясно? — Ясно, товарищ лейтенант. Грузовик мчался по пустынным улицам. По тёмному небу метались бледные полосы прожекторов. С крыши Главного почтамта били зенитки, и их разрывы вспыхивали во мраке. Машина круто повернула у Кировских ворот. — Вот тебе и матросы! Никогда не думал, — сказал Гришин. Потом он обратился к моряку: — Слушай, Клычков, так тебя, кажется? — С утра был Клычков. — Ты скажи, на каком море будем воевать? — Там увидишь. Недалеко. Ехать оказалось действительно недалеко. Машина вкатилась во двор, просторный, как площадь. В большой комнате прибывших встретил широкоплечий моряк с боцманской дудкой на шее: — Скидайте мешки и шинеля! — Прямо на пол? — спросил Гришин. Клычков хрипло хихикнул. Боцман сердито посмотрел на него и ответил Гришину: — Запомни себе раз навсегда: это не пол, а палуба. Мешки и шинеля в руки — и вверх по трапу в каптёрку. Получите робу — и в баню. Клычков, бегом на камбуз. Передашь коку приказание накормить, а после ужина проводишь матросов в кубрик номер четыре. И смотри, чтобы без всякой твоей травли! Поток непонятных слов ошеломил Володю. Гришин хотел было расспросить, как это все называется по-русски, но разговаривать было некогда. Через пятнадцать минут, выйдя из-под горячего душа, они уже надевали новую форму — темно-синие фланелевки, чёрные брюки. Круглая и красная, как медный таз, безбровая физиономия Клычкова расплылась в улыбке: — Не так ремень надеваешь! В правую руку бери пряжку, чтоб якорь лапами книзу. Эти слова относились к неуклюжему, медлительному украинцу Писарчуку. Писарчук невозмутимо снял ремень и надел его как надо. В этот момент вбежал худощавый матрос. Бескозырка тончайшим блином чудом держалась на его рыжеватых вихрах. Легко перепрыгнув через барьер, отделявший душевую, он подошёл к Сомину и протянул руку. — Валерий Косотруб. Сигнальщик. А ты кто? — Сомин Владимир. Артиллерист. Косотруб поздоровался со всеми. Он сразу понравился своей ловкостью и слаженностью. — Не тушуйтесь, ребята, — говорил матрос, сдвигая ещё дальше на затылок свою бескозырку. — Порядок! Пошли на камбуз. Слово «порядок» повторялось тут довольно часто, и надо сказать — не зря. Здесь во всем чувствовался твёрдо заведённый и строго соблюдающийся порядок. В казармах, или, как их здесь называли, кубриках, вдоль стен стояли двухэтажные койки с белоснежными простынями. Напротив матово поблёскивали в пирамидах винтовки. Посреди комнаты на столе — станковый пулемёт. В коридоре висели часы. Толстые, как бочонок, с необычайным циферблатом, разделённым на двадцать четыре части. Этим часам подчинялось все. Утром, стоя в строю с новеньким карабином у ноги, Володя впервые увидел командира части. Капитан-лейтенант Арсеньев говорил негромко, но очень чётко. Строгий, подтянутый, тщательно выбритый, с крутым подбородком и широко открытыми немигаюшими глазами, он создавал впечатление суровости и скрытой внутренней силы. Именно таким Володя представлял себе командира-моряка. Арсеньев подошёл к строю и принял рапорт вахтенного. По выражению холодных серых глаз нельзя было определить, какое впечатление произвели на него новые бойцы. Командир части не сказал им ни слова, только внимательно осмотрел каждого. У него в те дни было много забот. В ближайшее время — через неделю или через час — предстоял выход на фронт. После построения новых бойцов собрал комиссар части Яновский. Это был плотный человек среднего роста, с красно-золотыми нашивками батальонного комиссара на рукавах. Лицо у него было строгое. Твёрдые губы крепко сжаты, брови чуть нахмурены. Зато глаза — добрые, небольшие, золотисто-карие. Сомин сразу обратил на это внимание. — Рассаживайтесь по банкам! — комиссар указал на скамьи, стоявшие у стены. — Привыкайте к нашей морской терминологии. Вы теперь — моряки. Не забывайте об этом. Дело, конечно, не в морских словечках и даже не в форме одежды. Вам доверены традиции русского флота: отвага, верность, единство. Вот что всегда свойственно морякам. Вы теперь матросы Отдельного гвардейского миномётного дивизиона моряков. Сомин не мог удержаться от гримасы недоумения: «Миномётный? А я-то при чем?» Он видел мельком миномёты. Труба на круглой плите — и только. Комиссар заметил недоумение сержанта, но не прервал своей речи. Только в углах небольшого рта с чётко очерченными губами мелькнула едва заметная усмешка, а глаза заблестели весело и молодо. Но тут же его лицо стало по-прежнему сурово озабоченным. — Гвардия, да ещё морская! Вы понимаете, что это значит? Матросы нашей части заслужили это высокое звание в бою. Здесь есть люди с геройски погибшего корабля «Ростов». Среди них — командир нашей части капитан-лейтенант Арсеньев. Есть у нас балтийцы и североморцы. Сам я служил в береговой обороне на Тихом океане. Кое-кто, как и вы, пришёл из сухопутных частей, но это ничего не значит. У нас все теперь — моряки, а воевать будем на суше — защищать Москву. Сейчас вас распределят по подразделениям. Помните: времени очень мало. Старайтесь поскорее освоить технику, потому что в любой момент мы можем понадобиться. Вот и все. Желаю успеха, товарищи моряки! Комиссар снова улыбнулся одними глазами и уголками губ, а Сомин подумал, что под командованием этого человека будет хорошо воевать. Именно о таких начальниках он мечтал, лёжа на формировочном пункте в тяжкие дни ноябрьского наступления на Москву. «Теперь повоюем, гвардия! — сказал он сам себе. — Только бы не ударить лицом в грязь в первые же дни!» Об опасности он не думал, потому что ещё не представлял себе реально, что такое бой. Страха смерти не было. Была только неясная тревога: «А сумею ли я, как они?» Ему казалось, что все здесь — настоящие герои, начиная от командира и комиссара, кончая весёлым сигнальщиком Косотрубом, и от этой мысли на душе становилось спокойно и легко. Володю Сомина и Писарчука назначили в расчёт зенитно-противотанковой пушки, а Ваню Гришина в походную ремонтную мастерскую «летучку». Подразделения отправлялись на занятия. Через распахнутое окно вместе со свежим, холодным воздухом влетала песня: Гвардейцы-миномётчики идут вперёд, За наше дело правое, за наш народ… 2. РАИСА СЕМЁНОВНА Уже в первый день Володя обратил внимание на то, что здесь очень часто упоминают какую-то Раису. Что бы это могло значить? Кто такая эта женщина? Некоторые почтительно именуют её Раисой Семёновной. На складе новоприбывшим выдавали оружие. У порога матрос вскрывал широким штыком ящики. Там, завёрнутые в промасленную бумагу, лежали гранаты. Прямо на полу высились штабеля цинковых коробок с патронами. У стены синели стволы карабинов. С неба падали редкие снежинки. Они залетали в распахнутые двери склада и оседали звёздочками на воронёной стали, покрытой толстым слоем смазки. — Мороз, однако! — Кладовщик подул на красные руки и снова стал вынимать гранаты из ящика. — Расписывайся, Сомин, получаешь на весь расчёт: восемнадцать гранат РГД, запалы к ним, а эти держи отдельно, по дороге занесёшь Шацкому. Знаешь его? — А где этот Шацкий? — Там, у Раисы. Смотри, куда показываю! — Где? — Володя посмотрел, но не увидел никакой Раисы. Около громадной, скошенной назад машины, под тугим брезентом, несколько матросов разбирали гранаты. Сомин не стал задавать вопросы. Он пошёл, куда указывали, передал взрыватели, потом спокойно свернул самокрутку и чиркнул спичкой. Шацкий — здоровенный матрос с открытой, несмотря на мороз, грудью, вырвал папироску из рук Сомина. — Не курят у Раисы. Не знаешь, что ли, салага! — Ты, полегче на поворотах! — Иди, иди! — Шацкий притоптал папироску ногой. — В следующий раз закуришь здесь — банок нарублю! — беззлобно добавил он. Под приподнятым брезентом раздался смех. Сомин заглянул туда. Он увидел какие-то железные балки. Сверху на них лежали длинные, почти в человеческий рост, матовые снаряды с хвостовым оперением. Они напоминали изображение межпланетного корабля из фантастического романа. Двое матросов возились с отвёртками и ключами… Шацкий уже забыл о Сомине. Его голос раздавался из высокой кабины автомашины: — Рубильник выключи! Проверьте контакты! Сомин не стал больше задерживаться. «Так вот оно что!» Когда-то до войны он слыхал о проектах электропушки «Должно быть, это она и есть. Здорово придумали: Раиса Семёновна! А почему не Мария Ивановна?» И вдруг он вспомнил о «бешеной артиллерии». «Ну, конечно, это она! Вот здорово!» Пересекая наискосок широкий двор, он прошёл мимо нескольких таких же машин. Поодаль стояло ещё четыре. В стороне выстроились полуторки, гружённые длинными ящиками. Около них вышагивал часовой. «Интересно, почему именно меня послали расписываться за гранаты? — размышлял Сомин. — Ведь есть командир орудия, старшина Горлопаев». Горлопаев произвёл на Сомина неважное впечатление. Артиллерийских команд он не знал. Ребята все время путались в установке данных. «Крику много, а толку мало. Вот это уже не по-морскому», — решил Сомин. Весь расчёт был из сухопутных частей. Левый прицельный, Белкин, спокойный и сосредоточенный парень, ловко справлялся с установкой курсового угла, а правый — Писарчук, прибывший вместе с Соминым, никак не мог понять путаных объяснений Горлопаева. Командира батареи Сомин ещё не видел. Он должен был прибыть в ближайшие дни. Володя передал гранаты и запалы Горлопаеву и хотел уже взобраться на платформу грузовика, где была установлена знакомая автоматическая пушка, но командир орудия послал его к комиссару: — Срочно вызывает. Бегом! В штабе стучала машинка. Писарь заливал красным сургучом объёмистые пакеты. Из полуотворённой двери кабинета командира части доносился голос комиссара: — Это будет неправильно, Сергей Петрович. Нельзя так. Ты ведь коммунист? Так? — Я, Владимир Яковлевич, действую так, как привык на флоте, и ты мне… — Дверь захлопнулась. Спустя несколько минут вышел комиссар. На его щеках выступил лёгкий румянец. Брови насупились. Тонкие губы были плотно сжаты. — Товарищ гвардии батальонный комиссар, гвардии сержант Сомин по вашему вызову явился! Комиссар перестал хмуриться: — Это хорошо, что явился. Только являются обычно чудотворные иконы или образ любимой девушки во сне, а гвардии сержанты по вызову начальника прибывают. Садитесь, Сомин. Машинка перестала трещать. Яновский осмотрел Сомина с ног до головы: — Бляха у вас не начищена, пуговицы тоже. Надо относиться с уважением к своей форме. — Некогда было, товарищ комиссар. С утра пошёл на склад… — Не перебивайте. Сейчас у вас времени будет ещё меньше. Вы назначены командиром зенитно-противотанкового орудия, а Горлопаев будет старшиной батареи. Справитесь? Сомину стало страшновато. Ведь он ни разу не вёл огня из орудия, устройство его знает главным образом теоретически, и потом — будут ли слушаться его бойцы? Но гордость не позволила сказать об этом комиссару. Он ответил уверенно и даже развязно: — Справимся, товарищ гвардии батальонный комиссар. Прикроем вашу Раису Семёновну. Лицо комиссара снова стало суровым: — Никакой Раисы Семёновны нет. Забудьте это! — А как же называть эту самую электропушку? Комиссар прошёлся по комнате. — Товарищ Сомин, нашему дивизиону моряков доверили новое мощное оружие. Придёт время — вы узнаете его устройство, и не повторяйте глупых названий, потому что они могут помочь врагу узнать наш секрет. Есть одно название: боевые машины. Ясно? Теперь о вас. Знаю, что вначале будет трудно. Поможем. Ведь вы комсомолец, товарищ Сомин? Снаружи раздался протяжный рокочущий гул, словно вспыхнула целая тонна киноплёнки. Комиссар изменился в лице и, схватив фуражку, выбежал из штаба. Начальник штаба — долговязый майор Будаков расправил рыжие усы, неторопливо надел шинель и тоже пошёл к дверям. — Пойдёмте, сержант, — сказал он, — там, кажется, что-то произошло. Случайный выстрел из боевой установки взбудоражил весь дивизион. Звонили телефоны, из города примчалась машина с незнакомыми военными. Вокруг выстрелившей установки, покрытой обгорелым брезентом, стояли командиры и матросы. Бледный старшина 2-й статьи Шацкий не мог ничего объяснить. Они тренировались, как обычно. К орудию никто из посторонних не подходил. И вдруг — выстрел. Снаряд, прорвав брезент, скользнул над крышами и исчез. У Шацкого дрожали руки. Он сразу сгорбился и поник. Санитары увели под руки бойца, у которого при выстреле было обожжено лицо. — Довоевался, матрос! — сказал Будаков, засунув жилистую руку за борт шинели. — Арестовать! Вахтенный командир подтолкнул онемевшего Шацкого: — Сдайте наган, Шацкий. Пошли! Командир и комиссар осматривали выстрелившую установку. Уже стало известно, что снаряд, к счастью, упал на пустыре, но все-таки то, что произошло, было ужасно. Ещё не вступив в бой, дивизион имел чрезвычайное происшествие, да ещё какое: выстрел в Москве из секретного оружия. В кабинете командира части майор Будаков говорил, ритмично постукивая ладонью по столу: — Вывод ясен. В дивизионе орудует враг. Я считаю, первое: пока прекратить занятия на боевых машинах, второе — проверить через особый отдел весь командный состав, а командира батареи Николаева отстранить — до выяснения. Арсеньев с трудом скрывал своё волнение. Он знал, что, если даст себе волю, им овладеет приступ неудержимой ярости, и тогда сгоряча можно наделать бед. Пусть выскажет своё мнение комиссар. Но и комиссар молчал, желая прежде выслушать командира. Они внимательно присматривались друг к другу уже около месяца, с тех пор как им поручили возглавить гвардейский дивизион. Арсеньев все время ждал, что комиссар попытается ограничить его права. Он очень резко реагировал на каждое замечание, хотя в глубине души понимал, что комиссар большей частью прав. Так было, когда встал вопрос о пополнении дивизиона из сухопутных частей. Арсеньев возражал: — Я привык иметь дело с моряками. — Вот ты и преврати в моряков этих сухопутных артиллеристов, зенитчиков, шофёров, — спокойно говорил комиссар. — А когда понесём потери в бою, тоже будешь ждать пополнения с флота? Победа осталась тогда за комиссаром. Начальник штаба Будаков во всех случаях поддерживал Яновского, а наедине с ним не упускал возможности отметить какую-нибудь оплошность командира. — Пойми, Александр Иванович, — спокойно объяснял комиссар. — Арсеньев — наша гордость. Лучшего примера для матросов не найдёшь. Человек он геройский, к тому же очень способный. Наше дело — возможно выше поднять авторитет командира, а недостатки есть у каждого. Горяч! — Знаю. Суров, даже мрачен не в меру, но и это понятно после всего пережитого. А то, что взыскателен и строг, — хорошо! И ты мне плохо о командире не говори. Арсеньев ничего не знал об этих разговорах, но чувствовал, что начальник штаба поддерживает комиссара. «Сейчас комиссар выступит против меня, — думал он. — Но лейтенанта Николаева я не отдам, а прекратить занятия не позволю». Яновский, наконец, начал говорить, и Арсеньев сразу понял, что комиссар одного мнения с ним. — Ты, Александр Иванович, проявляешь не бдительность, а мнительность. Нельзя отстранять боевого моряка Николаева. Занятия нужно не прекратить, а усилить, потому что не сегодня-завтра — в бой. Так и решили. Только поздно ночью комиссар зашёл в комнату Арсеньева. Командир не спал. Вот уже много часов он пытался выяснить причину случайного выстрела. Яновский сел рядом с ним: — Вот что, Сергей Петрович, виноваты мы с тобой оба, потому что оба отвечаем за дивизион. Машина была, видимо, в порядке. Её накануне проверяли. Будем считать, что Шацкий не выключил рубильник. С командира установки его придётся пока снять, но чует моё сердце — здесь что-то есть. Будем смотреть в оба. А сейчас иди-ка ты спать. Все равно ничего не придумаешь. Они пожали друг другу руки и разошлись. Но оба так и не спали до утра. 3. ФЛАГ МИНОНОСЦА Утром, ещё в темноте, батареи выходили на строевые занятия. Повороты, строевой шаг, приветствия отрабатывали по отделениям. На морозе голос быстро сдавал. Сомин до хрипоты в горле водил свою восьмёрку по плацу: — Напра-во! Пр-рямо! Шагом… марш! Сомин чувствовал, что командует он плохо. Замёрзшие бойцы ходили вяло, поворачивались вразброд. Наконец весь дивизион выстраивался в одну колонну. Теперь командовал мичман Бодров. Сомин с облегчением становился в строй. Бодрову мороз был нипочём. Его голос был слышен на всем плацу: — Ди-визион… Смирно! — все застывали как вкопанные. — Стр-раевым… Марш! — ревела лужёная морская глотка. Сомин не узнавал своего отделения. Теперь все шли бодро, стройно, с размаху печатая шаг по замёрзшей мостовой. Вот что значит настоящий командир! После завтрака начинались занятия на орудии. Вот тут-то было самое трудное. Как научить этих восьмерых готовить орудие к бою за тридцать секунд? Пока откидывали борта машины, опускали стопора, снимали чехол, подымали ствол и рассаживались по местам, проходило не меньше двух минут. Сомин раздражался, снова давал команду «Отбой!» и повторял все сначала, но выходило не лучше. Подносчик снарядов Куркин — коротышка с маленькими руками и ехидными глазками, которого в дивизионе прозвали «Окурок», — сам имел звание сержанта. Лет десять назад он был на действительной в пехоте и теперь не упускал случая втихомолку подшутить над «командующим». Увалень Писарчук старался изо всех сил, но вечно опаздывал. Он путал цифры скорости и дальности самолёта, пыхтел, краснел и, наконец, махнув рукой в рукавице, оставлял в покое прицельный механизм. Временами Соминым овладевало отчаяние. Ясно — расчёт не способен вести огонь. И это известно пока только ему одному — сержанту Сомину, который не в силах обучить этих восьмерых. Каждый из них сваливал вину на другого. Во время занятий начиналась перебранка. «Огонь» открывали несвоевременно. Наводчики сваливали вину на прицельных, прицельные на наводчиков, а как работают остальные, вовсе нельзя было проверить без стрельбы боевыми снарядами. Сомин возненавидел обойму с деревянными снарядами, которые употреблялись для тренировки, в то время как в зарядных ящиках лежало две сотни боевых снарядов с сияющими медью гильзами и чёрными масляными головками. Теоретически Сомин знал устройство орудия хорошо, но на занятиях матчастью произошёл досадный конфуз. — Вот это затвор, — объяснил Сомин. — Запомните: скользящий, вертикально падающий. Вставляется он так… Видите? Теперь вставляем мотыль… Мотыль не вставлялся. То ли затвор был вставлен неправильно, то ли не совпадали шлицы. Руки в неуклюжих рукавицах не слушались. Упрямые стальные детали никак не лезли в люк люльки. Сзади раздался осторожный смешок Куркина: — Не лезет! — А вы молотком! — посоветовал второй подносчик Лавриненко. Этот Лавриненко был антипатичен Сомину с первого дня. Одевался он неряшливо, то и дело вступал в пререкания и без конца рассказывал дурацкие истории из своей практики железнодорожного проводника. Его жёлтые зубы вечно что-то жевали. — Молотком стукните разок, товарищ сержант, оно и влезет. Сомин только что поранил себе руку. Издевательский совет Лавриненко вывел его из себя. У Сомина вырвалось грубое ругательство, где, помимо бога, упоминалась даже его мамаша. — Причём бог, когда сам дурак? — резонно отпарировал Лавриненко. Все расхохотались. — Преподобный Лавриненко! Не любит, когда бога ругают! — смеялись артиллеристы. Сомин, бледный от ярости, продолжал биться над сборкой стреляющего механизма. Конечно, Лавриненко надо было отчитать как полагается за его реплику, но ведь он сам показал пример, нецензурно выругавшись, а главное — раньше всего нужно было собрать механизм. Старшина батареи Горлопаев уже объявил перерыв. Бойцы соседнего расчёта, натянув на орудие брезент, отправлялись на обед. Из-за угла показался командир части. Сомин подал команду «Смирно!» и бегом бросился доложить. — Товарищ гвардии капитан-лейтенант, расчёт первого орудия зенитно-противотанковой батареи занимается изучением матчасти. В левой руке Сомин держал злосчастный мотыль. Правая, поднятая к головному убору, была измазана кровью. Командир части смотрел на сержанта с нескрываемым презрением. — Почему задержались? Через две минуты задраить орудие! — Он отогнул рукав с золотыми нашивками и взглянул на хронометр. Сомин бросился к орудию. Прицельный Белкин выхватил у него из рук мотыль и сразу вставил его на место. Бойцы уже опускали ствол орудия, подымали борта машины. Громоздкий задубевший на морозе чехол не слушался. Кое-как его, наконец, натянули. Сомин сам завязал кожаные тесёмки у основания ствола и спрыгнул с машины. — Плохо! — отрубил капитан-лейтенант. — Четыре минуты с половиной. Нужно научить, а потом командовать, а не хвататься самому. Иначе вас уничтожат в первом же бою. Делаю вам замечание. После этого случая Сомин решил поделиться своими тревогами с комиссаром. Это было нелегко. Он собирался дня два и, наконец, в свободное время пошёл в штаб. Там его встретил майор Будаков: — Ну, как дела, сержант? — Начальник штаба расправил привычным жестом пушистые усы. — Садись, сержант. На, кури! — Он протянул коробку «Казбека». Сомин уже давно не видал папирос. От махры во рту стояла горечь. «Словно куры ночевали» — как образно выражался Валерка Косотруб. Этот ладный, острый на словцо морячок все больше нравился Сомину. Он даже вытравил в солёной воде свой синий воротник, чтобы сделать его бледно-голубым, как у Косотруба. (Признак настоящего, бывалого моряка). Сомину очень хотелось взять папиросу, но что-то внутри подсказывало: не надо. — Благодарю, товарищ майор. Только что курил. — Ну, как хочешь, — начальник штаба пустил в потолок тоненькую струйку дыма. — Ты мне нравишься, Сомин. Парень культурный ты, выдержанный. Заберу я тебя, кажется, в штаб. — «Ну, нет! — сказал про себя Сомин. — Хоть и неважный я командир, а все-таки артиллерист, а не писарь». Он ответил сухо, вытянувшись, как положено по форме, хотя начальник штаба определённо старался завести неофициальный разговор: — Где прикажут, товарищ майор, там буду служить. Разрешите пройти к комиссару части. Комиссар слушал, не перебивая, взволнованную речь сержанта и думал о том, что этому пареньку не так легко стать настоящим командиром, но все-таки он станет им. А капитан-лейтенанту нужно будет мягко посоветовать не делать замечаний младшему комсоставу при рядовых. — Вот так получается, товарищ комиссар, — закончил Сомин. — Пока что не оправдываю вашего доверия. — Значит, вы просите освободить вас от должности командира орудия. Так я вас понял? — Нет, товарищ комиссар. Я справлюсь обязательно. Я не прошу освободить. Просто я хотел, чтобы вы знали, где в дивизионе слабое место, пока… Комиссар улыбнулся: — Правильно сделали, что пришли. Я знал, что вам будет нелегко, но командиров зенитных орудий у нас нет. Значит, хочешь — не хочешь, а придётся вам стать настоящим командиром-зенитчиком. Завтра прибудет из госпиталя ваш командир батареи. Поговорите с ним начистоту. И вот ещё что: я хочу, чтоб вы провели беседу о защитниках Ленинграда. Материал получите в комсомольском бюро. Секретаря комсомольской организации части Сомин не знал. Он отсутствовал все время, и его замещал военфельдшер — член комсомольского бюро Юра Горич — шумный высокий парень с ослепительными зубами и мускулами атлета. Горич считал, что сделался медиком по ошибке и надеялся стать строевым командиром. Матросы любили его за весёлый характер, отзывчивость и доброту. Комсомольской работой он занимался охотно, хоть и не очень умело. На следующий день, в воскресенье, Сомин пошёл в комсомольское бюро. Лейтенант, сидевший за столом, что-то писал. Когда Сомин открыл дверь, он поднял голову. Лейтенант был ещё очень молод, не старше двадцати двух лет. «Где же я видел это лицо? — вспоминал Сомин. — Высокий, ясный лоб, чёткие брови, светлые каштановые волосы. Ласковые, как у девушки, синие глаза». — Разрешите обратиться, товарищ гвардии лейтенант? Сержант Сомин из зенитно-противотанковой батареи. Мне нужен секретарь комсомольской организации. — Я — секретарь комсомольской организации дивизиона. Лейтенант встал и вышел из-за стола, и тут только Сомин понял, что это был тот самый командир, который привёз его в эту часть. — Мы ведь с вами уже знакомы, товарищ сержант, — сказал он, — а сейчас, надеюсь, познакомимся поближе. — Вы — командир зенитной батареи! — радостно выпалил Сомин. — Совершенно верно. Командир зенитной батареи, Андрей Земсков. К несчастью, открылась рана — продержали в госпитале две недели, а дела у нас на батарее, говорят, неважные. — Совсем плохие дела, товарищ лейтенант. — Ну-ка, садитесь, докладывайте, — он стал сразу серьёзным, и Сомин заметил, что глаза у лейтенанта вовсе не такие уж ласковые и беззаботные. Они проговорили около часа, потом лейтенант встал и надел шинель: — Пойдёмте к орудию, Сомин, хоть сегодня воскресенье. Завтра вы снова покажете расчёту разборку и сборку механизма затвора и сделаете это более удачно. Несмотря на сильный мороз, лейтенант работал без перчаток. — Так удобнее, — сказал он. — Нужно все делать быстро, чтобы руки не успели замёрзнуть. Вы, вероятно, вставляли мотыль этой стороной, а надо вот так… Попробуйте-ка сами. Руки у него, конечно, замёрзли, но он тут же растёр их снегом. — Получается, Сомин? Дальше. Вынимайте затвор. Осторожно! Здесь силой нельзя. Готово? Теперь попробуйте самостоятельно сначала. Следите за шлицами. Так… Хорошо. Пальцы у Сомина уже не сгибались. По примеру лейтенанта он накрепко растёр руки снегом. — Мороз все-таки, товарищ лейтенант, наверно, под двадцать. — Пожалуй, будет. Ну, хватит на сегодня, Сомин, — лейтенант легко спрыгнул с платформы, — задраивайте чехол. Пошли. — Спасибо, товарищ лейтенант, словно камень с души сняли, — сказал Сомин по пути в казарму. — Ведь это так просто делается! — Этих камней, Сомин, у вас ещё попадётся немало. Я буду заниматься отдельно с командирами орудий, пока есть время, а завтра с утра вместе с вами начнём тренировку всех номеров расчёта. Наутро пошёл лёгкий снежок. Стало чуть теплее. После завтрака все подразделения были выведены на плац. Сомин стоял с правого фланга своего отделения. В обе стороны от него вытянулся строй моряков. Горели начищенные бляхи и золотые пуговицы с якорями. С карабинами у ноги бойцы ждали. Бодров прохаживался перед строем, придирчиво приглядываясь к каждому: «Кажется, все в порядке. Моряки — как моряки. И новички — не хуже других. На первый взгляд не отличишь. Впрочем, какие они сейчас новички? — думал мичман. — Три недели в морской части!» Ждать пришлось недолго. По плацу прокатилась команда, и весь дивизион замер. Четыре человека вышли из остановившейся машины и направились к строю. Арсеньев и Яновский пошли навстречу. — Товарищ адмирал, Отдельный гвардейский дивизион моряков выстроен по вашему приказанию! — доложил Арсеньев. Адмирал подошёл ближе. В морозном воздухе чётко прозвучали его слова: — Товарищи гвардейцы-моряки! Вы будете защищать нашу столицу Москву на ближних подступах. Я вручаю вам боевое знамя — кормовой флаг лидера эскадренных миноносцев «Ростов». Этот корабль нанёс врагу жестокий урон, но погиб в неравном бою. Только шесть человек из его команды спаслись. Все они служат теперь в вашей части, которую возглавляет бывший командир лидера «Ростов» гвардии капитан-лейтенант Арсеньев. Будьте достойны флага героев. В боях за Москву сражайтесь так же мужественно и самоотверженно, как они. Смерть немецким захватчикам! Адмирал подошёл к мачте, установленной посреди плаца. У её основания уже был укреплён флаг. Арсеньев приблизился к адмиралу. Он опустился на одно колено, и следом за ним преклонил колени весь строй. Рука капитан-лейтенанта дрогнула, когда он прикоснулся к флагу. Все пережитое недавно вспыхнуло в его сознании. …Николаев укрепил флаг на стволе зенитного автомата, и кто-то тут же начал подымать ствол орудия. Потом спикировал самолёт. Арсеньев слышал его свист, а разрыва бомбы он уже не слыхал. Последним его воспоминанием была шлюпка, вывалившаяся из кильблоков при крене. Она плюхнулась в воду килем вниз, и волна подхватила её. Арсеньев пришёл в себя, когда солнце стояло уже высоко в небе. Он лежал на дне шлюпки, а Бодров пытался влить ему воду в рот прямо из анкерка. Арсеньев приподнялся и увидел лейтенанта Николаева и наводчика Клычкова на вёслах. У кормы полулежали кок Гуляев и Косотруб. — Жив! — сказал боцман. Арсеньев ощупал на себе пробковый пояс и понял все. Корабль погиб. Лидера «Ростов» больше не существует. А его самого кто-то вытащил в бессознательном состоянии. Лучше бы он потонул вместе с кораблём. — Нет «Ростова»… — еле слышно проговорил Арсеньев. Боцман расслышал эти слова. Он поднял со дна шлюпки скомканную мокрую материю: — Мы ещё повоюем, Сергей Петрович, под этим флагом. Мы, шестеро… Издалека доносился перестук зенитных автоматов. Эсминцы из группы прикрытия вели бой с самолётами. Потом выстрелы прекратились. Арсеньев ещё несколько раз терял сознание и снова приходил в себя. Ему казалось, что прошла вечность. На самом деле они провели в этой чудом сохранившейся шлюпке всего несколько часов. Было ещё совсем светло, когда их подобрал один из эсминцев. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Арсеньев поднёс к губам жёсткий край материи и встал. Слезы застилали его глаза в первый и, вероятно, в последний раз в жизни. Огромным усилием воли он оторвался от прошлого и шагнул к адмиралу. Адмирал обнял Арсеньева и крепко по-русски троекратно поцеловал его, потом повернулся к строю: — Моряки с лидера «Ростов», ко мне! Когда Николаев, Бодров, Клычков, Косотруб и Гуляев выстроились с оружием в руках у мачты, адмирал кивнул головой. Арсеньев окинул привычным взглядом строй моряков. Теперь за их спинами лежало не синее море, а скованная морозом площадь. А дальше — крыши, крыши, запорошённые снегом колоколенки и фабричные трубы, теряющиеся в утренней дымке, — окраина великого города, вставшего на боевую вахту в этот грозный час. Арсеньев глубоко вдохнул в себя морозный воздух и подал команду: — Дивизион, на флаг — смирно! Флаг поднять! Опалённый залпами, пробитый осколками, освящённый матросской кровью, Флаг лидера «Ростов» поднялся над окраиной столицы. Шёл декабрь 1941 года. 4. БОЕВАЯ ТРЕВОГА Перед отбоем курили на лестничной площадке. Это было приятное время, когда день уже закончен и ещё остаются свободные полчаса. После вручения дивизиону Флага миноносца Сомину хотелось услышать подробный рассказ о гибели корабля. — А что рассказывать? — снайперски точным щелчком Косотруб послал окурок в урну, стоявшую на другой стороне площадки. — Задание выполнили, отбивались, пока могли. Потом… словом, потопили наш корабль. — Но ты-то как спасся и другие? — Сам не понимаю! Когда от взрыва лидер переломился, я был на кормовой надстройке. Видел, как упал командир. Бодров тут же надел на него пробковый пояс. А лейтенант Николаев все ещё стрелял из зенитного автомата. Тут снова все загудело кругом. Очнулся уже в воде, и мерещится мне вдали шлюпка. Знаю, что мерещится, а плыву. Доплыл все-таки, вцепился в планширь, как черт в грешную душу. Эту шлюпку Бодров заметил. Если б не он — погиб бы капитан-лейтенант. Как закон! И флаг тоже Бодров спас. — Ну, и дальше? — Что дальше? Дальше, говорят, уши не пускают! — внезапно рассердился Валерка, но тут же снова успокоился и добавил обычным своим тоном, не то в шутку, не то всерьёз. — Вот жаль, гитара моя пропала! Ваня Гришин расхохотался: — Вот досада — гитара! Шацкий, мрачный и неразговорчивый после злополучного выстрела, стоял в стороне и слушал. Его допрашивали в особом отделе, а потом снова послали на батарею — в качестве наводчика на ту же машину, где он раньше был командиром. — Так, значит, об одной гитаре жалеешь? — спросил Шацкий, гася окурок. Сомин вступился за Косотруба: — Ни черта ты, Саша, не понимаешь! Души у тебя нет. Тут такой подвиг, что даже говорить о нем трудно… Лицо Шацкого перекосилось: — Ну и молчи, если тебе трудно, а мы — морские люди — меж собой договоримся. Пехота ты задрипанная! Сомин вспылил: — Сам заткнись! Думаешь, если моряк, то уже герой. Видели твоё геройство… Удар под челюсть отбросил Сомина к стене. Он упал, но тут же вскочил и, не помня себя, кинулся на Шацкого. Валерка Косотруб никак не ожидал от Сомина такой прыти. «Убьёт его Шацкий!» — подумал он и бросился под ноги матросу с криком: — Тикай, Володька! Но Сомин не собирался убегать. Он рвался из рук Белкина и Гришина, а Шацкий в ярости молотил кулаками куда попало. Валерка вертелся вокруг него ужом, а осторожный Лавриненко, отойдя в сторонку, наслаждался зрелищем. Он один видел, как в конце коридора показался лейтенант Земсков с повязкой дежурного по части на рукаве. Почувствовав на своём плече чью-то руку, Шацкий резко повернулся, замахиваясь на нового противника. Земсков был вдвое тоньше матроса и чуть пониже ростом. Под взглядом лейтенанта Шацкий опустил руку. Его губы дрожали. — Вы меня сейчас не троньте, товарищ лейтенант. На висках Шацкого вздулись вены. Казалось, он сейчас накинется на лейтенанта, сомнёт его, бросит на землю. Косотруб схватил Шацкого за руки: — Опомнись, громило! Сейчас дров наколешь! — Отпустите, Косотруб! — приказал Земсков. — Что здесь за драка? Лавриненко поспешил доложить: — Вон тот, товарищ лейтенант, — он указал на Шацкого двумя пальцами, между которыми был зажат обсосанный окурок. — Вот он ни с того, ни с сего заехал сержанту по морде. Мало ему того дела с выстрелом! — Бросьте папиросу, когда обращаетесь к командиру! — Земсков отвернулся от Лавриненко и встретился глазами с бледным Соминым, который стирал платком кровь с разбитой губы. — Я сам виноват, товарищ лейтенант, — шагнул вперёд Сомин, — у человека на душе кошки скребут, а тут я наговорил ему всякое такое… — Ладно. Разберёмся. Пойдёмте со мной, Шацкий. Земсков быстро пошёл по коридору. Шацкий вразвалку побрёл за ним. — Вот горячка! — засмеялся Косотруб. — Теперь заработает. Парень не в себе. Ну, да черт с ним — умнее будет. А ты, Володька, имеешь шанс стать моряком. Минут десять курили молча. Снова появился Шацкий. Он подошёл к Косотрубу: — Дай-ка махорки. Косотруб протянул свой кисет: — Ну, как, морячило? Я думал, ты уже на губе! Сколько суток огреб? — Не! — мотнул головой Шацкий. Больше он не сказал ничего. Склянки пробили шесть раз: двадцать три часа. В кубриках, в коридорах раздались крики вахтенных: «Отбой!» Уже лёжа на койке, Сомин пытался восстановить в сознании сцену, которая произошла на площадке. Зла против Шацкого не было. Действительно, не так-то уж он виноват. А Земсков — молодец! Хорошо, что он не арестовал Шацкого. Справедливый человек! Сомин вспомнил, как Земсков провёл занятие по огневой подготовке. Лейтенант командовал, а Сомин поочерёдно замещал все номера расчёта. Потом краснофлотец садился за штурвал или становился к прицелу, а командовал Сомин. Лейтенант терпеливо объяснял, заставлял много раз повторять одну и ту же установку данных. Потом занятия шли всей батареей. А после занятий Сомин и Земсков долго разговаривали, пока бойцы чистили орудие. Лейтенант расспрашивал об университете, а Сомин узнал, что Земсков родом из Ленинграда, что мать его — учительница, а где она сейчас — неизвестно. «Повезло мне, — думал Сомин, — с таким комбатом не пропаду. Только бы не опозориться перед ним. Случай с Шацким — чепуха, а вот когда вступим в бой… Нет, ничего! Теперь все будет нормально. И в конце концов не такой уж я плохой командир». Ровно в четыре часа ночи одновременно во всех подразделениях, в кубриках и на камбузе, в санчасти и на стоянке автомашин, в штабе и в каптёрке раздался сигнал: «Боевая тревога!» Эти слова обрушились, как шквал. Всё, бывшее только что неподвижным, в какое-то едва уловимое мгновенье перешло к бурному целеустремлённому движению. Не успел отзвучать сигнал, как во дворе уже загудели моторы. Едкий дым из глушителей, запах снега, пропитанного бензином, мгновенные вспышки электрических фонарей, двери, распахнутые прямо из тепла казарм в двадцатиградусный мороз… По лестницам бежали люди. Все — вниз — на улицу и никто наверх. Узорчатые протекторы шин врезались в блестящую корку снега. Одна за другой боевые машины трогались с места, вытягивались в колонну. Штабисты грузили в свой фургон папки и ящики, железный сейф, пишущую машинку. Зелёный автобус с красным крестом осторожно выруливал из-за угла здания. Впереди шёл военфельдшер Юра Горич, указывая путь шофёру. Арсеньев и Яновский стояли посредине двора, пояса поверх шинелей, бинокли на шее. Мимо них проходили машины боепитания — полуторки, тяжело гружённые ящиками со снарядами. Следом двигалась летучка — походная ремонтная мастерская. За рулём сидел Ваня Гришин. Ловко развернувшись, он поставил свой громоздкий фургон в хвост грузовикам. — Все готовы? — спросил Арсеньев у начальника штаба. Будаков, невозмутимый, как обычно, доложил: — В первой батарее не заведена одна машина. Не вышло в колонну одно зенитное орудие. На складе заканчивается погрузка. — Камбуз? — Готов. — Он указал на походную кухню, которая на прицепе у полуторки заходила в хвост колонны. В кабине сидел Гуляев. Кок собрал своё хозяйство раньше всех. Даже белый поварской колпак и накрахмаленный передник были уложены в машину. Теперь, в чёрной шинели с гранатами у пояса, с карабином через плечо, кок ничем не отличался от других моряков. Арсеньев подозвал вестового: — Флаг на первую боевую машину. Через две минуты — сигнал движения! У своей боевой машины стоял Шацкий. Теперь ею командовал старшина 2-й статьи Дручков. Ему передали затянутый в чехол Флаг миноносца. Дручков тщательно укрепил древко у правой дверки кабины и виновато взглянул на Шацкого: «Не моя, мол, вина, что не ты командир орудия». Шацкий понял, но чтобы Дручков не подумал, что ему — Шацкому — горько и обидно, начал с безразличным видом обмахивать снег с крыла машины. Зенитно-противотанковые орудия тоже стали на место. Последней тронулась со стоянки машина Сомина. Когда раздался сигнал тревоги, Сомина словно подбросило на пружинной койке. Каждую ночь он ждал этого сигнала, ждал и боялся, что не успеет собраться, что растеряется, не сможет своевременно вывести орудие в колонну. Так оно и получилось. Пока Сомин наспех натягивал сапоги, фланелевку, ватник, его бойцы уже побежали во двор, одетые кое-как. «Преподобный» Лавриненко додумался захватить с собой волосяной матрац. Писарчук последовал его примеру и потащил на орудие свой. С трудом натянув шинель на ватник, Сомин выбежал во двор. Зенитчики уже взобрались на машину. Вещевые мешки, котелки, матрацы лежали навалом на платформе орудия. — Заводи машину! — крикнул Сомин, но водителя не было. Сомин кинулся обратно в кубрик. Шофёр спал на своей койке. Лицо его было иссиня-красным, на руке, безжизненно опущенной до пола, надулись жилы. На соседней койке лежал Куркин — тоже багровый, тяжело отдувающийся во сне. Сомин тряс изо всех сил того и другого, но безуспешно. «Перепились!» — решил Сомин. — В ярости он стащил Куркина с койки на пол. Тот тяжело плюхнулся на спину и раскинул руки. А во дворе уже ревели десятки моторов. Сомин снова побежал к своей машине. В растерянности он даже не заметил, что машина уже заведена. Из кабины выскочил лейтенант Земсков: — Где водитель? Сомин безнадёжно махнул рукавицей в сторону казармы: — Лежит без сознания. Полуторка разведчиков уже вышла за ворота. За ней скользнула голубая «эмка» командира дивизиона. Тронулись боевые машины. Лейтенант крикнул Сомину: — Сейчас пришлю водителя. Приводите орудие к бою. — К бою! — закричал Сомин срывающимся голосом. Борта откинулись, но платформа орудия не поворачивалась. — Вещи мешают, — сказал Белкин, — товарищ серкант, прикажите выкинуть из машины барахло. Снова Белкин помог Сомину. Конечно, веши! Сомин ухватился за матрац, но Лавриненко не выпускал его из рук. — Брось, говорят тебе! Полосатый матрац полетел в снег. Второй матрац выбросил Белкин. Вещмешки положили на место, и платформа легко повернулась. Колонна дивизиона уже вышла за ворота, когда прибежал водитель, посланный Земсковым. Это был старый дружок Сомина Ваня Гришин. С погашенными фарами машины морского дивизиона шли по заснеженным улицам, мимо сугробов, замёрзших окон и обледенелых противотанковых ежей. У Крымского моста остановились. Орудие Сомина развернулось здесь для отражения воздушного налёта, а дивизион ушёл через мост. Ждали долго. Замёрзшие артиллеристы топтались вокруг машины. Когда рассвело, Сомин увидел, что под продольными балками моста подвешены деревянные ящики. Очевидно, мост был подготовлен к взрыву. Каким весёлым и праздничным казался всегда этот мост. Через него шла дорога в Парк культуры имени Горького. Сколько раз вместе с Маринкой они проходили здесь! «Посмотрела бы она сейчас на меня. Толстый ватник, шинель, белый маскхалат, огромные валенки. Хорош!» В своём громоздком снаряжении зенитчики едва двигались. Пояс тяжело оттягивали гранаты, подсумки и штык в ножнах. На боку висел противогаз, через плечо — карабин, на шее — бинокль. Все это связывало движения, болталось, цеплялось за выступающие части орудия. Чтобы взять в руки карабин, нужно было раньше снять каску, надетую на шерстяной подшлемник, оставляющий открытыми только глаза. Спереди подшлемник превратился в ледяную маску, к тому же он плотно закрывал уши. Не удивительно, что бойцы не слышали друг друга. В этом снаряжении, словно специально придуманном для того, чтобы неудобно было работать на орудии, каждое движение требовало усилий. — Вот зараза! — ворчал «преподобный» Лавриненко. — Даже до ветру сходить невозможно! Но все это было ещё ничего. Сомин решил попробовать, смогут ли его бойцы открыть огонь. Сорвав обледенелый подшлемник, он скомандовал: — К бою! — и, указав рукой направление цели, начал, как на тренировке, выкрикивать данные: — Дистанция двадцать! Скорость восемьдесят! Курс… Наводчики изо всех сил налегли на штурвалы, но орудие не проворачивалось. Сомин в сердцах сбросил с себя карабин и противогаз. С трудом взобравшись на машину, он пытался сам повернуть орудие, но тщетно. — Опять ваши мешки мешают! — закричал он. Но все мешки были аккуратно сложены сзади. — Смазка загустела, замёрзла совсем, товарищ сержант, — тихо сказал Белкин. Через мост промчалась в обратном направлении машина разведки. Валерка Косотруб крикнул, перегибаясь через борт: — Эй, на шаланде! Усы не обморозили? Замёрзшие зенитчики не отвечали на шутку. «Этому черту — Валерке — хоть бы что, — подумал Сомин, — мороз его не берет и снаряжение не мешает». Вслед за полуторкой разведки шли боевые машины. На крыле одной из них стоял лейтенант Земсков. Спрыгнув на ходу, он приказал Сомину: — Следовать за колонной. Через полчаса дивизион был уже в казармах. В кабинете командира части шёл разбор учебной тревоги, а в столовой дневальные не поспевали разносить миски со щами и жирной бараниной. Только теперь Сомин узнал, что произошло с шофёром и Куркиным. В санчасти установили, что они напились антифриза. Шофёр скончался к утру, а Куркина едва откачали. Вероятно, он поглотил меньшее количество этой жидкости. — Отличились, Сомин! — сказал комиссар. — Кто должен следить за вашими бойцами? Вы понимаете, что не выполнили боевого задания? Что за это полагается? — Трибунал, — мрачно ответил Сомин. Рядом стоял лейтенант Земсков. Разговор с комиссаром был у него несколькими минутами раньше. Это видно было по лицу лейтенанта. Когда командир батареи и сержант вышли от комиссара, Земсков не сказал Сомину ни слова. Он пришёл в офицерское общежитие и, как был в шинели, с биноклем и пистолетом, лёг на свою койку. «Не доглядел!..» А Сомин, забравшись под одеяло, не думал ни о чем. Мысли оцепенели. Потом, уже в полусне, отогревшись, он приподнялся на койке и тихо сказал, глядя на своих спящих подчинённых: — Никакой я не командир… — Он вспомнил, как Арсеньев принимал от адмирала Флаг миноносца, и ему стало совсем горько. Но сон все-таки был сильнее. Сомин хотел представить себе нахмуренное лицо комиссара, но не смог. Он уже покоился в том густом свинцовом сне, который не знает ни мыслей, ни сновидений.  ГЛАВА III МОСКВА — ЗА НАМИ 1. ПЕРВЫЙ ЗАЛП  Тревоги теперь бывали часто. Громовой окрик вахтенного: «Боевая тревога!» раздавался то во время обеда, то под утро, перед самым подъёмом. Он заставлял людей вскакивать из-за стола, отбросив ложку, или скатываться кубарем с постели. Дивизион жил по «готовности № I». Моторам не давали остыть. Ночью каждые два часа их прогревали. Этот сдержанный рокот среди ночи не позволял даже во сне забыть о том, что часть с минуты на минуту могут вызвать на фронт. Спали одевшись, с гранатами, с пистолетами, с уложенными вещмешками под головой. Надрывно выли сирены. Их заунывное пение уже не пугало. Оно раздражало. Газетные шапки бросались в глаза чёрными крупными буквами: «Кровавые орды фашистов рвутся к Москве. Остановить и опрокинуть смертельного врага!» Но враг не останавливался. На политинформациях матросам говорили: «Положение на фронте ухудшилось. Бои идут под Вязьмой, Брянском, Калинином». Каждый день появлялось новое направление. Ночью, когда затихал шум города, в морозном воздухе явственно слышалось дыхание близкого фронта. В одну из таких ночей Сомин был начальником караула. Сидя за столиком в караульном помещении, он писал письмо. Только вчера пришло первое письмо от родных. «Они считают, что я на фронте, волнуются, — думал Сомин, — а я сижу в тёплых казармах и до сих пор ещё не видел передовой. Наверно, родителям приходится труднее, чем мне. Как они там на Урале? Отец в третий раз просился на фронт, несмотря на то, что ему под шестьдесят. Не пустили. Мать пишет: „Здорово бушевал“, но пришлось остаться на заводе начальником цеха. А мать, конечно, вместе с ним. Всегда вместе, с тех пор как повстречались в девятнадцатом не то под Вапняркой, не то под Каховкой. Мама, наверно, была очень красивая тогда. Таких теперь и не встретишь, конечно, не считая Маринки. Она даже слишком красивая», — думал Сомин. Ему казалось, что все, кто знает Маринку, должны быть влюблены в неё. С Мариной Шараповой его познакомили на стадионе. Она была в белой майке спортобщества «Медик», в синей косынке под цвет глаз на выгоревших светлых волосах. Володя проводил её домой просто потому, что было по дороге, а потом он долго жалел, что не попросил разрешения зайти. В другой раз они встретились случайно на Сельскохозяйственной выставке. Маринка обрадовалась не меньше Володи. У них нашлось множество тем для разговоров, и хотя Маринка была влюблена в свою будущую специальность — она мечтала стать хирургом, — её интересовали и спорт, и Большой театр, и стихи Блока, и картины Кончаловского. Володя чувствовал себя рядом с нею неучем и увальнем. Они были одного возраста, даже родились в один и тот же месяц — Володя 20 декабря, а Маринка 16-го, но она училась уже на третьем курсе. Поступила прямо из девятого класса, сдав экзамен за десятилетку и выдержав конкурс. То, что Маринка на два курса старше его, очень смущало Володю, но она не придавала этому обстоятельству никакого значения. Всю зиму они бывали вместе на катке каждый вторник и пятницу. Володя заходил за Мариной в клинику на Пироговскую. Однажды она вышла вместе с высоким мужчиной в бобровой шапке и белых бурках. Не трудно было догадаться, что это её отец. Вначале Володя смутился, но профессор Шарапов оказался очень простым весёлым человеком. Он даже обещал сходить как-нибудь вместе с ними на каток, но так и не собрался. Вот в шахматы сыграть с ним довелось несколько раз, и всегда Володя проигрывал, хотя у себя на курсе он считался одним из лучших шахматистов. Маринка стояла за его стулом и шёпотом давала советы, а Константин Константинович говорил, что именно из-за этих советов Володя проигрывал. Худощавый, с бородкой клинышком, лёгкий и подвижный для своего возраста, профессор Шарапов сразу понравился Володе. Когда он смеялся, то снимал пенсне, и все замечали, что у профессора светлые, широко расставленные, словно удивлённые глаза, точь-в-точь как у Маринки. За несколько дней до начала войны Маринка уехала к своей бабушке в Куйбышев. Володя так и не успел с ней повидаться. Из учебного полка он писал ей несколько раз, но не получил ответа. Когда Володя попал в Москву на формировочный, он при первой возможности поспешил в дом на Ново-Басманной, но квартира Шараповых оказалась запертой. На звонок никто не отзывался. «А что, если бы вот сейчас отворилась дверь, обитая клеёнкой, и в караульное помещение вместе с облаком морозного пара вошла Маринка?» — ничего более невероятного нельзя было вообразить, но Володе понравилась эта мысль. Он представил себе Маринку такой, как видел её в последний раз на даче, — в пёстром ситцевом сарафанчике, с белыми бусами вокруг загорелой шеи. У Шараповых были гости. Маринка бегала то в погреб, то на летнюю кухню, то на огород. Её пёстрый сарафан мелькал между берёзок и кустов смородины. Володя сидел в мрачном ожидании на скамейке в саду. В тот день они с Маринкой поссорились из-за какого-то пустяка. Константин Константинович несколько раз выходил на веранду и звал Володю к столу, но он заупрямился. Как это было глупо! Гости уехали, когда уже смеркалось. Ирина Васильевна — мать Маринки — занялась хозяйством, а Константин Константинович засел за свой письменный стол. Маринка и Володя принялись поливать цветы. В самом начале поливки Володя наметил себе большой куст пионов. Когда Маринка дошла до него, он наклонился и осторожно поцеловал её волосы. Она сделала вид, что не заметила. Тогда Володя, ужасаясь собственной смелости, обнял девушку и поцеловал её прямо в губы. Маринка не рассердилась, не испугалась и даже не рассмеялась. Она поставила на клумбу почти полную лейку, взяла Володю обеими руками за отвороты пиджака и долго смотрела ему в глаза, а потом сказала: — Пойдём, Володя, лучше… Больше не было сказано ничего. Маринка проводила его до электрички. У него не хватило смелости поцеловать её ещё раз на прощанье. Если бы он знал тогда, что видит её в последний раз! — Почему не сменяете посты?! — Сержант Сомин вскочил. На пороге стоял дежурный по части — начальник разведки лейтенант Рощин. — Бабочек ловите! Пригрелись в караулке! — клубы морозного пара ворвались в жаркое помещение. Смена наскоро выстроилась в шеренгу. Писарчук задел полой железную печку, чайник с грохотом полетел на пол. Лавриненко уже в строю застёгивал поясной ремень. Рощин подождал, пока смена вышла из караулки, потом уселся за стол и устроил Сомину настоящий разнос. Играя трехцветным фонариком, он долго втолковывал сержанту недопустимость его проступка: задержка смены часовых на девять минут. Выговорившись, Рощин ушёл и тут же забыл о Сомине. Он даже не сообщил о сделанном им замечании прямому начальнику Сомина — Земскову, хотя койки Земскова и Рощина стояли рядом в командирском общежитии. Сомин сам доложил Земскову о своём упущении. — Как же это произошло? — удивился лейтенант. — Задумался… — Может, уснул? — Нет, задумался, товарищ лейтенант. Я ведь не оправдываюсь. Сам знаю, что виноват. Земсков не стал ругать его, а вечером после поверки спросил: — О чем же ты задумался, Володя, вчера в караулке? — в неофициальных разговорах он всегда называл Сомина по имени. И Сомин рассказал лейтенанту о Маринке, рассказал, как они ходили на каток, как поливали цветы в тот последний тёплый вечер на даче под Москвой. — А где она сейчас? — Земсков угостил Сомина папиросой. Теперь они разговаривали не как начальник и подчинённый, а просто как двое приятелей. Земсков тоже мог бы рассказать о девушке, внезапно исчезнувшей из его жизни. — Не знаю. Наверно, эвакуировалась. Теперь не найдёшь. Месяц назад я был на квартире. Заперта. — А ты сходил бы ещё раз. Может, соседи знают. Сомин давно хотел попросить у лейтенанта увольнительную записку, но не решался. Ведь дивизион могут в любую минуту поднять по боевой тревоге. Земсков загасил окурок: — Завтра в девятнадцать часов отпущу, если ничего не изменится. Пиши докладную. На следующий день, получив увольнительную, Сомин отправился на квартиру профессора Шарапова. В метро лежали штабелями дощатые щиты. На двери одного из служебных помещений было написано: «Медпункт». Короткие составы по четыре вагона шли часто, один за другим, словно торопясь перевезти до начала воздушной тревоги всех тех, кому надо ехать. Когда Сомин вышел у Красных ворот, было уже темно. Обходя сугробы, он пересёк Садовую и пошёл по Ново-Басманной. Колонна грузовиков двигалась к вокзалам. Тускло светились голубые щёлочки фар. В Басманном переулке стояла такая темень, что Володя не сразу разыскал знакомый дом. Он долго взбирался по лестнице, высоко задирая ноги, держась за шаткие перила, обжигая пальцы спичками у квартирных дверей. Как назло квартиры были размещены в каком-то странном порядке: сначала сорок первая, а потом тридцать шестая. Израсходовав все спички, Володя постучал в первую попавшуюся дверь. Против ожидания, открыли сразу. Человек в ватнике, надетом поверх демисезонного пальто, держа коптилку в дрожащей руке, объяснил: — Доктор Шарапов — это этажом ниже, по коридору направо в следующую секцию. Там стоит у двери ящик с песком. Натолкнувшись на ящик с песком. Сомин принялся стучать в указанную дверь, но никто не откликался. В темноте послышались шаги и вспыхнул фонарик. Это были дружинницы пожарного звена — две женщины неопределённого возраста, закутанные до бровей. От них Володя узнал, что доктор Шарапов уже давно в армии, а его жена и дочь месяц назад приезжали и вскоре снова уехали. Куда — неизвестно. Во всей этой секции сейчас никто не живёт. И поэтому спросить не у кого. А в домоуправлении тоже не знают. Там сейчас новые люди. Дружинницы не прочь были поболтать с морячком. «Уж не Маринкин ли он жених? Или просто знакомый?» Володя сказал, что «просто знакомый» и побрёл вниз по бесконечным этажам и коридорам. Все это напоминало кошмарный сон, когда идёшь, блуждая во мраке, и не можешь никак найти выход. След Маринки потерялся окончательно. «Теперь не увижу до конца войны», — решил Сомин. Ему и в голову не приходило, что до конца войны он может не дожить. Вернувшись в казарму, Сомин столкнулся в дверях с Косотрубом. Разведчик был против обыкновения чем-то озабочен: — Володька, готовься! Через час уходим! — бросил он на ходу. — А ты откуда знаешь? — Посмотришь! Через час действительно сыграли боевую тревогу. На этот раз дивизион не вернулся спустя некоторое время в свои тёплые казармы, как это бывало раньше. Завтракали, когда рассвело, прямо на шоссе. На морозе жирный суп застывал стеариновыми подтёками. Краснофлотцы примостились со своими котелками кто где. Не снимая перчаток, грызли промёрзшие сухари, а по шоссе шли и шли один за другим пехотные батальоны в новеньких белых полушубках. Часов около девяти, когда стало совсем светло, прибыла машина разведки. Арсеньев ждал её на повороте дороги. Неизвестно где и когда он успел побриться. На чёрной, ловко сидящей шинели сияли светлые надраенные пуговицы. Рядом с комдивом стояли Яновский, Будаков и командиры батарей: лейтенант Николаев, капитан Сотник и старший лейтенант Пономарёв. Командир второй батареи Сотник — человек средних лет, с лицом, напоминающим коричневое печёное яблоко, щурил маленькие глаза, улыбаясь бесцветными губами. Он чувствовал себя великолепно и был очень рад, что дивизион, наконец, начинает действовать. Пономарёв — длинный, большерукий, с заиндевевшими бровями над крупным носом, притоптывал валенками и по-извозчичьи стучал рукавицами о свой полушубок. Выслушав доклад начальника разведки, Арсеньев обратился к комбатам: — По машинам! В девять тридцать занять огневые позиции. Пехотный капитан подошёл к Арсеньеву и доложил: — Приданная вам для охраны стрелковая рота заняла круговую оборону. Арсеньев кивнул головой: — Добро! Он волновался, хоть и не показывал этого. Когда лидер «Ростов» шёл к румынским берегам, Арсеньев чувствовал себя спокойнее. Все-таки мало учился дивизион. Нет ни опыта, ни сноровки. Как будут действовать моряки в бою? Яновский понял его мысли: — Матросы не подведут, Сергей Петрович. Доучимся на практике. Как ты считаешь? В девять тридцать боевые машины выстроились в шеренгу на просторной поляне. Высокие, скошенные назад, с крутыми, как огромные лбы, закруглениями кабин, они были похожи на белых мамонтов, вышедших из заснеженного доисторического леса. Земсков подошёл к машине Сомина, которая стояла на правом фланге, позади огневой позиции. Оттуда было хорошо видно, как готовятся к залпу орудийные расчёты. Длинные сигарообразные снаряды лежали в два ряда на направляющих стальных балках, которые обычно называли «спарками». Донеслись выкрики командиров батарей: — Прицел 152! Уровень — 31-20! У крайней боевой машины стоял Шацкий. В её кабине оставались только водитель и командир орудия Дручков. В просторной белой кабине маленький чернявый Дручков казался мальчишкой, забравшимся туда из озорства. Дручков лучше других понимал, как обидно Шацкому упустить этот первый залп, но сейчас Дручкову было не до того. Он весь подался вперёд, держась правой рукой за пластмассовую рукоятку, вокруг которой поблёскивали медью шестнадцать контактов. Дручков не видел сейчас ничего, кроме этих контактов, — ни снежного поля, ни соседних машин, ни своих краснофлотцев, стоявших тесной группкой поодаль. Поворот рукоятки — и все шестнадцать снарядов один за другим сорвутся со спарок. Противника не видал никто. Семь и шесть десятых километра отделяли огневую позицию от того места, куда должны были в девять часов сорок пять минут обрушиться снаряды гвардейского дивизиона. Перед глазами было только снежное поле и плотная стена сосен на его краю. Глядя на часы, Арсеньев медленно поднял руку с пистолетом. Девять часов сорок четыре минуты… Он спустил предохранитель, окинул взглядом весь дивизион, и когда секундная стрелка обежала ещё один круг, нажал спусковой крючок. Одинокий выстрел растаял в морозном воздухе, но тут же раздался нарастающий гул, не похожий на артиллерийский залп. Скорее это напоминало могучий рёв урагана. Малиновое пламя ударило в землю позади боевых машин, которые окутались облаком снежной пыли и дыма. Снаряды, сорвавшись со спарок, устремились ввысь, как стая комет, несущихся от земли к небу. За ними, постепенно затихая, тянулись огненные струи. Некоторое время все следили за летящими снарядами, пока они не исчезли из виду. Ещё не затих их рёв, когда издалека донеслись десятки сливающихся глухих разрывов. Гвардейский дивизион моряков дал свой первый залп по врагу. Потом стало известно, что этот огневой налёт вызвал такую панику на передовой линии немцев, что даже те подразделения, на которые не упало ни одного снаряда, побежали, бросая оружие. После залпа все боевые машины, как было приказано раньше, немедленно тронулись с места и одна за другой скрылись в лесной просеке. Расчёты садились на ходу. Через несколько минут на поляне остались только тёмные проталины и лабиринт глубоких следов, выдавленных шинами. 2. НОЧЬ ПЕРЕД БОЕМ Ночевали в деревушке, полуразрушенной немецкой авиацией. В большом кирпичном сарае с сорванной крышей матросы разложили костёр. Здесь, по крайней мере, не было ветра. Красные блики метались по облупленным стенам, и когда кто-нибудь бросал в костёр охапку хвороста, пламя радостно кидалось вверх, пытаясь дотянуться до почерневших балок перекрытия. С камбуза принесли ужин — суп в термосах и задубевшую кашу. Земсков сидел в углу на перевёрнутой веялке. При неровном свете костра он что-то писал. К нему подошёл Рошин. Начальник разведки изо всех сил старался копировать командира части и поэтому поёживался от холода в морской шинели, но не надевал полушубка. — Хочешь спирту? — Рощин достал из кармана немецкую фляжку в кожаном чехольчике с блестящими кнопками. Отвинтив крышку-стакан, Рощин наполнил его до краёв. — Откуда у тебя? — удивился Земсков. — Ведь выдавали по сто грамм. Сто граммов на морозе — это почти ничего. Даже те, кто был непривычен к выпивке, не только не пьянели от этой дозы, но почти не чувствовали приятного согревающего тепла. Матросы смотрели на фляжку Рощина с нескрываемой завистью. Земсков взял протянутый стаканчик и спросил: — А у тебя много осталось? — Не волнуйся, пей, — Рощин взболтнул фляжку и доверительно сообщил: — У меня обнаружилась знакомая дивчина в медсанбате, что на окраине села. Там этого добра — хоть залейся! — Это хорошо, — серьёзно заметил Земсков. — Дай-ка фляжку! — Он поднялся и пошёл в противоположный угол, где под грудой полушубков лежал разведчик Журавлёв. Его била лихорадка. Земсков молча протянул стаканчик матросу. Журавлёв бережно взял его обеими руками и выпил. Косотруб, сидевший рядом, недоуменно посмотрел на лейтенанта: — Лишнее, значит, товарищ лейтенант? — Лишнее. Пей! Почуяв притягательный напиток, к Земскову потянулись и другие разведчики. Когда фляжка опустела, он сказал: — Это достал ваш командир. Косотруб хитро подмигнул повеселевшему Журавлёву: — Так отчего же он сам нам не отдал, а вас послал? — А тебе не все равно, кто дал? Рощин с недоумением наблюдал эту сцену. Земсков подошёл к нему с пустой фляжкой. — Грошовый авторитет наживаешь? Так у вас в пехоте положено? — шёпотом спросил Рощин. Земсков сунул ему в руки фляжку: — Чудак ты, Рощин. Твой собственный авторитет спасаю. Понял? — Какой нашёлся благодетель! — вскипел Рощин. Земсков не стал вступать в спор. Он поднял воротник, сунул за пазуху пистолет, чтобы смазка не загустела на морозе, и вышел из сарая. Шацкий и ещё несколько матросов из первой батареи сидели вокруг костра. Валерка приблизился к ним и подмигнул Шацкому: — Видал? — Видал. — Шацкий не спеша достал самодельный портсигар, разукрашенный якорями и пушками. — Ну, и что скажешь, кореш? — Скажу — такой может служить с моряками. — Точно! С мороза вошёл, растирая побелевшие ладони, Сомин. Шацкий подвинулся. — Садись. На, закури! — Он протянул свой портсигар. Валерка не собирался кончать на этом разговор. — Ты расскажи, как тебе Земсков прочёл мораль, когда ты засмолил Сомину по фасаду, — сказал Косотруб. — А, что там вспоминать! — махнул рукой Сомин. Косотруб не отставал. Он уже давно ждал подходящего случая, чтобы узнать у несловоохотливого Шацкого, какой у него был разговор с Земсковым. — Мораль он мне прочёл особенную, — сказал, наконец, Шацкий, искоса взглянув на Сомина. — Знаешь, где была раньше санчасть? Завёл меня Земсков в тот кубрик, скинул китель и говорит: «Паршиво у тебя на душе, Шацкий, вот ты и кидаешься на своих, как дикий кабан. Арестовать тебя? Бесполезно! Только хоть я и пехота, на меня не советую кидаться. Ну-ка, бей!» Я стою, как причальная тумба, а он снова: «Бей, не бойся!» Ну, меня забрало. Раз так, думаю… Развернулся, и раз! Смотрю — лежу уже на палубе, а он надо мной стоит, глаза горят, как отличительные огни… — Что же, один был красный, другой зелёный? — перебил Валерка. — Не перебивай, травило! Говорю, так глаза горят, что за две мили видать. Так вот, Земсков опять мне: «Вставай, — говорит, — ещё раз!» Словом, три раза бросал он меня, как маленького. Это меня-то — кочегара! Потом надел китель и объясняет: «Это — самбо. Слышал? Я своих буду учить в свободное время, а ты тоже можешь приходить, если хочешь. Такому, — говорит, — здоровяку, если дать приёмы, так он один десяток фашистов задушит, а на своих не бросайся. Дура!» И верно — дура. В то время как в сарае шёл этот разговор о Земскове, лейтенант пересекал пустое, сожжённое вражеской артиллерией село. Он дошёл до околицы. Под луной на фоне сахарного снежного наста выделялась машина с автоматической пушкой. Увалень Писарчук стоял на откинутом борту, прислушиваясь к неясному гулу далёкого самолёта. Из-за горизонта через равные промежутки времени взлетали белые ракеты. Все было спокойно. Побывав у всех своих орудий, Земсков вернулся в сарай. Костёр догорал. Матросы уже успели поужинать. Кто-то затянул песню об Ермаке. Щемящая грустная мелодия то взмывала, подхваченная десятками глоток, то снова сникала, и тогда слышался только чистый тенор запевалы — старшины 2-й статьи Бориса Кузнецова. Мрачная привольная песня взволновала Земскова. «Может быть, завтра многих из этих поющих уже не будет в живых, — подумал он. — Правда, нас берегут, охраняют, переднего края не видим». К нему подсел Рощин, который уже успел натянуть полушубок. — Слушай, Андрюша, — он явно пытался загладить свою грубость, — наверно, так и не увидим ни одного немца. Трясутся над нами, как над невинными девочками. Перед матросами стыдно. Земсков пожал плечами. Он понимал, что вооружение дивизиона было секретным. Ни при каких случайностях оно не должно попасть в руки врага. Наставление предписывало гвардейским миномётным дивизионам реактивной артиллерии действовать не ближе пяти километров от переднего края и тотчас же уходить после залпа, чтобы не попасть под огонь противника. Обо всем этом Рощин, конечно, знал. Знал он и о том, что спустя десять минут после ухода дивизиона с лесной поляны вся она была вскопана авиабомбами. Высказывая своё недовольство излишней осторожностью командования, Рощин старался выставить собственную морскую лихость. Он действительно был смелым человеком и боялся только одного: чтобы кто-нибудь не забыл о его смелости. Яновский знал цену Рощину, который вместе с ним выходил из окружения. Уже не раз комиссар говорил Арсеньеву: «Рощин — парень отважный, но хвастун. Несерьёзный человек. По легкомыслию может наделать глупостей». Арсеньев хмурился: «Смелый — это основное. Остальное приложится. А из труса ни черта не получится, будь он семи пядей во лбу». Яновский и Арсеньев все ещё присматривались друг к другу. Уже возникшая взаимная симпатия никак не могла распуститься под прохладным ветерком арсеньевского недоверия. В тот вечер, когда Земсков угощал разведчиков рощинским спиртом, Арсеньев и Яновский сидели над картой в одной из немногих уцелевших изб. Карта была только что склеена. Новые листы поступили накануне. Они охватывали обширное пространство западнее Москвы, и это вызывало у всех хорошее настроение. Открывалась новая глава ещё не написанной истории Великой Отечественной войны. Уже приподнялся уголок последней страницы той главы, которую когда-нибудь назовут «Оборона Москвы», и пытливый человеческий взгляд спешил разобрать неразличимые пока строки следующих страниц. Только теперь Яновский рассказал Арсеньеву о своём выходе из окружения. Стационарные артиллерийские установки приказано было взорвать, когда соседние части отошли под прикрытием огня морских батарей. Оставалось по два — три снаряда на каждое орудие. — Всю жизнь внушали комендорам, что от одной песчинки в канале ствол может разорваться, — рассказывал Яновский, — а тут сыпали песок целыми пригоршнями, пушки стреляли, но не взрывались. Их пришлось загрузить песком и щебнем до самого дульного среза… Арсеньев сидел на почерневшей дубовой табуретке, положив пистолет и бинокль на стол, за которым, вероятно, обедало не одно поколение подмосковной крестьянской семьи. В полумраке поблёскивали медные ризы икон в углу, а на комоде светился тонкий мельхиоровый кубок — странный предмет в этом дедовском доме — очевидно спортивный трофей кого-нибудь из представителей молодого поколения семьи. В дверь постучали. Вошёл кок Гуляев с двумя котелками. В одном были разогретые консервы, в другом поджаренная тонкими ломтиками картошка. — Балуешь нас, Гуляев, — сказал Яновский. — Как дела на камбузе? — Не беспокойтесь, товарищ комиссар. Матросы накормлены всегда вперёд начальства. Порядок морской! Когда поужинали, Арсеньев напомнил: — Значит, взорвали орудия, Владимир Яковлевич? Какая была система? — «Бе-тринадцать». Своими руками взорвали. Вот тогда я узнал цену каждому из наших людей. Сунулись в одну, в другую сторону — кольцо. Казалось бы, думать только о спасении, а Шацкий меня спрашивает: «Как вы считаете, товарищ комиссар, доверят нам новое оружие?» Решили прорываться под селом Русаковское. Дождь лил не переставая. Но перед атакой по традиции ребята начали скидывать серые шинели. Остались кто в бушлате, кто просто в тельняшке. И сразу к нам стали проситься пехотинцы. Их много блуждало тогда. Выходили группками и в одиночку. А тут увидели такое ядро! В первой атаке погиб командир батареи, но матросы уже набрали ход. Выбили немцев из трех деревень. Яновский долго рассказывал о том, как горсточка моряков шла по тылам врага, и Арсеньев невольно сравнивал их путь с последним выходом своего корабля. «Да, — думал он, — эти люди имеют право сражаться под Флагом миноносца. Ну, а как новые, те, что не слышали ни разу свиста снаряда над головой, вчерашние школьники, пехотные новобранцы, солдаты и сержанты, переодетые в морскую форму. В дивизионе немало таких, как сержант Сомин, который все старается сделать сам, вместо того чтобы командовать людьми». Уже лёжа на кровати, Арсеньев понял, зачем Яновский рассказал о выходе его группы из окружения. Комиссар хотел внушить командиру уверенность в людях дивизиона. Яновский говорил о каждом бойце и командире, попавшем в гвардейскую часть из той батареи, и не сказал только об одном человеке — о себе самом, не сказал, как он шёл впереди колонны, изнемогая от усталости, как поднял отряд в атаку под пулемётным огнём. Яновский уснул быстро. Ему снились жена и дочурка, почтальон, который каждое утро приносит газеты и письма в их московскую квартиру против Александровского сада, что у Кремлёвской стены. Арсеньев не спал. Прикуривая одну папиросу от другой, он лежал в темноте, не снимая кителя. Возле него на табуретке набралась целая груда окурков. Через заклеенное бумажными крестами оконце просачивался в избу приглушённый неумолчный гул. Он понял значение этого гула. Как кровь по венам, текли по подмосковным дорогам, по просекам и лесным тропкам собирающиеся силы армии. Новые и новые части входили в прифронтовую полосу и замирали — растворялись в занесённых снегом сёлах, на обочинах шоссе, среди сосен и колхозных садов. Вся эта сила ждала до поры до времени, и только немногие уже поредевшие части сдерживали напор врага. Среди множества танковых и пехотных дивизий, кавалерийских корпусов, сапёрных и артиллерийских частей, затих на краю неведомой деревушки Отдельный гвардейский дивизион моряков. Занимался двадцать первый день ноябрьского наступления гитлеровцев на Москву. Шестое декабря 1941 года. 3. ПОД ОГНЁМ Ещё не совсем рассвело, когда дивизион снова вышел на огневую позицию. Она находилась на склоне холма, над рекой. Дали залп. Вот уже донеслись разрывы снарядов. Сомин, стоявший со своей автоматической пушкой на пригорке, напряжённо ждал команды отходить. Косотруб уже успел побывать на вчерашней огневой. Он рассказал Сомину, как разворотили поляну немецкие самолёты. Но команды отходить не было. Дивизион оставался на месте. Хриплый нарастающий вой внезапно хлестнул по нервам, и раньше, чем Сомин успел сообразить, в чем дело, рядом с машинами первой батареи раздался не очень громкий треск. Кто-то закричал: — Миномёт! За первой миной последовало ещё несколько. Двое бойцов лежали у колёса боевой установки. Снег был в крови. Сомин бросился на землю, прижался щекой к снегу. В этот момент первой в его жизни смертельной опасности он увидел, как в тумане, наводчика своего орудия Дубового, который, оставив штурвал, кинулся в кабину. Боец впился в шофёра с криком: — Гришин! Скорей уезжаем! Скорей! Этот крик вернул Сомину самообладание. «Как же так, — мелькнуло у него в мозгу, — неужели я испугался?» Он вскочил одним прыжком на платформу машины. За рекой что-то вспыхивало. «Вот он — миномёт!» — По наземной цели! — закричал Сомин срывающимся голосом. Дубового не было у штурвала горизонтальной наводки. «Где этот трус, который вечно произносит речи и больше всех болтает?» Сомин с размаху плюхнулся на сиденье первого наводчика и, наведя кое-как перекрестие коллиматора на вспыхивающую точку, нажал педаль. Впервые он услышал выстрелы своего орудия. Они показались ему оглушительными. Боевые машины уже уходили с огневой позиции, а он все нажимал на педаль, и малиновые трассы летели за реку. Мина разорвалась рядом. Куркин и Лавриненко, а за ними Писарчук соскочили с платформы. Куркин угодил прямо в объятия лейтенанта Земскова. — Куда, мерзавец! Марш на место! Окрик Земскова привёл Сомина в восторг: «Лейтенант здесь! Все будет хорошо. Он видит, что я не растерялся, своевременно открыл огонь». — Уводите машину! — приказал лейтенант. Когда машина тронулась, Сомин ещё не совсем пришёл в себя. Он не понимал, почему лейтенант помешал ему подавить миномётную батарею, и весь дрожал от возбуждения, как злой щенок, оттащенный за ошейник в пылу драки. Машины уже выходили на единственную дорогу, ведущую с холма. Их немедленно обстреляли миномёты противника. Арсеньев и Яновский остались сзади. Они не видели, как водитель головной машины, очевидно испугавшись близкого разрыва, повернул назад. Следом разворачивались остальные машины. На огневой позиции оставалась заряженная боевая установка. Около неё не было никого, кроме двоих раненых или убитых бойцов. С минуты на минуту эта установка могла взорваться от попадания мины. Лейтенант Рошин выскочил из кабины своей полуторки. Косотруб, сидевший в кузове, выпрыгнул вслед за ним. Они подбежали к оставленной машине. Рошин сел за руль, а Косотруб и военфельдшер Горич втащили на машину неподвижные тела двоих матросов. Через несколько минут машина была уведена. Убедившись, что на огневой позиции не осталось никого, Арсеньев и Яновский поехали на своей «эмке» вслед за дивизионом, но натолкнулись на возвращающуюся колонну. Эта неразбериха привела Арсеньева в ярость. Он уже схватился за кобуру пистолета, но вовремя сдержался. Колонна остановилась. — Поворот все вдруг! — скомандовал Арсеньев, забывая, что большинство водителей не знает морской терминологии. — Николаев, ко мне! Широкая дорога позволяла развернуть в обратном направлении каждую машину в отдельности. Мины теперь ложились с перелётом. Видимо, этот участок дороги, под самым холмом, не простреливался. Командир первой батареи Николаев подбежал к Арсеньеву. — Миномёты бьют с обратного ската вон того холма, — спокойно показал Арсеньев. — Накройте их залпом одной установки! Николаеву не нужно было повторять дважды. Молодой артиллерист с лидера «Ростов» сумел за короткое время очень хорошо разобраться в новой технике и в методах наземной артиллерии. Он вскочил на подножку ближайшей боевой машины. В кабине сидел Дручков. — К бою! — Николаев указал рукой направление цели. За несколько секунд, пока машина изготовлялась к бою, Николаев примерно прикинул данные. Шацкий установил панораму. Командир огневого взвода Баканов проверял наводку. Несмотря на спешку и всеобщее возбуждение, этот совсем ещё юный лейтенант — громоздкий и толстый не по возрасту — прикасался к головке панорамы и к барабанчику уровня с такой осторожностью, будто прицел боевой машины был соткан из тончайшей паутины. Как и многие люди, обладающие большой физической силой, Баканов был добродушен и нетороплив. Эти его черты знали все. Но теперь выяснилось, что вдобавок он удивительно хладнокровен в минуты опасности. Николаев с удивлением следил за действиями командира огневого взвода: «Нисколько не волнуется, медведь! А ведь впервые в бою». — Скоро ты там? — спросил он, потеряв терпение, хотя прошло едва ли больше нескольких секунд. — Первое готово! — пробасил Баканов, отходя в сторону. — Залп! — скомандовал Николаев. Арсеньев уводил дивизион с опасной дороги. Миномёты больше не стреляли. Залп установки Дручкова сделал своё дело. Когда дивизион отошёл на несколько километров, Арсеньев собрал командиров: — Плохо действовали. Начальник штаба, почему на головной машине не было командира? Кто разрешил развернуть колонну в обратном направлении? На головной машине рядом с водителем ехал сам Будаков. Это по его приказанию машины повернули обратно к огневой позиции. Только увидев вдали «эмку» командира дивизиона, Будаков приказал затормозить и поспешил выскочить из кабины. — Что произошло с первой автоматической пушкой? — обратился Арсеньев к Земскову. — Товарищ капитан-лейтенант, Сомин — молодой командир орудия, впервые попал под обстрел. Думаю, он растерялся, а потом овладел собой и в запале решил подавить немецкие миномёты. — Находящиеся за обратным скатом? Вы тоже считаете, что это возможно для автоматической тридцатисемимиллиметровой пушки? — Нет, не считаю. — Лейтенант Николаев, лейтенант Рошин! — Есть! — Николаев шагнул вперёд. Гнев медленно сползал с лица Арсеньева. — Командиру первой батареи и начальнику разведки объявляю благодарность. Арсеньев был рад, что есть все же кого похвалить. Рощин проявил вполне уместную решительность, а Николаев показал, что в сухопутном бою умеет действовать не хуже, чем на палубе. Капитан-лейтенант отпустил командиров. Земсков пошёл к своим орудиям и отозвал в сторону Сомина: — Попало мне из-за тебя от командира дивизиона. Говори честно: испугался? — Испугался, — признался Сомин. — Ну, а потом? По какой цели стрелял? Снарядов двадцать сжёг попусту. Сомину было очень стыдно. Он стоял потупившись, разрывая снег носком сапога. — Ты думал, что накроешь миномёты, а они ведь были за обратным скатом. Вот что, Володя, — добавил Земсков уже другим тоном, — ошибки бывают у всякого. На первый раз прощается, но сделай вывод: надо тебе учиться артиллерийской грамоте. Серьёзно учиться, независимо от обстановки. Что, орудие вычистили? — Чистят. — Хорошо. Учти: вечером отсюда уходим. 4. МАРИНКА К вечеру повалил снег. Стало чуть теплее. Бойцы снимали подшлемники. Рощин снова сменил полушубок на шинель. Машины двигались по хорошей дороге, укатанной частями, прошедшими к фронту. Сомин опустил стекло кабины. Ландшафт показался ему знакомым. «Вот этот домик у мостика и забор, выступающий буквой „П“, деревянная церквушка с кирпичной пристройкой. Где я все это видел?» — Иван, ты бывал в этих местах? — спросил он Гришина. — Не, я — курский, товарищ командир. Шоссе раздваивалось. Колонна пошла влево, огибая рощицу, и когда за ней обнаружился посёлок с двумя водокачками, стоящими друг против друга, Сомина осенило: «Да ведь отсюда рукой подать до дачи Шараповых. Так и есть, только я всегда приезжал в эти места с другой стороны — электричкой. А вот и железнодорожная насыпь, и труба кирпичного зазода». Машины свернули в село. Дивизионные тылы уже были здесь. Над походной кухней — камбузом — подымалась струйка дыма. В штабном фургоне стучала пишушая машинка. Прошли двое шофёров с полными вёдрами бензина. Сомин выпрыгнул из кабины прямо в глубокий снег. Он теперь уже не ждал указаний Земскова и, быстро осмотревшись, подобрал подходящее место для своего орудия. Кругом открыто — если утром налетят самолёты, есть круговой обстрел. Можно стрелять и по дороге. Он показал выбранную позицию Земскову. Тот кивнул головой: — Хорошо. Людей поместишь на отдых вон в той избе. — Товарищ лейтенант, — нерешительно начал Сомин. После последнего разговора ему не хотелось обращаться к Земскову, — я могу отлучиться на полчаса? — Куда? — Вы помните, я рассказывал вам о моей знакомой девушке… — Конечно. — Так вот, эта дача совсем рядом, за леском. Можно мне туда сходить? Сначала это желание удивило Земскова. Зачем ходить на пустую дачу? Но потом он подумал, что если бы это было под Ленинградом, может быть, и ему самому захотелось бы возвратиться хоть на десять минут в мир безмятежного довоенного прошлого. Боевой выход не предвиделся, и лейтенант разрешил эту экскурсию в прошлое ровно на полчаса, предупредив, чтобы Сомин обязательно взял с собой кого-нибудь из бойцов. Мало ли что может случиться? Фронт близко. После ужина Сомин подозвал Белкина: — Остаёшься за меня. Вернусь через полчаса. Он привесил к поясу противотанковую гранату и пошёл один. Ему не хотелось иметь свидетелей своего сентиментального поступка. Все равно они не поймут. В рощице было тихо. Глубоко увязая валенками в снегу, Сомин шёл напрямик. Теперь он уже жалел, что пошёл один. Какие-то шорохи чудились ему в кустах. «А что, если наткнусь на немецкую разведку?» — Он обругал себя за трусость, но все-таки вынул наган из кобуры и сунул его за пазуху. Деревья постепенно редели, словно разбегаясь из рощицы в разные стороны. Снегопад кончился. Выбираясь на дорогу, Сомин услышал неподалёку гул моторов. Он остановился, прислушался. Из-за поворота показался танк, за ним другой, третий, четвёртый… — Немцы! — Сомин бросился в канаву и уже лёжа вложил запал в противотанковую гранату. Его трясло, как в лихорадке. Зуб не попадал на зуб. «Скорее назад!» Он осторожно выполз из канавы и увидел, что танки остановились. Один из них темнел на фоне снега в пяти шагах от Сомина. Жажда подвига овладела им, как тогда, на огневой во время миномётного обстрела. «Вот сейчас вскочу и швырну, а там будь что будет. Наши услышат разрыв. Немцы не застанут их врасплох». Но встать было нелегко. Какая-то сила прижимала его к пушистому свежему снегу. И все-таки он поднялся, сделал шаг вперёд… Люк танка распахнулся, оттуда вылез человек и пошёл прямо к Сомину. «Я его застрелю сейчас, а потом брошу гранату. Нет, я брошу гранату…» — мысли путались, руки горели. Эта встреча лицом к лицу была тем большим и страшным, к чему он готовил себя в течение всей своей недолгой военной службы. Танкист подошёл к канаве и сказал: — Эй, хлопец, закурить есть? Из-за облака вышла луна. Она осветила Сомина с гранатой в руке, танкиста в расстёгнутом шлеме и звезду на башне танка. Струйка холодного пота скатилась со лба Сомина. Дрожащими пальцами он вынул запал из гранаты и полез в кювет за обронённой рукавицей. — Ты что, глухой? — крикнул танкист. — Закурить, спрашиваю, есть? — Конечно, есть! Они закурили. Теперь Сомин болтал без умолку, даже рассказал танкисту, что здесь на даче жила его знакомая. Тот понимающе подмигнул: — Значит решил спикировать! Давай, давай. Завтра будет поздно. — А что? — Говорят, завтра вдарим. Мы сейчас чесанули маршик километров на двести с другого участка. Даже табак выдать не успели. Подошло ещё несколько танкистов из других машин. Сомин охотно раздал им всю махорку и крепко пожал руку тому, кого он собирался только что угостить гранатой: — Будь здоров! Я пошёл. — Меня зовут Кулешовым, — сказал танкист. — Может, встретимся. Знаешь, гора с горой не сходится… Через десять минут Сомин подошёл к знакомой даче. Забор был повален. Глубокий снег покрывал дорожки и клумбы. Из сугробов выглядывала пухлая от снега спинка садовой скамейки. «Посижу здесь немного и пойду назад», — решил Сомин. Чувство стыда и досады после того, как он испугался наших танков, мешало ему вспоминать и переживать прошлое. «И для чего я сюда пришёл? Да ещё и Земскову рассказал?» Сомин хотел уже уходить, но в окне второго этажа он заметил светлую щёлку. Сомин помнил, что на даче жила постоянно старуха — сторожиха. Это была довольно неприветливая ворчливая особа, но она могла знать адрес. Решительно перешагнув поваленный заборчик, он подошёл к двери и постучал. Так и есть — тётка тут. Старуха оказалась не из робкого десятка. Она сразу открыла и, увидев бойца, не стала задавать никаких вопросов. Сомин прошёл за ней в маленькую комнату, где обычно занимался Константин Константинович. Теперь на письменном столе стояла рядом с бюстиком Гиппократа керосинка. В комнате было холодно и пахло картофельными очистками. — Откуда родом? — резко спросила старуха. Она была замотана в дырявый шерстяной платок, который когда-то, должно быть, считался белым. Огромные валенки затрудняли её и без того не быструю поступь. — Московский, — коротко ответил Сомин. Она не узнала его ни в лицо, ни по голосу. — Родители живы? — Должно быть, живы, а точно не знаю. — Вот верно. Сейчас никто ничего не знает, — она продолжала свой допрос, накладывая на тарелку перловую кашу. — Женатый? — А кто у вас наверху живёт? — в свою очередь спросил Сомин. — Тебе на что? Никто не живёт. Замёрз небось, — сказала она несколько более любезно. — Выпить, наверно, хочешь. Все вы — одинаковые. Ну, годи. Сейчас, может, раздобуду. Старуха вышла за дверь, с трудом передвигая пудовые валенки. «Скрывает что-то!» — подумал Сомин. Ему хотелось хоть на минуту заглянуть в комнату Марины. Там, наверно, поселился какой-нибудь командир. Неудобно! Он все-таки поднялся ощупью по знакомой лестнице. Под лестницей старуха гремела бидонами и бормотала: — Все усталые, безродные, злые. Со зла бог знает чего человек не натворит. Сомин подошёл к двери на втором этаже и уже хотел постучать, когда дверь отворилась сама. На пороге стояла Маринка с садовым фонарём в руках. Она узнала его мгновенно: — Володя! Он не успел ответить, как она уже втащила его в комнату и начала расстёгивать тугие крючки полушубка. В чёрном свитере, в платке, накинутом на плечи, Маринка казалась старше. — Меня как-будто подтолкнул кто-то. Володенька, неужели это ты? — Она стащила с него рукавицы, шапку, шинель. — Ты моряк? Вот удивление! Ну, садись скорей, рассказывай. Кто тебе сказал, что я здесь? Сомин все ещё не верил в реальность этой встречи. Маринка выпустила оранжевый язычок из горелки фонаря. В комнате стало светлее. По ступенькам, кряхтя, поднялась старуха. Вид у неё был разгневанный: — Тебя сюда нешто звали? — накинулась она на Сомина. — Чего ты здесь забыл? — Глебовна! — воскликнула Маринка. — Ты не узнала его? Это же Володя Сомин! Старуха взмахнула толстыми ватными руками, как курица крыльями: — Батюшки! Володя и есть. Что же ты сразу не сказался? А я-то, старая дура, не признала! — Он, наверно, голоден, — шепнула ей Маринка. — Иду, голубушка, иду, — старуха заторопилась, подобрав свою юбку. Володя и Маринка снова остались одни. Утром — первый в жизни бой, а сейчас эта невероятная встреча. Только что — тревожный зимний лес, и тут же Маринка — её глаза, её руки. Все это было похоже на сон. Маринка забрасывала его вопросами. Но Володя все ещё не мог прийти в себя. Ему казалось, что произошло чудо. В действительности все было очень просто. Когда Ирина Васильевна и Маринка вернулись из Куйбышева, Константин Константинович уже уехал на фронт. После первой же бомбёжки Ирина Васильевна перебралась на дачу. Она была убеждена, что за месяц — полтора фашистов разобьют, но вышло иначе. Фронт, стремительно продвигаясь вперёд, подошёл на расстояние в несколько десятков километров. Уехать обратно в город Ирина Васильевна не могла. У неё обострилась старая болезнь — хроническое воспаление спинного мозга. К этому времени Мединститут эвакуировался в Среднюю Азию. Маринка не решилась оставить больную мать. Так оказалась она на подмосковной даче в прифронтовой полосе. Не отпуская Володину руку, Маринка долго рассказывала ему, как тоскливо и одиноко ей на этой даче с больной матерью. Что будет, если немцы придут сюда? Перевезти Ирину Васильевну в город — невозможно. Нужна специальная машина. В грузовике или на повозке её везти нельзя, да и повозку сейчас не достанешь. — Я все о себе и о себе, — спохватилась Маринка. — Лучше ты рассказывай. Нет — раньше ешь, — она пододвинула ему тарелку щей и большую рюмку водки. — А ты, Мариночка? — Я уже ела. Кушай, Володя, и рассказывай. От тепла и от водки, от того, что Маринка сидела рядом с ним, Сомин почувствовал необычайный прилив энергии. Он лихо выпил вторую рюмку и, не закусывая, начал рассказывать о моряках лидера «Ростов», о своих новых друзьях, которые все, как один, герои. Ему хотелось самому быть героем в глазах Маринки, чтобы волновалась и тревожилась за него, чтобы считала его своим защитником. Сомин снова и снова возвращался к сегодняшнему утреннему эпизоду, и теперь ему уже начинало казаться, что он участвовал в большом сражении, исход которого имел самое непосредственное отношение к судьбе Маринки. — Может быть, хватит, Володя? — спросила Маринка, отодвигая от него пустую рюмку. Сомин пожал плечами, будто хотел сказать, что для моряка такая рюмочка — сущая безделица. Его щеки покраснели, голос стал громким, руки двигались сами собой, дополняя рассказ, который обрастал все новыми и новыми подробностями. Маринка куда-то исчезла, потом возвратилась с подушкой и одеялом. — Я тебе постелю здесь, Володя, а сама буду спать внизу с мамой и Глебовной. Они уже спят. — Что ты, Мариночка, — он поднялся, опрокинул стул и тяжело опёрся обеими руками о стол, — разве я могу ночевать? Мне — в часть. Давай выпьем с тобой на дорожку, — он вылил из бутылки остаток водки и протянул рюмку Маринке. Она отстранилась, поморщившись от запаха сивухи. — Ты не хочешь со мной выпить? Ну, немножко, Мариночка, только пригубь. За то, чтобы мы снова встретились! Маринка с отвращением прикоснулась губами к рюмке. Володя выпил и снова сел. В его захмелевшем мозгу все спуталось. Внезапно нахлынула грусть. Наверно, он больше не увидит Маринку. Скорее всего его убьют в одном из ближайших боев, а она так и не узнает, как он её любил. А может, ей это не важно? — Когда тебе нужно быть в части? — спросила Маринка. — Ты ждёшь, чтобы я ушёл? — Что ты, Володя! — Она подошла к нему и обняла его одной рукой за шею. — Как ты мог подумать? Я просто беспокоюсь… Сомин не дал ей договорить. Он порывисто поднялся и с размаху поцеловал её в щеку. Маринка не двигалась. — Ты не знаешь, как я тебя люблю, Мариночка. Эта встреча — не зря. Это — судьба. Так должно было быть. Она пыталась осторожно освободиться от него, но Володя уже потерял над собой всякий контроль. Ему удалось поцеловать её в губы. Маринка вырвалась, но он снова схватил её и, не удержавшись на ногах, свалился вместе с ней на кровать. — Пусти сейчас же! Ты с ума сошёл! Он не отпускал её: — Маринка, сейчас… Только сейчас… Ты меня больше не увидишь, Мариночка… Ей удалось, наконец, освободиться от него. Растрёпанная, в разорванном свитере, тяжело дыша, Маринка отошла на прежнее место к печке. «Какая гадость! Если бы на её месте была любая другая женщина, он точно так же накинулся бы на любую». Слезы текли по её щекам. Ей было обидно и стыдно. — Уходи! — сказала она. — Уходи и немедленно! — Но почему, Мариночка, чем я тебя обидел? — Ты ещё спрашиваешь? — Она сорвала с гвоздя тяжёлый полушубок Сомина и швырнула его на кровать. — Одевайся! Володя долго тыкал руками в рукава. Не застегнувшись, он нахлобучил шапку, кое-как затянул ремень, на котором болтались наган и гранатная сумка: — Хоть поцелуй меня на прощанье… — Не хочу! Ты — глупый. Я только о том и мечтала, чтобы целовать тебя, чтобы быть твоей, а ты… Солдат! Ты — пьяный солдат. Ты все забыл. Забыл, что рядом немцы, которых вы подпустили к Москве, что мой отец, может быть, уже убит, что здесь — больная мать! — придерживая рукой разорванный свитер, Маринка открыла дверь. Когда Сомин ушёл, она бросилась на кровать и плакала до тех пор, пока стекла не задрожали от орудийных залпов. Тогда она поднялась и подошла к окну. Фонарь погас. Только красная точка обгорелого фитиля светилась в темноте, а за окном разливался бледный зимний рассвет. 5. КОМАНДИР И КОМИССАР По дороге в часть хмель быстро выветрился из головы Сомина. Остались только тяжесть и ощущение непоправимого несчастья. Не оглядываясь по сторонам и не думая о врагах, которые подкарауливают под каждым кустом, он быстро дошёл до села, но здесь ждала его новая беда. Дивизиона не было. Он пробежал через все село и, задыхаясь, остановился у крайней избы, потом медленно побрёл обратно. Дивизион ушёл. Но куда? Во всех направлениях снег был изрезан глубокими следами колёс. Только жирные масляные пятна остались от десятков машин, которые ещё так недавно были здесь. Усилием воли Сомин заставил себя успокоиться. Надо принять решение. Конечно, он отсутствовал не полчаса, а добрых три. Дивизион за это время мог уйти очень далеко, и все-таки догнать его можно. Догнать во что бы то ни стало! Потом — все что угодно. Пусть судят, но пускай никто не считает его дезертиром. Это слово резануло Сомина, как удар кнутом по глазам. А ведь он в самом деле дезертир! Каждый боец на фронте, находящийся в самовольной отлучке, — дезертир. Он пытался определить по следам, в каком направлении ушли машины, но луна то и дело скрывалась в волнах бегущих облаков, и никак нельзя было разобраться в путанице следов. Дезертир всегда бежит от линии фронта. Значит, я должен идти к передовой! — решил Сомин. И он зашагал в ту сторону, где временами низкие облака освещались артиллерийскими вспышками. В расстёгнутом полушубке, то и дело проваливаясь в снег, глотая ртом морозный воздух, он шёл по целине, инстинктивно пряча замёрзшие руки в рукава. Меховые варежки торчали из его карманов. Наконец Сомин выбрался на шоссе. Он увидел грузовики с солдатами и пешие подразделения, заиндевевшую конницу и пушки на прицепе у тракторов. Все это безостановочно двигалось в ту сторону, где, по предположению Сомина, находилась линия фронта. — За ними! За ними — к передовой! — но силы изменили ему. В полном изнеможении Сомин привалился к телеграфному столбу, а над ним ветер играл в туго натянутых проводах: «Дез-з-з-ертир… Дез-з-з-ертир…» И вдруг Сомин увидел грузовик с белым якорем на дверке кабины. За ним шли другие такие же «зисы», гружённые знакомыми длинными ящиками. — Это — наши! Везут боезапас в дивизион! — он кинулся чуть ли не под колёса машины, схватился за борт и спотыкаясь побежал рядом. Водитель затормозил. Из кабины выглянул знакомый Сомину начальник боепитания инженер-капитан Ропак. — Вы с ума сошли! — закричал он. — Что вы здесь делаете? — Мне — в часть! Скорее — в часть! — задыхался Сомин. — Я — в кузов, на ящики… Капитан Ропак помнил этого зенитчика — совсем ещё мальчишку, черноволосого сероглазого сержанта, обычно выдержанного и спокойного. Что с ним произошло? Не отвечая на вопросы. Сомин карабкался в кузов. — Куда вы лезете, черт вас возьми! — Ропак схватил Сомина за ремень. — Вы не усидите там наверху. Полезайте в кабину, простудитесь! Пожилой шофёр вытащил флягу: — На, глотни. Простынешь. Но даже запах водки был теперь невыносим Сомину. Замёрзшими пальцами он взял папиросу, предложенную Ропаком, и жадно затянулся, наслаждаясь нахлынувшим вдруг спокойствием и теплом. Дивизион оказался совсем близко, в посёлке у железнодорожной станции. Доехали за полчаса. Сомин ещё издали увидел своё орудие, но обошёл его стороной. Яновский сидел в избе за кружкой холодного чая. Перед ним лежало письмо из дома. Жена сообщала, что племянник Коля, который вырос у них на глазах, убит несколько дней назад на волоколамском направлении. Его мать ещё не знает об этом. Как ей сообщить? Яновский любил сестру особенной отцовской любовью. Всю жизнь он привык заботиться о ком-нибудь. Глаша всегда казалась ему маленькой девочкой, даже когда она вышла замуж за его однополчанина. Яновский не мог привыкнуть, что она уже взрослая. «Надо написать ей. Чем скорее — тем лучше», — решил он и потянулся к своей полевой сумке, лежавшей на краю стола. — Товарищ гвардии батальонный комиссар! К вам сержант из зенитно-противотанковой батареи, — доложил ординарец, — вроде как не в себе. Впустить? Сомин остановился на пороге. — Все знаю, — сказал Яновский. — Я — не дезертир, — произнёс Сомин заранее заготовленную фразу. Комиссар отодвинул от себя полевую сумку и начал ходить из угла в угол. — Ещё что скажете, Сомин? Сомин рассказал все. Это было очень трудно. И Яновский понимал, как трудно этому юноше открыть чужому человеку и начальнику свой позор и свою боль. В штаб уже было доложено, что сержант Сомин исчез. Бойцы, посланные на поиски, вернулись ни с чем. Земсков порывался ехать сам, но ему не разрешили. Арсеньев бросил коротко: «Когда приведут, немедленно под арест. Сопроводительную, и в трибунал». Собственно говоря, Сомин отсутствовал только два часа сверх разрешённого ему получаса, но за это время дивизион успел сменить исходные позиции. А что, если бы за эти два часа дивизиону пришлось побывать в бою? Кто командовал бы орудием Сомина? Могло бы случиться и так, что весь расчёт погиб, выполняя боевую задачу, а командир орудия остался цел и невредим, поскольку он в это время отсутствовал. Последнее предположение Яновский высказал вслух: — Могло так быть? — Могло. Сомин смотрел прямо в глаза Яновскому и видел в них свой приговор. — Кому мне сдать оружие, товарищ комиссар? Яновский молчал несколько секунд. За эти секунды он успел представить себе всю короткую безоблачную жизнь этого мальчишки, который был ровесником Кольки. Это — первое большое потрясение в его жизни. Выйдет ли он из него закалённым, полным внутренней убеждённости в том, что надо искупить свою вину, или просто решит — «Повезло»? — У меня просьба, товарищ комиссар, — с трудом вымолвил Сомин, — оставьте мне морскую форму. Где бы я ни был… Я пойду туда, куда вы меня пошлёте, но и там я буду считать себя в нашем дивизионе. Яновский покачал головой: — Нельзя. Это все равно, как если бы вы попросили дать вам с собой лоскут от Флага миноносца. Вы — умный парень, Сомин. Мне вам нечего объяснять. Подумайте обо всем сами. О вашем поступке по отношению к нашей части и о том, как вы обошлись с вашей знакомой девушкой. Идите, доложите лейтенанту Земскову, что вы прибыли, а там поглядим. Сомин уже выходил из комнаты, когда комиссар снова остановил его: — И не делайте глупостей! Вы их натворили достаточно. Теперь умейте держать ответ, как положено моряку. Наше главное дело — воевать, гнать немцев от Москвы! Может быть, Сомину показалось, что в глубине глаз Яновского заиграла чуть заметная улыбка? Может быть, показалось, что его назвали моряком? Неужели комиссар сумел прочесть мысль, мелькнувшую в уме Сомина: «Выйти сейчас из избы и… Ничего нет. Ни Маринки, ни части. А отец и мать? Им сообщат, что он — преступник, отдан под суд. Не лучше ли сразу, пока наган ещё при нем?» Какой нелепой кажется сейчас эта мысль! Гнать немцев — вот что главное! Все остальное — второстепенно. Гнать от Москвы фашистов! — Разрешите идти на орудие, товарищ комиссар? — Идите. Яновский тут же сообщил Арсеньеву о том, что он отменил его распоряжение и отправил Сомина на орудие. Казалось, с таким трудом налаженные отношения между командиром и комиссаром будут безвозвратно испорчены. На мгновение Яновский усомнился в том, стоило ли из-за одного сержанта рисковать единством в командовании части, да ещё накануне серьёзных боев. «Нет, мы с Арсеньевым все равно будем заодно, потому что цель у нас одна, — решил Яновский, — но никогда, ни в каком вопросе я не буду действовать вопреки своей совести. Сомин в армии — без году неделя. Он уже успел научиться многому. Он — не трус, не подхалим, не трепещет за свою шкуру. Это — честный человек, который дорожит службой в морской гвардии. Мы, бесспорно, воспитаем из него командира. Надо лепить человеческий характер, строить его, как дом, кирпич к кирпичу, а выбросить — проще всего». Арсеньев стоял, опершись сжатыми кулаками о стол. Челюсти его напряглись, глаза посветлели от гнева. — Может быть, ты возьмёшься командовать дивизионом? — спросил он. — А мне оставь пятерых с лидера и мой флаг. «Самого тебя ещё надо воспитывать, тебя — героя, боевого флотского командира, — думал Яновский, глядя на него. — Что же говорить о мальчишке? Кто сразу родился готовеньким, отшлифованным, отполированным?» — Нет, дорогой друг, — произнёс он вслух, — литейного цеха мало. А токари, фрезеровщики, шлифовщики для чего? Он сдержал негодование, которое нарастало в нем против Арсеньева. — Слушай, Сергей Петрович, нас обоих послала на сухопутный фронт партия, послало наше правительство, наше командование, так что нервам своим воли не давай. Не к лицу это тебе. А таких, как Сомин, у нас — полдивизиона. И все-таки будет у нас отличная боевая часть под твоим командованием. — Ты отменил мой приказ, — тихо сказал Арсеньев, закусывая изо всех сил незажженную папиросу. Яновский щёлкнул зажигалкой: — Прикуривай! Плохо ты помнишь свои приказы. Ты сказал: «Приведут — отправить в трибунал». Так? А его никто не приводил. Сам бежал за дивизионом изо всех сил. К передовой бежал, аж чуть сердце не лопнуло. Хуже смерти для него мысль, что выгонят из части. Разве можно отдавать таких людей? В дверях показался офицер связи. Он принёс пакет. Арсеньев рванул его по диагонали, прочёл и сказал: — В шесть утра — играем! Три дивизионных залпа. Вот сюда! — Он указал точку на карте, и оба они склонились над ней. Теперь обоими владела только одна мысль: гнать немцев от Москвы! Все остальное казалось мелким и не заслуживающим внимания. 6. ДИВИЗИОН ИДЁТ НА ЮГ Наутро началось наступление. В грохоте артиллерийской подготовки потонуло все личное, что было у каждого. Конечно, Сомин не забыл о свой беде, но среди тех дел, которые происходили сейчас у него на глазах, некогда было тосковать, мучиться и вспоминать. Враги уходили на запад, а вместе с ними как будто отходил и мороз. Стало теплее. Небо посветлело, поголубело. В нем чуть заметно угадывался приближающийся перелом в сторону весны. Теперь стреляли ежедневно. Дивизион давал залп и быстро менял позицию. Орудийная стрельба слышалась непрерывно, и время от времени к ней присоединялись густые раскаты реактивных установок. Где-то впереди пехотинцы — рослые сибиряки в белых полушубках — вместе с танками опрокидывали заслоны врага и гнали его от Москвы. Но в морском дивизионе никто по-прежнему не видел ни одного вооружённого немца. Их видели только пленными и мёртвыми. Замёрзшие трупы валялись по обочинам дорог. После очередного огневого налёта дивизион приводил в порядок материальную часть. Автоматические орудия, батареи ПВО — ПТО тоже чистили, хотя стрелять из них сегодня не пришлось. Самолёты противника появлялись теперь редко. — Скоро — войне конец, — сказал медлительный Писарчук, накладывая густое масло на щётку банника. Сомин с удивлением обернулся на это замечание и увидел улыбку Белкина, который в это время протирал замшей коллиматоры орудия. Дубовой радостно закивал своей большой костистой головой: — Фашистская армия деморализована, она бежит под нашими ударами! — Вот чёртов учитель! — рассмеялся Белкин. — Как по книге читает! А ты вспомни, как сиганул с орудия, когда начали бить миномёты. Сомин не вмешивался в этот разговор. Ему и самому казалось, что война идёт к концу. Он даже жалел, что ни разу не пришлось побывать в настоящем бою. «Вот Косотруб, Шацкий, Клычков, — думал он, — те повоевали — кто на море, кто на суше, а я… только опозориться успел. Как покажусь на глаза Маринке? После того, что было, я не могу прийти к ней просто так: „С победой, Мариночка, давай начнём сначала!“ — Неужели она потеряна для меня навсегда? В её глазах я — бесчувственный пьяный грубиян и больше ничего. Нет, лучше не думать о ней совсем…» Но мысли снова упорно возвращались к тёмной даче, где он погубил свою любовь, и только голос лейтенанта Земскова вернул Сомина к действительности: — Заканчивайте скорее! Через десять минут выходим. Бойцы заработали быстрее. Вскоре загудели моторы. Как обычно, орудие Сомина шло в хвосте колонны. Снова поплыли за стеклом машины милые подмосковные места. «Куда сейчас идём?» — думал Сомин. Лейтенант, ехавший на другой машине, не смог бы ему ответить на этот вопрос. Не знал этого и Арсеньев, которому было приказано привести дивизион в Москву. Он вёл свои машины по знакомым дорогам, полагая, что часть перебрасывают на другой участок фронта. Того же мнения был и комиссар: «Где-нибудь требуется подбавить огонька». Ни командир, ни комиссар и, конечно, никто из их подчинённых не могли предположить, что через несколько дней весь дивизион — люди и машины, оружие и боезапас окажутся на длиннейшем железнодорожном составе, идущем не на соседний участок фронта, а далеко на юг, где ждёт их новая жизнь, совсем непохожая на ту, которая была до сих пор. Сомин стоял у своего орудия, укреплённого стальными тросами на железнодорожной площадке. Внизу гулко прогрохотал мост, мелькнула и скрылась церквушка с покосившимся крестом. Горький паровозный дым стлался рядом с эшелоном, цепляясь за голые сучья и почерневшую солому крыш. Ловко перебравшись по буферам с соседней платформы, Косотруб перемахнул через красный борт и оказался рядом с Соминым: — Отвоевались, салага! Едем на курорт! — Куда? — Сомин уже не удивлялся тому, что этот черт Валерка все знает раньше других. Косотруб уселся на вздрагивающий борт платформы и начал сворачивать самокрутку. — Одесса-мама, Ростов-папа! Ясно? Вокруг Косотруба собрались все бойцы расчёта Сомина. — Сейчас пойдёт травить, — заметил Белкин. Но вместо того, чтобы выложить свои сенсационные новости, Косотруб вскочил и схватил Сомина за плечо: — Воздух! Правый борт дистанция тридцать кабельтов! Бойцы, не ожидая приказания Сомина, бросились по своим местам. Сомин поднёс к глазам бинокль, но раньше, чем он успел поймать самолёты в поле зрения, Косотруб уже уселся на прежнее место: — Отбой! Закуривай, салажата, наши! Теперь Сомин увидел два истребителя «МиГ». Они пронеслись над составом и снова развернулись назад. Бойцы опять собрались вокруг Косотруба. Только Сомин с биноклем в руках стоял в стороне. — Патрулируют, — объяснил Косотруб. — Охраняют, — согласился Писарчук. Косотруб лукаво подмигнул: — Ясный факт. Чтобы вашу зенитку «месс» не утащил на буксире. Сомин не ответил на эту колкость. Получилось действительно не очень красиво: самолёты первым заметил Валерка и он же первым определил по звуку, что это свои. Конечно, состязаться в зоркости и слухе с сигнальщиком с лидера «Ростов» было трудно, но факт оставался фактом. — Так вот, браточки, — продолжал Косотруб, — курс на Ростов. Полный вперёд! — Что ты болтаешь! — рассердился Сомин. — Ростов освободили уже два месяца назад. И при чем тут Одесса? Косотруб отпарировал: — Одесса это к слову, а Ростов к делу. Потому и посылают, что уже освободили. Не освобождать же с такими вояками! — Он дружески хлопнул Сомина по спине. — Не лезь в бутылку, кореш! Я — шутя. А Ростов — это ж имя нашего корабля. Вот что важно! Оттуда и до Чёрного моря два шага с половиной. — А что тебе ещё известно? — спросил Сомин. — Больше ничего не известно. Отдать швартовы! — И, ловко спрыгнув на лязгающие буфера, он, как кошка, перебрался в соседний полувагон и оттуда махнул бескозыркой: — Не горюй, салага! Море повидаешь, а в Москве ещё побудешь. Косотруб скрылся за длинными снарядными ящиками. Состав шёл под уклон, набирая скорость, и, обгоняя его, неслись среди клочковатых облаков два истребителя. Сквозь стук колёс и гудение самолётов долетала любимая песенка Валерки: «Колокольчики, бубенчики звенят, рассказать одну историю хотят…»  ГЛАВА IV НА ЮГЕ 1. ВЕСНА  Весна брала своё. Мутная, желтоватая вода шла бесчисленными ручьями. Размывая дороги, заливая овраги, рвалась она к Дону, который, переполненный и без того верховой водой, вышел из берегов, подступая к заборам и овинам. Кое-где на буграх высунулась из земли молодая трава. Козлёнок, став для удобства на передние коленки, тщательно выщипывал эти ярко-зеленые стрелки. Ветер нёс с юга растрёпанные облака. Их голубые тени скользили по мокрому чернозёму, невспаханному и незасеянному. Вода стояла в низинах рябыми озёрами, и среди них кое-где сиротливо чернел заржавелый комбайн в соседстве с разбитой пушкой и остовом танка. Широкий поток волочил раздутый труп фашистского солдата, пролежавший несколько месяцев под снегом, и привлечённые сладковатой вонью, уже садились на него на ходу изголадавшиеся за зиму вороны. В другом месте ржавая немецкая каска зацепилась за корягу, словно кто-то залёг в канаве и выставил голову из-под воды, чтобы взглянуть с того света на ясное солнышко. На повороте дороги, у бугра, поросшего ржавым прошлогодним репейником, белели два свежевыструганных столба с перекладиной — шлагбаум контрольно-пропускного пункта. Рядом стоял коренастый парень в бескозырке и армейской гимнастёрке. Приложив ладонь козырьком, он смотрел на пригорок, где, вздымая лёгкое облачко первой весенней пыли, появилась машина. В машине было три человека. Когда она остановилась у шлагбаума, боец в бескозырке увидел за рулём «виллиса» смуглого худощавого человека с генеральскими звёздочками на петлицах. Рядом сидел пожилой полковник медицинской службы с бородкой клинышком и в очках. Сзади расположился здоровенный старшина. Из-под его расстёгнутой шинели поблёскивал орден Красного Знамени. Часовой быстро, но не поспешно подошёл к машине и лихо вскинул ладонь к околышу: — Разрешите документы, товарищ генерал! Старшина на заднем сиденье даже рот открыл от изумления, потом запахнул шинель и гаркнул, поднявшись во весь рост: — Не узнаешь, что ли? Командующий опергруппой ГМЧ — генерал Назаренко. Матрос не удостоил его ответом и снова повторил: — Разрешите документы, товарищ генерал. Сверкнув зубами, смуглый генерал протянул удостоверение личности и спросил: — Далеко до части капитана Арсеньева? — До части гвардии капитан-лейтенанта Арсеньева двенадцать километров, товарищ генерал. Держать прямо на элеватор, потом — руль вправо, через рощу на станицу Крепкинскую. Матрос открыл шлагбаум и снова поднёс руку к околышу, но не так, как это делают солдаты, а каким-то неуловимым, полным достоинства свободным движением. — Как ваша фамилия, товарищ? — спросил генерал. — Гвардии старшина второй статьи Клычков. — Благодарю, товарищ Клычков. Хорошо несёте службу, — он нажал на акселератор и, уже отъехав от КПП, обратился к своему спутнику: — Вот об этих матросах я вам рассказывал, Константин Константинович. Заедем? Кстати, вам как главному хирургу армии будет не бесполезно проверить их медслужбу. — Да уж в ваших частях, как обычно, все превосходно, — ответил полковник, — одно слово — гвардия. Я вот собираюсь вызвать к себе дочь из Москвы. Хорошо бы определить в одну из ваших частей. Скажете: спятил старый дурак. — Нет, почему же? — возразил генерал, удивлённый внезапным поворотом беседы. — А какая специальность у вашей дочери? — Заканчивает мединститут. Теперь выпускают прямо с четвёртого курса. Война! — Он помолчал немного и добавил: — Жена у меня умерла этой зимой. Пусть дочка будет рядом, раз уж хочет обязательно на фронт. Машина въехала в станицу. Генерал глянул на провода полевого телефона и безошибочно повёл свой «виллис» к большой избе, у которой вышагивал боец с автоматом. Не успели они выйти из машины, как из дома вышел высокий моряк с золотыми нашивками капитан-лейтенанта. Назаренко пожал ему руку: — Ну, как устроились, морячки? Живёте — не тужите? Чёрные глаза генерала уже успели заметить все вокруг: боевые машины под чехлами, стоявшие на огороде, автоматическую пушку, связистов с катушками, даже рыжеватого матроса, который устроился с какой-то дивчиной на солнышке за овином. Впрочем, и матрос заметил генерала. Он тут же скрылся вслед за своей подругой, которая все-таки успела оглянуться, чтобы посмотреть на генерала. Под вечер, побывав во всех батареях, Назаренко вместе со своим спутником пошёл ужинать к командиру дивизиона. За стол село человек десять. Вероятно… генералу очень нравилось у моряков. Он все время шутил, задавал множество вопросов, и когда отвечали быстро и остроумно — откровенно улыбался, блестя глазами, глубоко спрятанными под зарослями бровей. — Чем же угостит нас гвардейский повар, виноват, кок? Начинаю привыкать к вашим терминам, товарищ капитан-лейтенант. — Что на ужин? — обернулся Арсеньев к ординарцу. — Не тревожьтесь, Сергей Петрович, я и сам знаю, — ответил генерал, прежде чем матрос успел вымолвить слово, — на ужин будет уха либо жареная рыба. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
|||||||