 |
|
Популярные авторы:: Грин Александр :: Борхес Хорхе Луис :: Сименон Жорж :: Азимов Айзек :: Толстой Лев Николаевич :: Чехов Антон Павлович :: Раззаков Федор :: Лондон Джек :: Горький Максим :: Лесков Николай Семёнович Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: Справочник по реестру Windows XP :: Колдун :: Чо-Ойю – Милость богов :: The Boarding House :: Рыжая звезда :: Дорога никуда :: Человек со Шрамом :: White Fang :: Жизнь, Вселенная и все остальное |
Подполье свободыModernLib.Net / Современная проза / Амаду Жоржи / Подполье свободы - Чтение (Весь текст)
Жоржи АМАДУ ПОДПОЛЬЕ СВОБОДЫ ПРЕДИСЛОВИЕ Роман «Подполье свободы», принадлежащий перу лауреата международной Сталинской премии «За укрепление дружбы между народами», крупнейшего современного бразильского писателя Жоржи Амаду, составляет первую часть задуманной им обширной трилогии под общим заглавием «Каменная стена». В этой трилогии, по словам автора, он намерен показать борьбу бразильского народа за мир и свободу под руководством рабочего класса, начиная с государственного переворота в Бразилии в 1937 году и до наших дней. Таким образом, Жоржи Амаду выполняет обещание, которое он дал своим читателям в начале сороковых годов, находясь в эмиграции в Уругвае. Тогда он обещал показать в цикле романов жизнь и борьбу простых людей Бразилии на трех этапах ее истории: в эпоху господства феодальных отношений, в годы проникновения в страну империализма и, наконец, в период решительной схватки между миром прогресса и миром реакции. Свое обещание писатель уже частично выполнил, дав широким читательским массам в своей стране и далеко за ее пределами романы «Бескрайние земли», «Земля золотых плодов» и «Красные всходы». Задуманная Жоржи Амаду трилогия «Каменная стена», в частности ее первая часть «Подполье свободы», представляет дальнейшее развитие основной и важнейшей темы его творчества – показа жизни и борьбы бразильского народа. Роман «Подполье свободы» по сравнению с предшествующими книгами писателя имеет отличительные особенности. Написанный в годы новой эмиграции Жоржи Амаду, нашедшим на этот раз приют в Европе (сначала во Франции, а затем в странах народной демократии), этот роман отмечен значительным возмужанием таланта писателя, еще большей, чем в предшествующих его книгах, зрелостью мысли. Жизнь в Европе, троекратное посещение Советского Союза, поездка в Китайскую народную республику, кипучая деятельность во Всемирном Совете мира, где Жоржи Амаду представляет Бразилию, еще более расширили его политический кругозор, что сказалось и на выпущенной им в 1950 году публицистической книге «Лагерь мира». В связи с этим неизменная тема творчества Амаду – показ жизни и борьбы трудящихся Бразилии – в «Подполье свободы» поставлена им по-новому. Если ранее местом действия его романов была обычно какая-нибудь провинция Бразилии, то теперь Амаду переносит его в крупнейшие промышленные центры страны – Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро. Сама борьба рабочего класса Бразилии под руководством коммунистической партии уже не воспринимается писателем как нечто сугубо бразильское. Эта борьба в «Подполье свободы» является для Амаду неотъемлемой частью общей борьбы прогрессивного человечества против эксплуатации, насилия, против социальной несправедливости и угрозы новой мировой войны. Во внешне благопристойном облике бразильских реакционеров, банкира Коста-Вале и других, читателю нетрудно разглядеть звериный оскал Гитлера, а за их спиной – немецких и американских монополистов, жадно тянущихся к естественным ресурсам Бразилии, которую они стремятся превратить в свою стратегическую и сырьевую базу. В «Подполье свободы» широко развернута тема международной солидарности. Действие романа происходит и в республиканской Испании, где в рядах интернациональных бригад сражаются бразильский офицер Аполинарио Родригес и сержант чех Франта Тибурек. Вместе с Аполинарио читатель попадает в Париж в трагические дни сдачи города гитлеровцам в 1940 году. Весь роман проникнут горячей любовью к великому знаменосцу мира – Советскому Союзу. Особенно ярко тема международной солидарности проявляется в одном из центральных эпизодов романа. Мы имеем в виду забастовку докеров Сантоса – их отказ грузить гитлеровский пароход, на котором бразильское правительство посылает в дар кровавому палачу испанского народа Франко большую партию кофе. Несмотря на неудачный исход забастовки, она является победой рабочего класса Бразилии, сумевшего выразить свои симпатии борющемуся испанскому народу. Примечателен также выбор автором исходной даты для его повествования. Ноябрь 1937 года был исключительно тяжелым в жизни бразильского народа. Вспомним предшествовавшие ему важнейшие события в истории Бразилии. В 1934 году Коммунистическая партия Бразилии под руководством своего генерального секретаря Луиса Карлоса Престеса организовала массовое антиимпериалистическое движение – Национально-освободительный альянс. Наивысшим проявлением этого движения было героическое восстание бразильского народа, вспыхнувшее в ноябре 1935 года в ряде крупных городов. Восстание было подавлено, Престес арестован и приговорен к длительному тюремному заключению. За этим последовал период жесточайших репрессий, и компартия ушла в глубокое подполье. В ноябре 1937 года, в разгар кампании по подготовке президентских выборов, Жетулио Варгас осуществил государственный переворот, разогнав парламент и навязав стране чисто фашистский режим. 1937 год и последующие за ним годы были тревожной эпохой не только для Бразилии, но и для всего мира. Достигла высочайшего подъема героическая борьба испанского народа, сломленная, однако, предательской политикой «невмешательства». Был осуществлен мюнхенский сговор, отдавший во власть Гитлера Чехословакию; фашистская Германия захватила Австрию; Япония без объявления войны напала на Китай и дважды пыталась вторгнуться в пределы Советского Союза; германский фашизм готовился к дальнейшему «штурму на восток». Над всем миром нависли свинцовые тучи войны. Правдивое отображение событий этой эпохи и тот исторически верный анализ их, который мы находим в романе Амаду, стали возможными для автора только потому, что в своей новой трилогии он безоговорочно вступил на путь социалистического реализма. Глубоко анализируя события, проникая духовным взором в их сущность, Амаду показывает политическую действительность 1937–1940 годов достоверно и конкретно. «Подполье свободы» – первый роман, написанный Жоржи Амаду методом социалистического реализма, первый не только для этого писателя, но и для бразильской литературы в целом. В романе отсутствуют элементы натурализма, подчас свойственные предшествовавшим произведениям Амаду. В «Подполье свободы» он предстает перед читателем не только как превосходный романист, но и как политически зрелый писатель. Публицистическая часть романа, где Амаду неоднократно ставит и правильно разрешает политические проблемы, вопросы морали, культуры и искусства, имеет огромное принципиальное значение для латиноамериканских и, в частности, для бразильских писателей. Таким образом, первая часть трилогии Жоржи Амаду, появление которой явилось событием исключительной важности для литературы стран Латинской Америки, представляет большой интерес для прогрессивных читателей всего мира. * * * В своем выступлении в Кремле 24 января 1952 года, при вручении ему международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами», Жоржи Амаду сказал: «Мне оказана высокая честь принять эту премию от имени моего народа. Эти заслуги бразильского народа находят отклик в великой стране мира и радости, в Советском Союзе». Жоржи Амаду с полным основанием мог произнести эти слова. На протяжении всей творческой жизни, начиная с одного из первых своих романов, «Какао», писатель был неизменным выразителем чаяний бразильского народа, с безрадостным существованием которого в условиях капиталистического гнета он смог познакомиться с детских лет. Эту особенность своего творчества Амаду, приступая в начале сороковых годов к созданию романов «Бескрайние земли» и «Земля золотых плодов», прекрасно охарактеризовал словами: «Мои книги – труд целого коллектива». Чем же обусловлены те исключительно тяжелые условия, в которых приходится жить и бороться бразильским трудящимся? «Земля золотых плодов», способная прокормить население нескольких стран, – Бразилия фактически не может в настоящее время обеспечить продовольствием даже свое собственное население. Бразилия в основе своей страна аграрная: три четверти населения ее заняты сельским хозяйством, 80 процентов стоимости всего ее экспорта составляет сельскохозяйственная продукция. Эта особенность экономической структуры Бразилии должна была бы усилить со стороны ее правительства заботу о развитии агрикультуры страны. А между тем из многочисленных данных, сообщаемых передовой бразильской печатью, и даже из откровенных признаний ее министров явствует, что за последние годы страна переживает полосу острого кризиса, принимающего характер подлинного национального бедствия. Катастрофически снижается урожайность пшеницы и одной из ведущих культур Бразилии – кофе. В настоящее время эта богатейшая по своим природным ресурсам страна Южной Америки не может покрыть своей внутренней потребности в хлебе. Катастрофически падает и сбор кофе в стране: в отдельных штатах (Сан-Пауло, Минас-Жераис) с 1935 года он уменьшился более чем в два раза. Приблизительно так же обстоит дело с другими ведущими сельскохозяйственными культурами (какао, хлопок, табак, сахар и др.) и продукцией животноводства. Но несмотря на такое бедственное положение в сельском хозяйстве – основе экономики страны, – правительство не принимает никаких радикальных мер для его подъема. Рабски следуя приказам своих североамериканских хозяев, бразильское правительство тратит огромные суммы на подготовку к войне, переводя ряд отраслей мирной промышленности на военные рельсы, постоянно увеличивая производство стратегического сырья и военных материалов, всемерно усиливая гонку вооружений. Достаточно указать, что по проекту правительственного бюджета на 1954 год на сельское хозяйство ассигновано лишь 4,9 процента всех расходов. Нищета, голод, жесточайшая эксплуатация – вечные спутники жизни бразильского крестьянина. Характерно, что даже некоторые буржуазные экономисты делят Бразилию на три зоны: зону, где голод существует постоянно; зону, где он возникает периодически, и зону, где наблюдается хроническое недоедание населения. Эти экономисты пытаются объяснить существование голода различными причинами, главным образом стихийными бедствиями (засухой, разливами реки Амазонки и т. д.). Однако совершенно очевидно, что основной причиной голода в Бразилии являются не стихийные бедствия и не объективные причины вообще, а социальная система жесточайшей эксплуатации бразильского крестьянства, колонизаторская политика американского империализма и упорное нежелание бразильского правительства осуществить аграрную реформу и перераздел земли, сосредоточенной в руках крупных плантаторов и скотоводов. Согласно официальным данным, 73 процента всей обрабатываемой земли в Бразилии принадлежит 7,6 процента землевладельцев; около девяти с половиной миллионов бразильских крестьян вынуждены обрабатывать чужую землю. Только в одном штате Сан-Пауло, по официальным данным, насчитывается около пяти миллионов безземельных крестьян. Таким образом, в Бразилии существует чудовищная концентрация земель в руках небольшой кучки крупных землевладельцев, среди которых едва ли не первое место занимают империалисты США, ведущие себя в Бразилии, как в завоеванной ими стране. Так, например, в штате Сан-Пауло в настоящее время имеется более двадцати иностранных компаний (преимущественно североамериканских), владеющих земельной собственностью. В руках некоторых из них («САНБРА» и «Андерсон, Клейтон энд компани») сосредоточено около 90 процентов производства хлопка. 88 процентов мукомольного производства и распределения зернопродуктов принадлежит американскому тресту «Бунхе энд Борн». Компания «Америкен кофи» и другие американские фирмы контролируют весь экспорт кофе. Недостающая для внутреннего потребления пшеница ввозится из США и Канады на крайне невыгодных для Бразилии условиях. В мясной и маслобойной промышленности хозяйничают три американских треста: «Армор», «Свифт» и «Уилсон». Владея огромными пространствами земли и миллионами голов скота, эти три треста держат в полном подчинении бразильских скотоводов, приобретая у них по непомерно низкой цене как самый скот, так и продукты животноводства. О размерах владений этих трестов могут дать представление следующие красноречивые цифры: в штате Сан-Пауло трестам принадлежит в районах Барретос и Раншариа более 56 тысяч гектаров земли. Таких же огромных размеров достигают владения других американских монополий, захвативших десятки тысяч гектаров плодородных земель. Немудрено, что при этих условиях кофе, какао, хлопок и т. д. продаются по ценам, установленным американскими монополиями. «В то время как горстка крупных иностранных и национальных капиталистов загребает баснословные прибыли, в стране растут цены на продовольственные товары, быстро ухудшается и без того нищенское положение широких масс, становится все более невыносимой для народа политика войны и национального предательства, которую проводит правительство Варгаса, являющееся орудием американских монополистов» <Луис Карлос Престес. Компартия Бразилии в борьбе за мир, за независимость страны и демократические права для народа (газета «За прочный мир, за народную демократию!», 5 июня 1953 г.).> . В результате этой политики в крупнейшей стране Латинской Америки с населением более 55 миллионов человек, обладающей мощными залежами полезных ископаемых и землей, дающей при нормальном уходе за ней по два урожая, ежегодно умирают от голода тысячи и тысячи людей. Несмотря на то, что еще в 1888 году бразильским парламентом был принят закон об освобождении рабов, на огромных ее фазендах – поместьях, своими размерами порой превышающих небольшую европейскую страну, продолжает царить рабство в виде долговой зависимости (пеонажа) или других форм принудительного труда. Особенно тяжелы условия этого труда на кофейных плантациях, справедливо называемых прогрессивной бразильской печатью «подлинными концентрационными лагерями». Используя в значительной степени дешевую рабочую силу, постоянно пополняющуюся за счет голодающих беженцев из засушливых районов страны, бразильские латифундисты и их американские хозяева ни в какой степени не заботятся о повышении технической оснащенности сельского хозяйства, где основным производственным орудием служит до сих пор мотыга. Наоборот, американские монополии крайне заинтересованы в том, чтобы сельское хозяйство Бразилии пришло в состояние полного упадка, так как это даст им возможность превратить ее в выгодный рынок для ввоза продовольственных товаров. Пользуясь бедственным положением голодающего населения, бразильские помещики и американские монополисты за бесценок скупают земли крестьян или просто отбирают ее у них. Так, компания «Белго Минейра», захватив в долине реки Досе в штате Минас-Жераис около 500 тысяч гектаров земли, немедленно стала сгонять с нее жителей этого района, поставив под угрозу существование более миллиона крестьян. Их жалкие лачуги и имущество были сожжены. Согнанные со своих участков крестьяне вынуждены идти в кабалу к помещику. Работая от зари до зари, бразильский батрак получает в лучшем случае грошовую оплату, совершенно недостаточную для пропитания его самого, не говоря уже о его семье. Безмерно тяжела жизнь бразильских крестьян, но не менее трудна и жизнь рабочих Бразилии. Нищенская заработная плата, ужасающие условия труда, произвол владельцев предприятий, широко практикующих систему незаконных вычетов и штрафов, непрерывный рост квартирной платы и цен на продовольственные продукты, преждевременная потеря трудоспособности и ранняя смерть – вот то, чем отмечен жизненный путь бразильского рабочего. В Бразилии, правда, на бумаге существуют законы об охране труда, но это обстоятельство ни в малейшей степени не смущает иностранных и отечественных капиталистов, поддерживающих на своих предприятиях режим полицейского террора. Империалисты любят приводить Бразилию в качестве примера «гармонического межамериканского сотрудничества». На деле это «сотрудничество» привело к захвату американскими монополиями всех командных высот бразильской промышленности. Достаточно указать, что уже в 1947 году сумма капиталовложений США в бразильскую промышленность равнялась 350 миллионам долларов. За истекшие семь лет эта сумма увеличилась в несколько раз. Американские концерны полностью овладели добычей марганца, железа, монацитов и других запасов стратегического сырья. Капиталисты США являются абсолютными хозяевами положения в бразильской металлургии, они контролируют добычу каучука, им принадлежат важнейшие энергетические предприятия, авиационные линии. 75 процентов акций крупнейшей бразильской нефтяной компании «Компания насионал де газ Эссо» находится в руках американской «Стандард ойл». По данным бразильской печати, 70 процентов всей промышленности страны контролируется американским капиталом, все более вытесняющим своего английского конкурента. О размерах колоссальных прибылей американских монополий дают представление доходы компании «Лайт энд пауэр» за 1950 год, официально исчисляемые в 600 миллионов крузейро, но на самом деле достигшие 3 миллиардов. Засилье американского капитала увеличивается с каждым днем в результате той «политики войны и предательства», которую проводит бразильское правительство, превращающее Бразилию в военный придаток США и втягивающее ее в кровавые авантюры поджигателей новой мировой войны. Однако у Бразилии есть настоящий хозяин. Этот хозяин – свободолюбивый бразильский народ, а он «не намерен позволить морить себя голодом и не согласен с тем, чтобы его как убойный скот гнали на смерть в интересах монополий» <Там же.> . За последнее время бразильский народ все чаще поднимается на борьбу за лучшие условия жизни, организуя забастовки и акты коллективного протеста. Усиливается борьба крестьян против помещиков-латифундистов, являющихся главной опорой американских империалистов в стране. Ширится движение за мир, за демократию. Коммунистическая партия Бразилии, под руководством которой бразильский народ ведет сейчас борьбу против фашистской реакции и против растущего господства в стране американского империализма, является сегодня, по словам Амаду, «одной из важнейших сил мира и демократии на всем американском континенте». * * * Как явствует из пояснения автора о задуманной им и частично уже осуществленной трилогии, роман «Подполье свободы» носит в значительной степени исторический характер, так как он ставит целью показать борьбу бразильского народа и его передового отряда, Коммунистической партии Бразилии, в определенный период времени – в конце тридцатых годов XX столетия. Однако, излагая события конца тридцатых годов, Жоржи Амаду делает это не с позиций простого наблюдателя, а как человек, не только сам непосредственно участвовавший в этих событиях, но и имевший позднее возможность осмыслить и правильно определить их историческое значение. Роман Амаду, начатый в 1952 году, когда бразильский народ отметил знаменательную дату – тридцатую годовщину со дня основания своей коммунистической партии, – является не только правдивой летописью эпохи, но и торжественным гимном в честь бразильского народа, его рабочего класса, его партии. Как мы уже отмечали, 1937 год был тяжелейшим в жизни бразильской коммунистической партии. Вынужденная уйти в глубокое подполье в связи с репрессиями против бразильского народа, объявленная вне закона, компартия продолжала самоотверженно руководить борьбой масс против фашистской диктатуры. В эти суровые дни партия поставила перед собой задачу ответить на государственный переворот мощным движением трудящихся, стараясь помешать тем самым диктатору ввести в действие фашистскую конституцию, и стремилась образовать широкий демократический фронт. Роман Амаду дает нам ряд примеров самоотверженной борьбы партии. Он показывает партию, организующую забастовку в порту Сантоса, славном своими революционными традициями. Он свидетельствует, как партия стремится всемерно обеспечить союз рабочих с крестьянами, как она организует сопротивление помещикам и капиталистам против изгнания жителей лесостепных районов с их земель. Наконец, роман Амаду дает богатый материал для знакомства с теми организационными формами, к которым обращалась Коммунистическая партия Бразилии в эти тяжелые дни. Путь партии в романе Амаду отмечен временными поражениями и утратами. Но Амаду сам не закрывает глаза на причины этих поражений и не прячет их от читателя. Его роман не только гимн партии, но и великая правда о ней. Самое заглавие трилогии является в известной степени полемическим. Писатель как бы вступает в спор с одним из персонажей романа, журналистом Абелардо Сакилой, гнусным отщепенцем партии и будущим сотрудником полиции, а в его лице со всеми врагами бразильского народа, и разоблачает предательскую сущность их демагогических выступлений. «Наша борьба здесь, как и в других странах Латинской Америки и вообще в полуколониальных и колониальных странах, – заявляет Сакила, – напоминает мне стремление человека, который хочет пробить головой одну из толстых каменных стен, построенных еще во времена колонизации. Мы хотим пробить головой каменную стену, а разобьем лишь свои головы… Средневековая каменная стена – непреодолимая стена!» «Разбить голову о стену! – отвечает презренному ренегату автор устами одного из своих героев-коммунистов. – Глупая фраза… Просто идиотская… Голова человека – это мысль, и нет такой стены, как бы ни были крепки ее камни, которая может выстоять перед волей и мыслью человека…» На страницах романа перед нами возникает ряд героических образов. Это – руководители комитета партии штата Сан-Пауло – Руйво, Жоан, Карлос, Зе-Педро. Это – работница Мариана – самоотверженная, стойкая, непреклонная в борьбе, горячо любящая мужа и сына. Это – старый революционер Орестес и молодой рабочий Жофре Рамос, гибнущие во время полицейской облавы в подпольной типографии. Это – портовый рабочий негр Доротеу и его жена Инасия, до смерти изувеченная конными полицейскими за то, что она пыталась прикрыть национальным бразильским флагом гроб убитого забастовщика. Это – добродушный гигант Жозе Гонсало, организовавший сопротивление кабокло – жителей лесостепных районов страны – монополистам США, решившим захватить залежи марганца. Это – работник кофейной плантации Нестор, издольщик Клаудионор и другие кабокло, которых Гонсало воспитывает политически и которые оказывают ему активную помощь. Это – герой предыдущих романов Амаду «Земля золотых плодов» и «Красные всходы» – Жоакин Витор, которому Национальный комитет партии поручает вступить в контакт с Гонсало и кабокло, а затем наладить партийную работу в Сан-Пауло. Большое место в романе отведено судьбе капитана Аполинарио Родригеса – одного из руководителей революционного восстания 1935 года. Вынужденный покинуть родину, Аполинарио уезжает в Испанию, сражается в рядах интернациональных бригад. После временного поражения народного правительства Испании он вместе с бойцами республиканской армии пересекает французскую границу. Вторжение гитлеровцев во Францию застает его в Париже. Однако Аполинарио не покидает Францию, а присоединяется к борцам французского сопротивления. Дружба Аполинарио с чехом Франтой Тибуреком и с французскими патриотами, как и его борьба за свободу Испании, символизирует великую дружбу народов и вклад Бразилии в общее дело борьбы за мир и демократию. Интересно поставлен в романе вопрос об участии беспартийной прогрессивной интеллигенции Бразилии в революционной борьбе и показан тот сложный путь, который ей приходится пройти. Одним из главных действующих лиц второй книги романа является архитектор Маркос де Соуза, сочувствующий партии, предоставляющий коммунистам свой дом для собраний и снабжающий их деньгами. Однако сам он долгое время находится в стороне от активной деятельности, пока по предложению партии не становится на пост редактора журнала «Перспективас», в задачу которого входит объединение разрозненных сил бразильской интеллигенции. Маркосу часто приходится встречаться с коммунистами, и мало-помалу он убеждается не только в правоте их дела, но и в том, что они гораздо лучше, чем он, разбираются в общественном значении культуры и искусства. Как руководитель прогрессивного журнала, Маркос де Соуза вступает в конфликт с правительственными кругами, а затем попадает в тюрьму. Здесь он сближается с рядовыми коммунистами, которые оказывают ему всяческую поддержку, окружают сердечной заботой; его восхищает их беспредельный героизм, непоколебимость и мужество, с которым они переносят пытки. Маркос твердо решает вступить в партию. Из тюрьмы на свободу он выходит коммунистом. Поначалу тяжело складывается судьба балерины Мануэлы Пуччини. Соблазненная и покинутая великосветским бездельником, Мануэла близка к самоубийству. Но в больнице, где она находится после операции, Мануэла знакомится с работницей Марианой и архитектором де Соузой. Оба они морально поддерживают Мануэлу и помогают найти правильный путь в жизни, а позднее и в искусстве. Мы назвали здесь лишь основных героев «Подполья свободы». Но, кроме них, в романе Амаду действует немало второстепенных персонажей, рядовых борцов за свободу бразильского народа, показанных автором с большой теплотой. Писатель показывает нам героев романа в пылу борьбы и в мирном труде, в кругу семьи и в тюремных застенках, где палачи тщетно пытаются сломить их непреклонную волю. Но где бы ни находились эти люди, их никогда не покидает стремление добиться свободы для своего народа, горячая любовь к своей родной партии и к оплоту мира – Советскому Союзу. Эти чувства как нельзя лучше переданы автором в одном из эпизодов романа, когда Мариана Азеведо, стойкая коммунистка и прекрасный человек, размышляет о своей партии: «О, ее партия – партия, за которую отдал жизнь отец, из-за которой столько людей отказываются от домашнего уюта, подвергают себя опасности, лишают себя дневного света и права свободно ходить по улицам! Как любит она эту партию, бесстрашную и гонимую, которая бодрствует в предрассветный час для того, чтобы зажечь грядущую зарю человечества! Чувство великой гордости наполняет сердце Марианы всякий раз, как она, незаметная работница из Сан-Пауло, думает о своей партии. С чем можно сравнить ее партию, состоящую из людей, живущих под чужими именами, неизвестно где, людей, чьи ночи бессонны и чьи тела отмечены следами полицейских пыток? Эта партия напоминает ей море, бескрайнее синее море… Словно море, словно океан, не имеет границ ее партий: она простерлась по всему необъятному миру, победила в Советском Союзе, сражается в Испании, развернула суровую борьбу в других странах – подземное море, которое в один прекрасный день прорвется на поверхность и гигантскими волнами смоет гниль и несправедливость с лица земли». Светлому миру высоких мыслей и чувств, самоотверженному героизму простых людей Бразилии, руководимых компартией, противостоит в «Подполье свободы» насквозь прогнивший мир алчности, наживы, насилия, разврата. Центральной фигурой в стане врагов бразильского народа является в романе Жозе Коста-Вале – владелец огромного состояния, банков, заводов, обширных поместий, железных дорог, газет, влиятельный лидер консерваторов. Несмотря на преклонный возраст и болезни, он полон неукротимой энергии. Им владеет единственная страсть – «делать деньги». На протяжении романа мы видим, как он старается завладеть выгодным для него предприятием – залежами марганцевой руды в долине реки Салгадо. Вернувшись из поездки в Европу, где он встречался с гитлеровскими финансистами, стремившимися перехватить у американцев концессии на марганец, Коста-Вале собирается решить для себя вопрос, кого ему выгоднее привлечь в компаньоны – фашистскую Германию или США. Интересы его родины – Бразилии, будущее бразильского народа нисколько не трогают банкира. Он смотрит на страну как на свое родовое имение – фазенду, распоряжаться которой он вправе, как сочтет для себя наиболее удобным. Он не останавливается перед тем, чтобы согнать с обжитой ими земли коренных жителей и заселить ее японскими колонистами. В полном согласии с этой тайной политикой национального предательства и поступает Коста-Вале, останавливая свой выбор на американских капиталистах – злейших врагах латиноамериканских трудящихся. Местным коста-вале обязаны представители иностранного капитала своим вторжением в экономическую жизнь страны, захватом концессий стратегического значения. Откровенным пропагандистом подобной же рабовладельческой идеологии является экс-сенатор Венансио Флоривал – крупнейший плантатор, воля которого является законом для населения огромных земельных пространств. Исключительное невежество, грубость, практикуемые им на своих фазендах убийства и насилия не мешают ему занимать почетное место в правящей клике. Вокруг этих ловких и предприимчивых дельцов группируется целый ряд хищников более мелкого калибра. Они составляют «изворотливый и властный мир бизнеса, банков, предприятий, фабрик, торговых фирм и компаний, огромных фазенд – мир, в центре которого находились ловкие и предприимчивые люди.., державшие в руках политиков, журналистов, служащих, полицейских, адвокатов… мир, подавляющий людей своей силой…». Такова фабрикантша-миллионерша да Toppe, вышедшая из среды социальных отбросов, покупающая себе титул, положение, знатное родство. Таков экс-депутат, а затем министр юстиции, выходец из старинной аристократии Артур Карнейро-Маседо-да-Роша, утративший свои прежние привилегии и ставший послушной марионеткой в руках банкира Коста-Вале. Таков сын министра – великосветский шалопай и дегенерат Пауло, приносящий в жертву своей дипломатической карьере и богатству любовь талантливой молодой девушки. Таков беспринципный честолюбец Лукас Пуччини, превращающийся из жалкого приказчика в одного из самых богатых и влиятельных лиц в стране. Растленный мир реакционной науки и искусства представлен в романе отвратительными «лакеями мысли и пера» – поэтом Сезаром Гильерме Шопелом, «социологом» Эрмесом Резенде, врачом Алсебиадесом де Мораисом и другими. Звериное лицо бразильской реакции, таким образом, показано в романе Амаду с исчерпывающей полнотой и чрезвычайно ярко. Не менее колоритно обрисованы писателем американские агрессоры. Из них наиболее типичны представитель американских монополистов Джон Б. Карлтон и атташе по вопросам культуры, тайный агент Федерального бюро расследований Теодор Грант. Несмотря на то, что внешне Карлтон – грубый, невежественный, в прямом и переносном смысле оплевывающий всех и вся – совершенно не похож на учтивого «ценителя культуры» Тео Гранта, писатель искусно показывает их внутреннее единство. Оба они охвачены стремлением захватить естественные богатства чужой страны, боязнью, чтобы они не достались их немецко-фашистским соперникам, и презрением к судьбе самой Бразилии и ее народа. Кровавая расправа с жителями, согнанными с захваченных американцами земель, показывает подлинное лицо этих агрессоров. Верно показана в романе и та стратегическая роль, которую уже в те годы американские империалисты отводили Бразилии как возможному плацдарму США в будущей войне за мировое господство. Строя аэродром на марганцевых приисках в долине реки Салгадо, американские инженеры не скрывают от своих бразильских приказчиков, что этот аэродром в случае войны будет иметь огромное стратегическое значение. Таким образом, анализируя историческую обстановку, сложившуюся в Бразилии в конце тридцатых годов XX столетия, Жоржи Амаду подходит к своей задаче как писатель, глубоко осмысливший огромный политический опыт последних лет. Это придает его анализу особую остроту. Показывая исключительно богатую галерею деятелей бразильской и американской реакции, последовательных и убежденных врагов бразильского народа, Амаду, пожалуй, первый из писателей Латинской Америки с такой полнотой вскрывает связь реакционеров южноамериканского континента с силами мировой реакции. Если во многих романах прогрессивных латиноамериканских писателей фигуры реакционеров носят чисто местный характер, то в «Подполье свободы» бразильские промышленники и помещики показаны как сознательные враги прогресса, как один из мощных отрядов мировой реакции. Политическая действительность Латинской Америки наших дней и особенно последние события в Гватемале и в самой Бразилии после самоубийства президента Варгаса вполне подтверждают эту оценку писателя. И все же автор, а за ним и читатель горячо верят в окончательную победу бразильского народа над силами империализма и внутренней реакции, в победу дела мира и национального освобождения. Несмотря на тяжелые потери и временные неудачи, Коммунистическая партия Бразилии благодаря героизму своих членов и всего бразильского народа выходит победительницей из суровой и неравной борьбы. Яркое подтверждение первых побед бразильского народа, борющегося за национальную независимость Бразилии, мы находим в успешном завершении забастовок рабочих. Достаточно указать, что большинство этих забастовок – а за период с июня 1952 года по сентябрь 1953 года в Бразилии бастовало 1200 тысяч человек – закончилось победой бразильских трудящихся. О размере забастовок свидетельствует тот факт, что в забастовке в Сан-Пауло и во всебразильской забастовке моряков участвовало до 100 тысяч человек. Подтверждением крупных побед бразильского народа является также успешная деятельность «Совета по защите нефтяных ресурсов и национальной экономики», объединившего тысячи патриотов, среди которых немало крупных общественных деятелей, в том числе представителей передовой бразильской интеллигенции, выступающей в защиту национальной культуры. В стране все шире развертывается кампания за установление торговых отношений с Советским Союзом и странами народной демократии. Не менее ярким показателем подлинных настроений бразильского народа явилась состоявшаяся в Рио-де-Жанейро в начале апреля 1954 года конференция «За национальное освобождение Бразилии», поддержанная всеми прогрессивными силами страны. На конференции были обсуждены острейшие проблемы, возникшие в связи с защитой национальной экономики и естественных богатств Бразилии от посягательств на них иностранных монополий, а также вопросы, связанные с защитой демократических свобод и с борьбой за национальное освобождение. Прямым результатом решений, принятых конференцией, явился проект создания «Союза борьбы за национальное освобождение» – массовой организации, ставящей своей задачей создание широкого народного фронта и объединение всех бразильских патриотов, борющихся против американского хозяйничанья в стране, против чудовищного ограбления ее американскими хищниками. Все эти победы бразильского народа стали возможными лишь благодаря той героической борьбе, которую ведут под руководством коммунистической партии уже много лет трудящиеся Бразилии, – борьбе, об одном из исключительно важных этапов которой рассказывает нам «Подполье свободы». Читатель, познакомившийся с романом Жоржи Амаду, не может не отметить то замечательное мастерство, с каким автор рисует разнообразнейшие человеческие образы – героических борцов за свободу бразильского народа, с одной стороны, и его врагов – с другой, ту художественную проникновенность, с какой он воссоздает события 1937–1940 годов – эпохи, весьма важной в истории Бразилии. В романе «Подполье свободы» Амаду снова проявил себя как взыскательный художник и выдающийся представитель прогрессивной литературы Латинской Америки. Ф. Кельин. Зелии и Джеймсу, Диоженесу Арруде, Лорану Казанова, Анне Зегерс и Майклу Голду дружески посвящаю  ОДНУ ЛИШЬ ПРАВДУ РАССКАЗАТЬ ХОЧУ Я, – ЕЕ МНЕ ОПЫТ ЖИЗНИ ПОДСКАЗАЛ. ОТ СЕРДЦА РЕЧЬ ВЕДУ И НЕ СОЛГУ Я. Л. Камоэнс. Сонеты «Подполье свободы» – первый роман трилогии под общим заглавием «Каменная стена», в которой автор намерен дать картину борьбы бразильского народа за мир и свободу под руководством рабочего класса за время начиная с государственного переворота 1937 года и до наших дней. Первый роман охватывает период с ноября 1937 года по ноябрь 1940 года. Время действия второго романа, «Народ на площади», 1941–1945 годы. Третий том, «Агония ночи», будет посвящен борьбе бразильского народа в наши дни. КНИГА ПЕРВАЯ. СУРОВЫЕ ВРЕМЕНА Я УТРА СТРАСТНО ЖДАЛ, НО УТРО НЕ НАСТАЛО… Глава первая  1
То был месяц дурных известий. Депутат Артур Карнейро-Маседо-да-Роша, отпрыск древнего паулистского рода[1], с радостью подумал о том, что еще несколько часов, и придет конец этому зловещему месяцу – октябрю 1937 года. Может быть, ноябрь начнется под более счастливой звездой. Он заехал домой переодеться и, очищая карманы снятого пиджака, нашел телеграмму от Пауло. Еще раз прочел ее и с раздражением бросил на кровать. Когда тот приедет? И чего ради застрял в Буэнос-Айресе? Телеграмма ничего не уточняла, Пауло мог прилететь в любую минуту и, конечно, здесь его подстерегут столь падкие на сенсацию репортеры. Он старался не думать о предстоящем прибытии сына и связанном с ним скандале. Прежде чем выйти, он еще раз взглянул на себя в зеркало и нашел, что в этом хорошо сшитом смокинге выглядит элегантно и еще интересен, несмотря на свои пятьдесят лет. Кто бы дал ему столько? Он сумел хорошо сохраниться, а седеющие виски только придавали ему известное достоинство, присущее политическим деятелям его масштаба. Он поправил галстук и вспомнил о Мариэте Вале. На улице шофер слегка поклонился, распахивая перед ним дверцу большого черного автомобиля. Артур распорядился: – В дом Коста-Вале. В начале вечера, прошел дождь, и автомобиль, несясь по молчаливым улицам фешенебельных кварталов, пересекал омытый дождем полупустынный город. Сквозь стекла автомобиля Артур видел электрические фонари, бросавшие блики света на мокрую мостовую, где, подобно драгоценным камням, блестели капли дождя. По мере приближения к центру движение усиливалось, и автомобиль замедлил ход. Длинная вереница машин, направлявшихся к муниципальному театру, заполнила виадук Аньянга-бау. Ожидая, пока освободится путь, Артур сквозь забрызганные дождем стекла автомобиля прочел чуть не по слогам надпись, нанесенную неизвестной рукой на солидных стенах монументального здания американской энергетической монополии «Лайт энд пауэр»[2]: «Долой империализм янки! Да здравствует Коммунистическая партия Бразилии!» Он опять предался своим невеселым размышлениям об октябре. Машина тронулась, однако Артур еще различал крамольную надпись на стене. Она напоминала ему беседу с одним из коммунистических лидеров. В памяти снова возникли слова этого молодого человека: он предлагал установить на предстоящих выборах единство демократических сил и рисовал мрачную перспективу в том случае, если демократические деятели продолжат свою политику «зажмуренных глаз». Странное смешение чувств при воспоминании об этой встрече овладело Артуром: явная досада на то, что этот молодой, плохо одетый человек, вышедший несомненно из рабочей среды, захотел учить его политике, и явное восхищение личностью революционного деятеля. Он вспомнил о другой встрече, которая состоялась в этом месяце, – о встрече с министром иностранных дел, толстым и слащавым дипломатом; Артуру пришлось посетить министра в связи с делом Пауло. Эта беседа была также неприятна, ничего хорошего в его памяти она не оставила. И все же разговор был иным: хозяином положения все время оставался Артур, направляя и развивая ход беседы так, как ему было угодно. Но несмотря на это, воспоминание о встрече было ему неприятно. Лучше припомнить что-нибудь более веселое, оторваться от досадных воспоминаний об этом октябре. Почему бы не вспомнить о Мариэте Вале, которую он скоро увидит после долгих месяцев отсутствия? Жемчужное ожерелье будет снова блистать на ее стройной шее – ярче, чем капли воды, пронизанные электрическим светом… Почему не вспомнить о ее глазах и улыбке – он их увидит уже через какие-то мгновения! Зачем огорчаться из-за всяких политических слухов, из-за телеграммы, извещающей о скором прибытии Пауло, из-за скандала, связанного с его попойкой, из-за встречи с министром, из-за недавней беседы с коммунистическим руководителем? И вместе с тем у него все еще звучали в ушах последние слова, почти торжественно произнесенные этим коммунистом: – Вина полностью падет на вас, господа. Что же касается нас, мы будем знать, что делать… Глядя на мокрую мостовую, он старался представить себе в этом тусклом свете электрических фонарей смуглое, томное лицо Мариэты, столько лет безнадежно желанное для него. Однако перед глазами снова возникало худое, изможденное лицо молодого человека, которого Сисеро д'Алмейда представил ему просто как «Жоана». Крупная голова с начинающими редеть волосами, глубоко запавшие пытливые глаза, нервные руки и неожиданно спокойный низкий голос, неторопливый и размеренный, как у профессора. После беседы Артуру стало ясно, что его пресловутая политическая изворотливость («хитер, как кот», – отзывался о нем лидер большинства в палате) нисколько не помогла ему в разговоре с коммунистом. А тот знал, чего хотел, и высказал это спокойно, не ища вежливых слов, без всяких обиняков, в прямой и ясной форме, непривычной для Артура. А когда Артур попытался пустить в ход свои уловки, коммунист только улыбнулся и предоставил ему возможность говорить, а затем, перечислив конкретные факты, вернулся к своим точным выводам, к предложению о единстве всех демократических сил против Жетулио Варгаса[3] и интегралистов[4]. Ни на миг за всю полуторачасовую беседу Артур не почувствовал себя хозяином положения. Да, октябрь был месяцем дурных известий, неприятных событий. В воздухе чувствовалась тягостная неопределенность, людьми овладела тревога, переходящая в необъяснимое чувство страха: вот-вот произойдет что-то непредвиденное, чего невозможно избежать. Никто не знал точно, что случится, но – чорт его знает почему – никто не верил и в то, что выборы состоятся. Откуда же такая почти абсолютная уверенность в неизбежности чего-то непредвиденного, что нарушит нормальный ход избирательной кампании, чего-то такого, что, казалось, известно всем, хотя на самом деле никто ничего определенного не знал и не было на этот счет никаких конкретных доказательств? И все же атмосфера тревоги и ожидания была настолько сильна, что Артур, беседуя со своими коллегами в кулуарах палаты депутатов или встречаясь со своими единомышленниками в провинции, чувствовал страх, как нечто почти осязаемое. В конце концов, несмотря на большой политический опыт депутата, выдвинувший Артура в число самых искусных членов парламента и антижетулистских[5] лидеров с наибольшим престижем, тревога овладела и им. Правда, что коммунист «Жоан» («Как же все-таки его зовут на самом деле? – спрашивал себя Артур. – Конечно, его имя не Жоан…») только уточнил то, что носилось в воздухе: он без обиняков говорил о государственном перевороте, подготовлявшемся Жетулио Варгасом в союзе с интегралистами. Вопреки всем другим политикам он утверждал от имени своей партии, этой таинственной и грозной партии, которая никогда не фигурировала в списке легальных политических группировок страны, что переворота можно избежать и выборы могут состояться, если силы, поддерживающие обоих кандидатов на пост президента республики, пожелают объединиться и заключить на период избирательной кампании перемирие, чтобы воспрепятствовать махинациям Варгаса и фашистов. Достаточно публичного заявления, подписанного обоими кандидатами и поддерживающими их губернаторами – хозяевами положения в самых важных штатах, – чтобы обратить внимание общественного мнения на подготовляемый переворот и предотвратить его. Коммунист проявил отличное знакомство с положением. – Я не имею в виду губернатора штата Минас-Жераис, – сказал он. – Это человек, целиком преданный Жетулио. Я говорю о штатах, оказывающих реальную поддержку обоим кандидатам: Сан-Пауло, Рио-Гранде-до-Сул и Пернамбуко. Да, коммунист говорил о конкретных вещах: о поездке агента Варгаса, самолет которого останавливался в столице каждого штата для консультации (или, вернее, как он выразился, для предупреждения) губернаторов о предстоящем перевороте, дата которого уже намечена. Один юрист из штата Минас-Жераис уже составил, по его словам, фашистскую конституцию, получившую одобрение интегралистов; военным комендантом Рио-де-Жанейро якобы будет назначен фашиствующий генерал. Это были не просто слухи – коммунист оказался отлично информированным. Артур и раньше имел сведения о поездке посланца Жетулио Варгаса, но «Жоан» сообщил ему новые подробности, не оставляющие никаких сомнений в том, что переворот действительно подготавливается и что с избирательной кампанией скоро будет покончено. Тогда наступит конец и самым заветным мечтам депутата Артура Карнейро-Маседо-да-Роша, назначение которого на пост министра юстиции, в случае если Армандо Салес[6] будет избран президентом республики, считалось делом решенным. Даже скандал, вызванный попойкой Пауло, не поколебал шансов Артура на получение министерского портфеля. Правда, враждебная печать использовала этот инцидент самым возмутительным образом. Кричащие газетные сообщения, крупные «шапки» и заголовки, редакционные статьи, трубящие о «чести Бразилии, втоптанной в грязь», о «пьянице, нарушившем благородные традиции бразильской дипломатии», – все это связывалось в глазах читателей не столько с именем Пауло, сколько с именем его отца – депутата Маседо-да-Роша, руководителя пропаганды в пользу кандидатуры Армандо Салеса и одного из самых влиятельных лидеров его партии. Дело изображалось так, будто этот юноша – второй секретарь посольства, которому до смерти надоела пошлая скука жизни в Боготе и который просто, выпив лишнего, сказал несколько грубых слов в разгар дипломатического приема, – был каким-то чудовищем о семи головах. Даже допуская, что газеты писали правду (Артур знал, что это правда, ибо Пауло терял всякий контроль над собой, когда напивался), даже если Пауло действительно пытался – как рассказывали, смакуя подробности, телеграммы на первых полосах газет – раздеть во время танцев посреди переполненного зала жену дона Антонио Рейеса и вступил в драку с теми, кто пытался удержать его от этой затеи, – даже если и так, история при нормальных обстоятельствах никогда бы не вышла за рамки простого инцидента, не имеющего серьезных последствий. Этот инцидент только вызвал бы перешептывания в коридорах Итамарати[7] и в худшем случае привел бы к назначению Пауло в одну из европейских столиц, где попойки секретарей южноамериканских посольств считаются обычным делом. На этот раз, однако, история имела более серьезные последствия: газеты посвятили ей напечатанные жирным шрифтом передовые и редакционные статьи, журналы поместили карикатуры, а один из театров Рио-де-Жанейро даже включил в свое обозрение посвященную этому событию юмористическую сценку, имевшую большой успех у публики. Словом, возникла отвратительная шумиха. Получилось так, будто из-за мальчика создалась опасность войны между Бразилией и Колумбией, будто его выпивка («обычнейшее явление среди наших дипломатов», – как сказал Маседо-да-Роша министру) обесчестила родину и оскорбила патриотические чувства колумбийской нации. Но это же обычная политическая спекуляция! Попытка втянуть в скандал не только его, Артура, но и всю представляемую им политическую группировку, все аристократические паулистские семьи, владеющие огромными пространствами земли и миллионами кофейных деревьев. Их изображали как символ вырождения расы, как людей, скатывающихся к пьянству и распутству, не способных поэтому руководить общественной жизнью страны. Жетулистские газеты, используя в качестве предлога скандал с Пауло, подвергли нападкам всю избирательную кампанию, а интегралисты заговорили о необходимости «влить свежую кровь в Итамарати». И все они в один голос требовали «примерного наказания для папенькиного сынка, запятнавшего в цивилизованной столице соседней республики высокую репутацию, которую завоевал для нашей родины Рио-Бранко[8], возглавляя министерство иностранных дел». Хотели даже уволить беднягу. Поэтому-то Артур и был вынужден говорить с министром начистоту, высказать ему всю правду. Это обстоятельство и сделало беседу неприятной: Артуру пришлось отступить от своих привычек, от своей обычной манеры держать себя вкрадчиво и мягко. И это ему, не любящему резкостей! Но из надежного источника он узнал, что министр уже составил телеграмму с требованием, чтобы Пауло подал в отставку. Что же оставалось делать, как не проявить резкость – пойти на угрозы, показать, что он, Артур, опасный противник? Надо было спасать карьеру сына… Этой беседой и начался октябрь, а закончился он встречей с коммунистическим лидером – встречей, которая была окутана тайной, дважды откладывалась и оставила еще более горькие воспоминания, чем дипломатическая беседа в министерском кабинете в Итамарати. Как бы ни был неприятен визит к министру, он все же закончился для Артура победой: никакое взыскание не испортит карьеры Пауло, он лишь останется в течение нескольких месяцев в Рио-де-Жанейро без назначения за границу. Артуру пришлось говорить откровенно, угрожающим тоном; он дал понять, что ему до мельчайших подробностей знакомы (недаром за плечами у него двадцать пять лет политической деятельности) бесконечные скандалы, лицемерно скрываемые за солидными стенами Итамарати. Он перечислил имена и факты. Рассказал напуганному министру содержание речи, подготовленной им на случай, если отставка или какая-либо другая санкция по отношению к Пауло вынудит его поставить этот вопрос в палате депутатов. Пока дело не идет дальше политической спекуляции в газетах, он будет хранить молчание. Но если на сына будет наложено хоть какое-нибудь дисциплинарное взыскание, тогда… Однако даже обо всех этих неприятных для министра вещах Артур говорил своим размеренным, вкрадчивым голосом, принесшим ему славу хорошего парламентского оратора. Какое значение, говорил он, имеет мальчишеская выходка Пауло («кто из молодых дипломатов не напивался хотя бы раз в жизни?») по сравнению со скандалом, учиненным советником бразильского посольства в Лиссабоне, ныне посланником в Египте, представляющим собой видную фигуру в Итамарати? Министр, несомненно, помнит этот случай, происшедший всего год назад: дипломат, в ту пору советник посольства, был арестован португальской полицией, когда он голый, будучи пьян как сапожник, купался в полночь на фешенебельном пляже Эсторил с женой португальского министра общественных работ; «подобно Еве в раю, она прикрывала свою наготу только длинными волосами». Он улыбнулся, произнося эту фразу, придавшую его речи, как мог заметить министр, известную грациозность. Самое худшее, что он будет вынужден назвать имя жены португальского министра, замешанной в скандале, именно теперь, когда наши отношения с правительством Салазара[9] стали настолько сердечными. Но что же ему остается делать, если тот шумный скандал был полностью замят (не появилось даже ни одного сообщения в газетах), а советника премировали за чрезмерную приверженность к наготе, назначив его посланником в Египет? Министр пытался прервать его, но Артур продолжал приводить подробности одного скандала за другим. Что можно сказать, например, о посланнике в Финляндии, которого, в нарушение дипломатической неприкосновенности, продержали три дня в хельсинкской тюрьме за то, что он в состоянии самого безобразного опьянения разгромил мирное северное кабарэ? В Бразилии почти никто не узнал об этой истории, послужившей, однако, карикатуристам Скандинавии темой для шаржей в юмористических журналах, которые случайно попали ему, Артуру, в руки и которые он мог продемонстрировать с трибуны палаты депутатов. Он вынужден сделать это, хотя и с сожалением, ибо упомянутый дипломат – ныне посол в Соединенных Штатах и одна из самых влиятельных личностей в нашей дипломатии – был его старым товарищем: они вместе учились на факультете права в Сан-Пауло. Министр должен понять, что на карту поставлена карьера и честь его сына, а также честь самого Артура, которую печать при соучастии правительства – он подчеркнул эти слова – опорочивала из-за инцидента, не имеющего ни малейшего значения: ведь малый попросту выпил немного лишнего. И он не предполагает ограничиться простым перечислением в палате всех этих скандальных похождений прославленных дипломатов. Министр, конечно, знает, что в его ведомстве происходят вещи, куда более серьезные, чем простые попойки, вызвавшие те или иные сплетни: там происходят вещи, которые он – Артур заявил это почти нежно – ни за что и никогда не хотел бы предавать гласности. Как политический деятель, ревностно заботящийся о престиже консервативных классов, Артур предпочел бы, чтобы трудящиеся массы, и без того недовольные, и без того зараженные подрывными коммунистическими идеями, не узнали бы об этих фактах, отнюдь не способствующих поддержанию престижа общественных деятелей государства. Если он это сделает, если он все же будет вынужден произнести такую речь, пусть винят не его, а именно тех, кто хочет использовать попойку Пауло в политических целях. Что сказал бы народ, узнав о «чайной афере», в которой было замешано почти всё дипломатическое представительство Бразилии в Китае, – об этой коммерческой операции, принесшей миллионы долларов сотрудникам нашего посольства в Пекине? И разве не доставило бы удовольствия «людишкам из простонародья» чтение огромного списка – поистине огромного, сеньор министр, – видных чиновников Итамарати, «предающихся изысканному пороку педерастии»? Ведь подобных скандалов становится все больше, и некоторые из них носят поистине пикантный характер. Все это, без сомнения, благодарный материал для речи, направленной против правительства. Взять хотя бы забавную историю, происшедшую в Буэнос-Айресе во время мирной конференции по окончании войны в Чако[10], – историю, в которую оказались замешаны красивый молодой секретарь посольства и достойнейший и изысканнейший посол. Министр не дал ему продолжать (Артур хотел было процитировать отрывки из поэмы, которую посол посвятил молодому секретарю): он был сражен, подавлен и особенно старался избежать упоминания об афере с чаем, в которой был замешан его близкий родственник. Он сам даже начал извинять поведение Пауло. «Это все – мальчишество», – сказал он, утверждая, что ему никогда и в голову не приходило наложить на того какое-либо взыскание. Он осуждал шумиху, поднятую падкой на сенсации прессой, – шумиху, в которой отражалась и старая недоброжелательность по отношению к Итамарати, и вечное соперничество между дипломатами и журналистами, усугубленное политическими страстями, связанными с избирательной кампанией. Но всё, по его словам, должно устроиться наилучшим образом; возможно, понадобится лишь, чтобы Пауло провел около полугода в одном из секретариатов министерства, после чего министр сам поможет ему получить хороший пост в Европе. И дипломат добавил с фальшивой ноткой меланхолии в голосе: – К тому времени я уже не буду министром: пройдут выборы, и кто-либо другой займет этот кабинет. Но депутат почувствовал иронический оттенок в голосе министра, словно тот не верил ни в выборы, ни в возможность назначения нового министра. Позднее Артур удивился, узнав в чиновнике канцелярии министра, провожавшем его по коридорам, интегралиста, резкие статьи которого требовали установить в стране «режим сильной руки» и покончить с «гнусной избирательной комедией». Интегралисты теперь находились везде, и повсюду чувствовалась эта атмосфера конспирации, подготовляемых переворотов, приглушенных разговоров, ожидания каких-то событий. Возможно, именно эта тревожная обстановка, это смутное чувство страха привели Артура к беседе с коммунистическим лидером; встретиться с ним предложил депутату известный писатель Сисеро д'Алмейда. Артуру хотелось знать, что думают коммунисты о создавшемся положении, он рассчитывал получить у них нужные ему сведения, ибо коммунисты считались хорошо информированными. Играло роль и известное любопытство – ему хотелось познакомиться и побеседовать с одним из тех никому не ведомых отважных людей, которые из подполья руководили коммунистической борьбой. Коммунисты, которых он знал, были главным образом представителями интеллигенции, вроде Сисеро д'Алмейды, а Артур не мог считать Сисеро «коммунистом», связывая его со всем тем, что для него означало это слово. Сисеро, как и он сам, происходил из старинной аристократической семьи плантаторов, его предки были такими же рабовладельцами, как и предки Артура; как и он, Сисеро учился на факультете права в Сан-Пауло; одевались они у одного и того же дорогого портного, заказывали обувь в одном и том же фешенебельном ателье, встречались на одних и тех же приемах и иногда даже спорили друг с другом, причем писатель, под звон хрустальных бокалов, где поблескивало виски, цитировал Маркса. Коммунизм у Сисеро был, по мнению Артура, только прихотью ума, не представлявшей серьезной опасности. Он сам обращался однажды к властям, чтобы освободить писателя, когда того арестовали. Он сказал тогда начальнику полиции: – Это все причуды молодого интеллигента. В конце концов, у него ведь незаурядный талант, и он сын старого советника Алмейды, наследник всего его состояния. Придет время, мы сделаем его депутатом, и он излечится от коммунизма… – И добавил, как бы обобщая сказанное: – Эта история с коммунизмом и интегрализмом похожа на корь, которой в известном возрасте болеют все дети. С интеллигентами происходит то же самое, но затем, с течением времени, они выздоравливают… Начальник полиции считал, однако, что здесь есть разница. Одно дело – коммунизм, стремящийся разрушить общество; совершенно другое – интегрализм, чрезвычайно патриотическая доктрина, преисполненная здорового и благородного национализма, основанная на христианских чувствах. Но все же он удовлетворил просьбу Артура и освободил Сисеро. Когда встал вопрос о кандидатурах на пост президента, Артур воспользовался своими отношениями с Сисеро, чтобы позондировать у коммунистов почву – захотят ли они поддержать кандидатуру Армандо Салеса. Он ничего, правда, не достиг, так как коммунисты потребовали принятия невозможной программы: аграрной реформы, амнистии для политических заключенных – участников восстания 1935 года[11], действенной борьбы против фашизма и империализма, борьбы за национализацию предприятий американских трестов… Несмотря на это, он продолжал поддерживать хорошие отношения с Сисеро, постоянно удивляясь при встрече, что тот все еще коммунист, как он удивился бы, встретив Сисеро в грязной рубашке или небритым. По мнению Артура, быть коммунистом просто не к лицу Сисеро – этому ярко выраженному паулистскому аристократу. Однако с другим коммунистом, с которым ему довелось говорить недавно, было иначе. Артур не стал бы хлопотать за него перед начальником полиции. В нем («Как же все-таки его зовут на самом деле?» – Артуру хотелось бы узнать это) сразу чувствовалась сила, убежденность, не имевшие ничего общего с интеллигентским «любительским» отношением к партии, страстность в суровом голосе и проницательных глазах. Он говорил о конкретных вещах, обвинял Артура и его единомышленников, даже не повышая при этом голоса: – Когда вы, господа оппозиционеры, проголосовали за продление осадного положения, вы фактически проголосовали за роспуск палаты. Это – парламентское самоубийство. – Но палата ведь не распущена… – Она будет распущена. Артур хотел перейти в контратаку; он коснулся подрывного плана, якобы раскрытого генеральным штабом армии, – плана коммунистической революции, разработанного за границей, наверное в Москве. Именно этим предлогом президент воспользовался для введения осадного положения. Молодой человек, сидевший напротив него, слегка улыбнулся. – Никто из вас, господа, не верит в этот план. Все знают, что он от начала до конца сфабрикован в кабинете генерала Гойс-Монтейро[12]. Да и план-то глупый! По мере того как развивалась беседа, коммунист срывал пелену смутного страха, царившего в политических кругах. – Вы ошибаетесь, господа, если думаете, что фашисты ограничатся преследованием коммунистов. Начнут с нас, потом настанет ваш черед. То, что готовят интегралисты и Жетулио, – это фашистский государственный переворот… Артур почувствовал, что бесполезно ходить вокруг да около: словесные увертки, столь удобные в парламентских дискуссиях, не годились для этого разговора. Он выслушал предложение коммунистов: объединить демократические силы, группирующиеся вокруг обоих кандидатов на пост президента, против готовящегося переворота; отсрочить выборы в парламент; опубликовать манифест, подписанный обоими кандидатами в президенты и поддерживающими их губернаторами штатов, где должно быть заявлено об их решимости защищать конституционную законность против всякой угрозы создания фашистского правительства. По мнению коммуниста, возможно, и этой простой декларации будет достаточно, чтобы помешать осуществлению переворота. А если окажется, что этого мало, если Варгас и интегралисты будут упорствовать, то объединенные демократические силы могут быстро подавить любую попытку переворота, восстановить порядок и обеспечить проведение выборов. Артур пытался понять, что скрывается за предложениями «Жоана». Он хотел знать, на что рассчитывают коммунисты, предпочитающие не поддерживать ни одного из двух кандидатов, но использующие избирательную кампанию для того, чтобы снова завоевать некоторые легальные позиции, утраченные ими после поражения восстания 1935 года. Без сомнения, коммунисты, прежде всего, заинтересованы в борьбе против Жетулио и интегралистов, против фашистского режима, но не хотели ли они, выдвигая идею единства, использовать так называемые демократические силы в своих личных интересах? Артур питал инстинктивное недоверие к коммунистам, он чувствовал в них врагов – ему даже не было необходимости искать этому объяснений. Когда коммунист кончил говорить, Артур заметил: – На стороне Жетулио армия, а у интегралистов большая сила во флоте… – Вы, господа, имеете оружие; на вашей стороне военная полиция штатов. Народ готов бороться против фашистского переворота. Значительная часть армейского офицерства настроена антифашистски. И весь народ – против фашизма. Если вы хотите оказать сопротивление перевороту, только здесь, в Сан-Пауло, мы сможем поднять двадцать тысяч рабочих. Он замолк в ожидании ответа. Артур зажег сигару и погрузился в раздумье. Предложение об объединении антифашистских сил сначала показалось ему в какой-то мере приемлемым. Действительно, таким путем, возможно, удалось бы предотвратить переворот, выиграть время для того, чтобы повысить шансы Армандо Салеса, обеспечить популярность, которой ему нехватало. Но когда коммунист заговорил о том, чтобы вооружить рабочих и привлечь к этому профсоюзы, у него зародились сомнения. Не так он понимал политику: она для него была уделом «избранных»; по его мнению, политические проблемы должны были решаться узкой группой людей, а не всем этим чуждым, далеким и беспокойным миром трудящихся. Достаточно того, что приходится давать обещания простонародью – людям, которые в прошлом вслепую голосовали за кандидатуры, указанные им заправилами избирательной кампании. Он обещал поговорить со своими единомышленниками, потому что идея единства имеет и свои положительные стороны, но постарался не связывать себя никакими обещаниями. Коммунист, казалось, прочел зародившиеся в его душе сомнения. Он поднялся, чтобы проститься. – Вы просто боитесь вооружить народ, вот в чем дело… Вы предпочитаете, чтобы Жетулио оставался у власти. По-вашему, пусть уж будут лучше интегралисты с их фашистской конституцией, чем правительство, опирающееся на поддержку народа. Но впоследствии вам придется пожалеть об этом… Артур улыбнулся. – Позвольте заметить, молодой человек, что я уже четверть века делаю политику… Коммунист ушел, и улыбка исчезла с лица депутата Артура Карнейро-Маседо-да-Роша. После этого разговора у него не осталось никаких сомнений в том, что государственный переворот близок и что его мечты о министерстве, о крупных деловых операциях находятся под серьезной угрозой. Даже сейчас, в автомобиле, направляясь в дом банкира Коста-Вале, где он снова увидит Мариэту, только что вернувшуюся после полугодового пребывания в Европе, он думал обо всем этом, хотя ему и хотелось быть совершенно спокойным, чтобы предаться радости предстоящей встречи. Автомобиль повернул на фешенебельную улицу, где был расположен особняк Коста-Вале. Нависшие над улицей кроны деревьев поглощали рассеянный свет электрических фонарей, и какое-то спокойствие, нисходящее на этот богатый уголок города, вернуло Артуру уверенность в себе. Он закрыл на миг глаза; существовал секрет, которого коммунист не знал и которого Артур, конечно, не открыл ему: они, сторонники кандидатуры Армандо Салеса, тоже не были удовлетворены подготовкой к выборам; они тоже разрабатывали свои планы переворота, устанавливали связи в армии и во флоте – и до или после того как Варгас начнет действовать; собирались сами произвести переворот и прийти к власти, не прибегая к необходимости вручать оружие профсоюзам и коммунистам… На лице Артура снова появилась легкая улыбка – наконец-то через несколько часов этот зловещий месяц кончится и начнется ноябрь. Мариэта теперь здесь, скоро он станет министром, и, что бы там ни было, жизнь прекрасна… Он сладко потянулся, как бы желая прогнать остатки неприятных мыслей. Был теплый вечер. Артур вышел из машины и очутился под деревьями сада, который окружал особняк, построенный в колониальном стиле. Он задержался на мгновение у входа в дом. Через полуоткрытую дверь до него донесся приглушенный шум разговоров, звон бокалов, хрустальный женский смех. Артур тотчас же узнал его – это смеялась Мариэта: ни у кого другого не было такого нежного и мелодичного смеха. Из большой гостиной Мариэта Вале увидела его у входа и с протянутыми руками пошла навстречу. Она была в вечернем декольтированном платье. Артур поцеловал ее тонкую руку, на миг задержав ее ласковым жестом. Она спросила: – Правда, что приезжает Паулиньо? – В любую минуту этот сумасшедший может сойти с самолета. Мариэта улыбнулась, показывая свои великолепные зубы; известие это обрадовало ее больше, чем бы ей самой хотелось. Артур посмотрел на нее долгим взглядом – позднее в зале это было бы неудобно. Она все еще казалась красивой и привлекательной женщиной, несмотря на свои сорок три года. У нее были большие глаза на смуглом, тонко очерченном лице и обворожительный рот. На ее лице постоянно играла легкая, чуть насмешливая улыбка, свойственная человеку, находящему развлечение во всем и во всех. Ее фигура, не знакомая с поясами и корсетами, сохраняла девическую стройность. Ее обнаженные плечи были еще свежее, чем лицо, как будто годы вовсе не властвовали над ней. Артур прошептал: – Ты выглядишь прекраснее, чем когда-либо… Мариэта пожала плечами. – Париж омолаживает… И она снова заговорила о Пауло, прося Артура рассказать подробности случившегося в Боготе и возмущаясь тем, что газеты непомерно раздули эту скандальную историю. – Я очень беспокоюсь о Паулиньо, ты же знаешь. Мальчик воспитывался без матери и к тому же таким легкомысленным отцом, как ты. Анжела была моей подругой, и я обязана проявлять заботу о судьбе ее сына… Артур, охваченный внезапно нахлынувшими воспоминаниями, склонил голову. – Ты могла бы стать матерью Пауло. Как я был глуп… – Не будем возвращаться к давно похороненному прошлому; я даже не вспоминаю о нем. А если иногда и задумаюсь об этом, то прихожу к заключению, что мы поступили в общем правильно. Думал ли ты серьезно, что бы вышло, если бы мы поженились? Мы остались бы бедняками и влачили жалкое существование. Денег у меня не было, весь мой капитал – моя внешность, но это уж от бога. У тебя тоже не было средств; твой капитал – унаследованное тобой знатное имя – единственное, что ты не мог растратить в кабарэ… Каждый из нас неплохо использовал свой маленький капитал… – на ее лице снова заиграла та чуть насмешливая улыбка, с которой она на время было рассталась, – …и получил хорошие проценты.. Артур посмотрел на нее с изумлением: раньше она никогда так не рассуждала. Правда, за все двадцать пять лет их знакомства они редко вспоминали прежние времена. Вскоре после того, как она вышла замуж, еще до рождения Пауло, он пытался за ней ухаживать, но она отвергла его попытки раз и навсегда. Если он хочет остаться ее другом, она будет счастлива, но никогда не станет его любовницей. Она высказала это ему с такой твердостью, что он не стал больше настаивать. Дружба между ними, носившая характер чисто родственной нежности, все больше укреплялась, и Артур неоднократно приходил за советами к Мариэте и ее мужу, также ставшему его близким другом. За последние двадцать лет, после смерти Анжелы, дом Коста-Вале стал в известной мере и его домом: сюда он запросто приезжал играть в бридж, обедать, вести длинные беседы. Когда после вооруженного выступления 1932 года[13] Артур находился в эмиграции в Португалии и Франции, Коста-Вале оплачивал расходы «безработного политика», как он смеясь называл его. – Там, в Европе, ты стала циничной… – заметил Артур. Мариэта опять пожала плечами, снова улыбнулась. – Циничной? Ну что ж, думай как хочешь. А ты, видно, так и умрешь, не избавившись от своей сентиментальности. У меня есть здравая привычка рассуждать. – В голосе ее появились какие-то стальные нотки, и весь облик стал суровым, что еще больше оттеняло ее красоту. – Для меня прежде всего рассудок, а потом уж сердце. И я себя чувствую отлично… Да, кстати, Артур, нам с тобой нужно поговорить серьезно – мне и Жозе (Жозе был ее муж). Возможно, это удастся после приема. Артур был заинтригован. – А в чем дело? – Это долгий разговор, потолкуем позднее… На мгновение она о чем-то задумалась. Потом вспомнила о Пауло, который должен был скоро приехать, и сказала: – Не думай, что я уж совсем плохая. Ради Паулиньо я бы пошла даже на жертвы: он – моя слабость… – Ласковым жестом она прикоснулась к руке Артура. – Ну что ж, пойдем… – И, входя в большую залу, полную гостей, Мариэта, как бы продолжая разговор, громко сказала: – Итак, все, что говорят о государственном перевороте, – только слухи? Артур тоже повысил голос и придал ему несколько декламационную интонацию: – Да, Мариэта, это все слухи, распространяемые теми, кому нечего делать. Выборы состоятся в положенный срок, и мы выиграем более чем тремястами тысяч голосов. Сан-Пауло пока еще Сан-Пауло! 2
Мариэта подвела его к группе гостей, где Жозе Коста-Вале, вытирая платком пот с лысины, разглагольствовал о судьбах мировой политики. Старый профессор медицинского факультета известный врач Алсебиадес де Мораис, сенатор Венансио Флоривал – помещик, крупнейший землевладелец в Мато-Гроссо и человек исключительного невежества, а также поэт Сезар Гильерме Шопел, мулат непомерной толщины, с уважением слушали высказывания банкира. Время от времени Сезар Гильерме испускал удивленные восклицания, и его голос был преисполнен такой нежной лести, как если бы он объяснялся в любви женщине поразительной красоты. Артур обратился к Мариэте, когда они подходили к ее мужу: – Жозе превращается в настоящего оратора… Надо бы выставить его кандидатуру в сенат. Смотри, как Шопел упивается его словами… Торопливым шопотом Мариэта высказала свое мнение о поэте! – Не понимаю, как можно быть одновременно столь умным и столь подлым… Но гости уже замолчали. Коста-Вале протянул Артуру руку. Поэт вполголоса повторил последнее замечание банкира, как бы для того, чтобы оценить его по достоинству и придать ему еще большую значимость в глазах других: – Этот Гитлер – гений… Артур обнялся с Коста-Вале и затем несколько отступил от него, чтобы лучше рассмотреть бледное лицо банкира с холодными и проницательными глазами. – У тебя отличный вид. Европа пошла тебе на пользу. Жозе Коста-Вале также разглядывал депутата. Он высоко ценил Артура и сейчас дружески улыбался ему. Он испытывал известное уважение к его политической ловкости и некоторую зависть к его аристократическому виду, к своеобразному кастовому превосходству, – естественному для Артура, но недостижимому, несмотря на все его миллионы, для Коста-Вале, вышедшего из самых низов, о чем он любил повторять с известным тщеславием. Чувства восхищения Артуром и уважения к нему у Коста-Вале сочетались с некоторой дружеской снисходительностью: у Артура нехватало энергии и решительности, и это всегда создавало для него сложные проблемы. Большое удовольствие для Коста-Вале доставляли ошибки Артура, на которые он любил ему указывать. Банкир считал себя в некоторой мере руководителем и советником этого политика, который был «его» депутатом. Ведь именно его банк финансировал избирательные кампании Артура, и Коста-Вале не мог думать о нем иначе, как о каком-то своем высоком чиновнике и в то же время полезном и импозантном представителе своего банка в палате депутатов. Политический престиж Артура был ему весьма полезен. – Ты вот действительно не стареешь, – сказал Коста-Вале, – а мне все знаменитые врачи Европы ничем не помогли. Я вернулся еще более нездоровым, чем уехал, хотя в общем доволен Европой, в особенности Германией. Знаешь, старина, там творятся серьезные дела, о чем я только что рассказывал друзьям. Дело Гитлера достойно всякого восхищения. Сезар Гильерме Шопел, толстяк на сто двадцать с лишним килограммов, восхищенно рассмеялся; его коричневое лицо при этом расплылось, и складки жира на подбородке пришли в движение. Он льстиво заметил: – Коста-Вале следовало бы написать книгу впечатлений о своей поездке… Присущая ему тонкость наблюдений и политическая проницательность не должны растрачиваться только на разговоры с друзьями. Они должны служить всей стране… Банкир, поглаживая подбородок, слегка улыбнулся и, хотя был явно польщен, иронически сказал: – Этот Шопел, после того как основал свое издательство, думает, что все на свете – писатели и поэты. Сочиняют книги только те, кому нечего делать, а у меня слишком много работы, мне марать бумагу некогда… Поэт резким движением вынул сигару изо рта, от чего пепел рассыпался у него по смокингу, и запротестовал: – Ты видишь, Артурзиньо, это презрение буржуа-миллионера к литературе… Но скажи мне, Коста-Вале, что было бы с великими людьми, если бы не было книг? Возьми самого Гитлера – ведь он всей своей карьерой обязан тем, что написал книгу «Моя борьба». Или вот Черчилль – он не стыдится писать, ни он, ни Форд, сам великий Форд… – Он повернулся к Мариэте. – Вы согласны, что он должен описать свои впечатления от поездки, дона Мариэта? Но раньше, чем та успела ответить, Коста-Вале сказал: – Гитлер – великий человек, в этом нет сомнения. Но выкинь ты, Шопел, из головы абсурдную мысль, что только книга сделала его таким. Книга имеет свое значение для народа. Но, мой друг, не книга привела Гитлера к власти, запомни это хорошенько. Привели его к власти немецкие коста-вале, которые хотя и не умеют писать книг, но зато в смутное время могут разобраться в обстановке… Он сказал это не столько для Шопела, сколько для Артура, как будто он заранее хотел его в чем-то убедить. Мариэта покинула их, откликнувшись на настойчивые приглашения комендадоры[14] да Toppe, очень богатой вдовы одного португальского промышленника. Старуха не пропускала ни одного приема, причем многие говорили, что у нее самый злой язык во всем штате Сан-Пауло. Взор Артура следил за Мариэтой, пока та пересекала залу по направлению к креслу, на котором восседала сплошь увешанная драгоценностями комендадора, заставлявшая хохотать всю окружавшую ее группу. Шопел тоже уставился похотливыми глазами на удалявшуюся женщину. И так как Коста-Вале, беседуя с одним из гостей, находился несколько поодаль, поэт потихоньку сказал Артуру: – Экая бальзаковская богиня!.. При этом он одобрительно прищелкнул языком, но Артур нашел сальным, оскорбительным для Мариэты и намек на ее возраст, и циничный жест, и похотливые глазки поэта, и его огромную жирную тушу. Он не ответил, не улыбнулся, почувствовав, что ему стало как-то не по себе на этом вечере. Ему захотелось, чтобы прием поскорее закончился и он мог остаться в интимном кругу с Мариэтой и Жозе Коста-Вале, послушать их рассказы о Европе, рассказать им бразильские новости и узнать наконец, о каком важном деле они хотят с ним поговорить. У него появилось предчувствие, что напряженная атмосфера этого месяца угрожает продлиться и в начинающемся завтра ноябре. Поэт спросил про Пауло, но Артур, вместо того чтобы ответить, повернулся к старому профессору медицины, который настойчиво вопрошал сенатора Флоривала: – Вы действительно не верите в возможность переворота? – Что касается меня, я не верю… – сказал Артур Поэт принял таинственный вид и приблизился, чтобы послушать, что откроет депутат Артур Карнейро-Маседо-да-Роша, один из самых влиятельных лидеров кампании в пользу кандидатуры губернатора Сан-Пауло на пост президента республики. Сенатор слегка наклонился, чтобы лучше слышать. – Армия дала слово, что выборы будут проведены нормально. Честь армии поставлена на карту! Мы не можем сомневаться в том, что армия сдержит слово, иначе в Бразилии ни во что нельзя верить. – Ну да, армия… – робко согласился профессор; чувствовалось, что он не очень в этом убежден. – А интегралисты? С ними нужно считаться, – вставил Сезар Гильерме, затягиваясь сигарой между отдельными фразами. – Интегралисты… – Артур сделал пренебрежительный жест рукой. – Они много кричат и мало делают. Угрозы, угрозы и ничего больше… Пустая болтовня… – И все-таки они – сила,– возразил поэт. – Фашизм распространяется во всем мире. Посмотрите на Германию, на Италию, а теперь на Испанию. Только что Коста-Вале говорил нам об этом. Такова европейская действительность. Старый профессор кивнул головой. Теперь это было уже не боязливое согласие, а слова человека, убежденного в том, что он говорит: – Да, они – сила. Они растут изо дня в день и опираются на поддержку церкви, правительства, флота. Даже на многих в армии… Я не политик – я ученый, проводящий всю жизнь в своем кабинете, – но их идеи мне по душе… Эти люди серьезны, преисполнены патриотизма, проявляют уважение к религии и к государству… Лакей подал на серебряном подносе коктейли. Профессор отказался; Артур, сенатор и Сезар Гильерме взяли по рюмке. Жозе Коста-Вале, стоя немного поодаль, продолжал беседу с одним из гостей. Артур задумчиво посмотрел сквозь хрусталь рюмки. – Я допускаю, – сказал он, – что в интегралистской доктрине есть здоровые и серьезные принципы, способные воодушевить молодежь. Допускаю даже, что интегралисты обладают известной силой. Но у них нет хороших руководителей… Поэт прервал его: – Ну, не скажите. Плинио[15] у них идол… – Он был моим учеником в фармацевтической школе, – сказал профессор. – Я ему на втором курсе поставил на экзамене хорошую отметку. Не знаю, вспомнит ли он меня… – В голосе его послышались меланхолические нотки. Однако Артур не верил в престиж Плинио Салгадо. – Он одержимый, фанатик, а не политический деятель… Кроме того, у них недостаточно сил, чтобы одним совершить государственный переворот… Ни у них, ни у Жетулио… – А если они объединятся? – Поэт принял еще более таинственный вид. – Вы же знаете, что в действительности переговоры между Плинио и Жетулио начались уже давно. Роль посредника играет Шико де Кампос[16]. Все знали, что поэт близок к де Кампосу, бывшему министру просвещения, и поэтому его сообщение вызвало неприятное продолжительное молчание. Тогда сенатор Венансио Флоривал впервые за весь вечер открыл рот. Он давно уже выпил свой коктейль и теперь потрясал рюмкой, как оружием. – Я поддерживаю сеньора Армандо. – Его голос звучал грубо, как у человека, привыкшего распоряжаться на своих плантациях. – Если эти проклятые выборы состоятся, в чем я, впрочем, сомневаюсь, вся моя округа будет голосовать за него. Но я не лгун и не берусь утверждать, что интегралисты неправы. Однажды они явились ко мне с подписным листом. Я пожелал узнать, на что им деньги. «На борьбу с коммунизмом», ответили мне. Я от всего сердца подписался на двадцать конто[17]. Нам действительно нужно покончить с коммунистами. И кто хочет это сделать – будь то Армандо Салес, Зе Америко[18], Жетулио Варгас или Плинио Салгадо, будь то американец, англичанин или немец, – может на меня рассчитывать. – Коммунисты, – сказал поэт Шопел, – получили сокрушительный удар в 1935 году: их лишили головы. Раз Престес[19] в тюрьме, что они могут без него сделать? – Что они могут сделать? – Сенатор воодушевился, жестикулируя и потрясая рюмкой прямо перед животом поэта, будто это был кинжал, которым он хотел его поразить. – Вот что я вам скажу, Шопел: эти бандиты сумели – не знаю, каким образом, – связаться с людьми моей фазенды[20] и забить им голову всякой ерундой. И вот, может быть, поэтому, в один прекрасный день ко мне явились для переговоров колоны[21] и потребовали подписания трудовых контрактов со всякими там пунктами, чтобы гарантировать права крестьян. Это они-то крестьяне! Вы представляете? «Права крестьян!» Ведь надо же додуматься! Я никогда в жизни не предполагал увидеть что-либо подобное. Все это – затея коммунистов! Конечно, я их всех выгнал с фазенды, а двоих даже избил кнутом. Несколько ударов кнута научат их почтению. – Это конец света, – сказал профессор. Он был напуган в одно и то же время и дерзостью колонов и цинизмом, с которым сенатор говорил об избиении людей кнутом. Артур дал волю своему «антижетулизму»: – Все это результат трабальистской демагогии Жетулио с его законами, охраняющими права рабочих, с его министерством труда и с его трудовой юстицией[22]. Все это вскружило голову рабочим, а теперь и колонам, и работникам фазенд. Жетулио разворошил осиное гнездо… Сенатор, однако, не соглашался: – Ну, что вы, сеньор Артур, что вы! Я мужлан, образования не получал, но вот что я вам скажу: то, что Жетулио сделал, – прекрасно; он не раздразнил ос – нет, наоборот, сеньор, – он их успокоил. Он создал трудовую юстицию, но вместе с тем покончил с забастовками. Чего большего могут желать промышленники? Вовсе не эти законишки, изданные для отвода глаз, сбивают с толку людей. Ну, а что касается фазенд, то для них он никаких законов не издавал, это уж точно. Это все коммунисты забивают людям головы. И нужно покончить с этими бандитами. Лично я уже отдал распоряжение: если кто-либо из них появится на фазенде, – бить палками. Живым он оттуда не уйдет, клянусь богом! Артур засмеялся. – Правосудие на месте, сенатор! Как в колониальные времена[23]. – А знаете, сеньор Артур, в те времена было кое-что и хорошее. – Рабы… – Артур продолжал смеяться. – Хотя бы… – согласился сенатор. – Раб никогда не пришел бы требовать трудового контракта… Шопел взял сенатора под руку. – Последний сторонник рабовладения в Бразилии… Берегитесь, сенатор, враждебные газеты могут устроить шум из-за этой вашей любви к колониальным временам. Плантатор расхохотался. – Я человек откровенный, Шопел. Не умею писать стихи, как это делаете вы, и не умею произносить красивые речи, как это делает наш сеньор Артур. В сенате я рассматриваю проекты и если вижу, что они годятся, голосую за них. Если я и говорю о чем-то, то лишь для того, чтобы высказать, что думаю. Вы считаете меня сторонником рабовладения? Ну что ж, и я, и Коста-Вале со своим банком и фабриками, и комендадора да Toppe со своими предприятиями, и Артур со своими акциями в фабриках Коста-Вале, и вы сами, живущий в достатке именно потому, что все это еще существует, – все мы в какой-то мере сторонники рабовладения. Мы приказываем, а другие должны подчиняться; учтите, что рабы всегда более покорны, чем те, кто работает за плату. Плохо то, что мы разъединены. Надо брать пример с интегралистов: они хотят всех объединить против коммунизма… – Он становился все красноречивее. – Если кто родится бедным, значит бог сделал его бедным, – ведь бедные и богатые были всегда; это коммунисты хотят изменить то, что сотворено господом… Вернувшийся к группе Коста-Вале согласился: – Разумные слова! Вы посмотрите, какая разница между гитлеровской Германией и Францией «Народного фронта»[24]. В Германии порядок, точность в работе, быстрые темпы, никаких забастовок, волнений, митингов. Во Франции анархия, коммунисты угрожают наиболее почитаемым государственным установлениям. – А Испания… – пожаловался поэт. – Испания, утопающая в крови… – Коммунисты – бандиты! – заключил сенатор. – Гитлер покончил с ними в Германии и покончит с ними во всем мире, – заявил Коста-Вале с уверенностью человека, только что прибывшего из Европы. – Я собственными глазами видел то, что сделал Гитлер. Поразительно! Это великий человек! Он взял Артура под руку и отвел его в сторону. – Когда прием закончится, не уходи. Я хочу с тобой поговорить… Все замолкли. Сенатор стал прощаться: он любил ложиться рано. Но прежде чем уйти, он сказал: – Если произойдет переворот, я потеряю место сенатора, но это не так важно. Лишь бы создать сильное правительство, способное расправиться с коммунистами; оно сможет рассчитывать на мою поддержку… Профессор был взволнован; он спросил Шопела, который хорошо знал Плинио Салгадо и даже издавал его книги: – Вспомнит ли меня доктор Плинио? Я ведь в течение двух лет был его преподавателем… Поэт казался погруженным в размышления. Неожиданно он спросил профессора: – Скажите, доктор Мораис, почему бы вам не вступить в «Интегралистское действие»? Получив такое предложение, профессор несколько смутился. – Я никогда в жизни не занимался политикой: круг моих интересов всегда ограничивался врачебным кабинетом, факультетской лабораторией и студентами. Поэт взял его под руку. – Сеньор, вы мыслите совсем так же, как интегралисты. У вас прославленное имя, почему бы вам не посвятить себя служению идеям, которые являются и вашими идеями? Для интегралистов ваше вступление в организацию было бы весьма полезным, а для вас… – Он привлек к себе де Мораиса и зашептал ему на ухо: – Подумайте, профессор, ведь когда Плинио Салгадо четыре-пять лет тому назад появился на политическом горизонте и начал прославлять интегрализм, все над ним смеялись. Сегодня Коста-Вале – банк и промышленность, сенатор Флоривал – фазенды, латифундии – все поддерживают его, все за него. Он будет у власти! – А вот сеньор Артур сомневается… – Кладезь амбиции и горшок тщеславия… Он умен, но у него нет дара политического предвидения. Он уверен, что станет министром в случае победы сеньора Армандо на выборах. Если выборы состоятся, так и будет. Однако, профессор, мы живем не во времена либеральной демократии… Профессор возвел глаза к небу. – Мир потерял рассудок, Шопел. Куда только он катится?.. И весь мир, и наша Бразилия… – Так вы еще сомневаетесь, профессор? Бразилия идет к интегрализму, и вы можете стать ректором университета в Сан-Пауло. – Нет, не сомневаюсь. Я склонен принять ваше предложение. Я уже не раз думал об этом. Но я не знаком с этими молодыми людьми, лидерами интегрализма, и не решался беспокоить доктора Плинио. Но если вы можете заверить его в моей солидарности… – Он перешел на шопот. – Вы меня знаете, Шопел: у меня большая семья, мне нужно думать о будущем моих… – Завтра же переговорю с Плинио. Интегралисты будут довольны: вы для них в такой решающий момент – большое приобретение… – Я вам буду весьма признателен… Поэт прикинул, какой интерес могло бы представить для интегралистов вступление в их партию профессора, имеющего вес в научных кругах. Шопел охотно оказывал фашистам всякого рода услуги, хотя никогда официально не был в их партии. Он еще некоторое время продолжал расхваливать профессору интегрализм, как бы боясь, что тот откажется от своих слов. А затем они заговорили о нынешних временах и о том, как жалко выглядит человечество, все более погружающееся в низменный материализм. Поэт был католиком, его поэзия была насыщена страхом перед грехом, боязнью гнева господня, адских мук, неожиданных катаклизмов, страшного суда. Он начал излагать профессору свою теорию спасения: – Бог карает людей, потерявших чувство простоты и смирения… Мы, подобно древним аскетам, должны возвратиться к умерщвлению плоти, к суровому воздержанию. Развивая этот тезис, он направился вместе с профессором в другую залу, где находился стол с закусками и сладостями. Лакеи разносили напитки. У стола поэт нашел Сузану Виейра, прожорливо поглощавшую бутерброды с икрой. – Икра – это такая прелесть! – воскликнула она. Профессор исчез в толпе, сгрудившейся вокруг стола. Поэт подошел к Сузане и впился взглядом в вырез ее платья, позволявший угадывать упругость молодой груди, затем быстро отвел глаза и принял из затянутых в перчатки рук лакея тарелку с закусками. И вот за едой он изложил стоявшей рядом улыбающейся девушке свою теорию суровости, воздержания, аскетической жизни – того, чем только и можно спасти катящийся в пропасть мир. В этом спасение человека; это – единственное, что еще можно попытаться сделать. Сузана Виейра с улыбкой слушала слова этого нового проповедника: – Хижина в пустыне, подальше от всех мирских соблазнов, молитвы и умерщвление плоти, акриды – единственная пища… Крошки от пирожка падали с его губ на толстый подбородок, на белоснежную манишку и черные лацканы смокинга. 3
Пока Мариэта проходила в угол залы, куда ее подозвала комендадора да Toppe, окруженная компанией молодежи, ее встречали приветствиями и комплиментами, восхвалениями ее элегантности и красоты. Она машинально, почти автоматически благодарила. Ее мысли были далеко, она думала о Пауло, который мог прибыть в город в любую минуту, быть может, завтра – кто знает? Сердце ее дрогнуло при мысли, что, возможно, завтра она сможет его увидеть, услышать его ленивый, томный голос. Она вспомнила, как месяцев семь назад Пауло приходил проститься перед отъездом в Колумбию. Он был доволен своим назначением, поведал ей, что дипломатическая служба ему очень нравится: делать там будет почти нечего, он может читать, посещать картинные галереи, писать… Пусть это будет пока что Колумбия (Богота его не слишком интересовала), но через год-два он получит пост в Европе, возможно в Париже, – вот это будет замечательно… Надменное и пресыщенное лицо молодого человека было в тот день чрезвычайно веселым. Он строил различные проекты и планы, а Мариэта слушала его с разбитым сердцем: он уезжает – когда-то она его снова увидит? И вот, может быть, завтра Пауло вернется, и она снова будет любоваться этим лицом, которое кажется безразличным ко всему, словно на него наложило отпечаток пресыщение жизнью многих поколений. Пауло напоминал ей отца, но не сегодняшнего Артура, которого политика лишила простоты и естественности, но того, другого Артура, каким он был двадцать пять лет назад, когда она позволила ему жениться на богатой девушке, дочери губернатора штата, с тем чтобы он мог стать депутатом. У обоих, у отца и у сына, был одинаково самодовольный вид с оттенком презрения ко всему окружающему. Одинаковая приветливость, которая скрывала – с какой болью Мариэта это констатировала – полную неспособность быть добрым и настоящим другом. Это был тот же Артур в новом издании, тот же юноша, которого она безумно любила и разрыва с которым, как она думала, не переживет. Ей понадобилось тогда собрать всю силу воли, чтобы перебороть себя и найти путь к богатству. Когда в ее жизни появился Коста-Вале, она еще любила Артура. Однако Мариэта овладела своими чувствами и отомстила Артуру, став его другом, но отказав ему в той любви, ради которой он не захотел принести себя в жертву. Впрочем, она имела любовников и не была святой за двадцать пять лет семейной жизни с больным мужем, вечно занятым своими банками и фабриками. Но это были недолговечные связи, никто из ее любовников не получил у нее больше того, что она сама хотела подарить. И вот внезапно, когда Пауло вернулся в прошлом году из богатого приключениями путешествия по штатам Мато-Гроссо и Гойаз в компании с иностранными артистами, она поняла, что он завладел всеми ее чувствами. В течение года с лишним она была счастлива, встречаясь с ним повсюду, ведя долгие разговоры, к которым Пауло привык, ибо Мариэта заняла в какой-то степени место его матери, умершей, когда он был еще ребенком. Когда его назначили вторым секретарем посольства в Боготе, она была не в состоянии остаться в Сан-Пауло: она уговорила Коста-Вале совершить путешествие в Европу под тем предлогом, что ему будто бы нужно посоветоваться со знаменитыми врачами Старого Света. И в Европе она нетерпеливо ожидала от Пауло редко присылаемых им весточек – открыток, в которых юноша жаловался на однообразие жизни в Боготе и говорил о том, что будет проситься в бессрочный отпуск. Когда же до нее донесся шум скандала, учиненного Пауло, она быстро уложила вещи, убедила Коста-Вале в преимуществах путешествия самолетом по сравнению с медленно идущим пароходом и прилетела в Сан-Пауло, рассчитывая встретить здесь Пауло. Завтра, возможно, она его увидит, будет любоваться его тонким и усталым лицом. Еще не доходя до группы гостей, собравшихся вокруг комендадоры, она догадалась, что там судачат о Пауло. Они обсуждали его попойку, и Мариэта с трудом заставила себя улыбнуться. Комендадора протянула ей свою дряблую, увешанную кольцами руку. – Садитесь-ка тут, любовь моя, и расскажите мне все-все до последней мелочи, что вы знаете об истории с Паулиньо… – Но я ничего не знаю, комендадора. Я была в Европе. – Вы – близкий друг Артурзиньо, а он уж, наверное, вам все рассказал… – Но мы еще не разговаривали… Юноша с гладко прилизанными брильянтином волосами интересовался, правда ли, что на вечере в момент скандала присутствовал министр иностранных дел Колумбии. Никто не мог ответить ему. Все знали только, что Пауло сказал несколько непристойных слов сеньоре, которую он хотел раздеть при всех в танцевальном зале. Юноша с напомаженными волосами начал разглагольствовать: – Какой ужас! Ведь эта дама из высшего света… Комендадора да Toppe сохранила еще с молодых лет известную вольность в выражениях, не вполне приличествующую ее нынешнему богатству и общественному положению. – Из высшего света… – отозвалась комендадора. – Но ведь валялась же она с ним в кровати! Он, очевидно, сказал ей при всех то, что, конечно, не раз говорил в интимной обстановке… Чепуха!.. – Она повернулась к Мариэте. – Не так ли, Мариэта? Кто может бросить в него первый камень? Я помню Пауло, он как-то обедал у меня. Я нашла его симпатичным, но у него было такое равнодушное лицо, будто ничто на свете ему не мило. Ну что ж, позабавился – и хорошо сделал. Теперь все стали с похвалой отзываться о поведении Пауло, поскольку оно получило одобрение комендадоры. Увешанная драгоценностями и одетая во все парижское, эта комендадора когда-то – так давно, что и сама не помнит, – была обыкновенной проституткой и, случалось, голодала. Некоторые утверждали, что именно она своими грубыми руками проститутки сколотила богатство мужа. Ее муж был скромным португальцем, удовлетворявшимся своим небольшим предприятием, но честолюбие жены подстрекнуло его, и он смело развернул строительство новых фабрик, создав за несколько лет основу текстильной промышленности штата. Она же заставила его купить себе титул комендадора, чтобы блистать в высшем свете. Теперь она, вдова и старуха, демонстрировала на званых вечерах свое богатство, выставляя его напоказ; иногда ей доставляло удовольствие унижать этих юнцов, гордящихся своими фамильными традициями и тем, что они уже четыреста лет паулисты, высмеивать этих «кофейных аристократов». Несдержанная на язык, она знала, что деньги обеспечивают ей безнаказанность, и вела себя так, что ее побаивались. С другой стороны, ей нравилось оказывать покровительство тем молодым людям, к которым она почему-либо чувствовала симпатию. Она включилась в политическую деятельность во время выборов в бразильскую Академию изящной словесности; перед ней заискивали. Поэт Шопел посвятил ей большую поэму, где говорилось о ее печальном детстве, и она предоставила ему капитал для основания собственного книгоиздательства (потом к нему в качестве компаньона присоединился Коста-Вале). Сейчас она заинтересовалась Пауло. В течение нескольких дней она развлекалась обсуждением подробностей скандала, учиненного молодым дипломатом, и вскоре у нее возникла мысль взять Пауло под свою защиту. У нее были две племянницы, которых она держала взаперти в пансионе при женском монастыре, вдали от праздного высшего света, хотя они уже закончили обучение и пришла пора выдавать их замуж, Пауло принадлежал к старинной паулистской семье, его отец был видным политиком, сам он – дипломатом. Комендадора обратилась к собравшимся вокруг нее юношам: – Ступайте, ешьте, пейте, делайте что-нибудь! Видеть вас не хочу, этаких сплетников… Все рассмеялись и разошлись. Она осталась наедине с Мариэтой. – Вы хорошо знаете этого юношу, Мариэта. Каков он? – Хороший мальчик, я его люблю как сына. Ну, выпил, наделал глупостей… – Все это неважно. Ничего с ним не случится, и вся эта болтовня только послужит юноше на пользу: у женщин пробудится к нему интерес. Когда он приедет, у него будет куча любовниц… Мариэте захотелось уйти: этот разговор о Пауло действовал ей на нервы, вызывал тревожные мысли. Она сослалась на то, что ей нужно занимать гостей. – Сделайте милость, – попросила старуха, – если встретите там отца этого молодого человека, пришлите его сюда. Я хочу с ним потолковать. «Что ей нужно?» – спрашивала себя Мариэта, разыскивая Артура в зале. Может быть, она решила похлопотать за Пауло у министра; эта сумасшедшая старуха готова на все, когда дело касается ее симпатий. Мариэта нашла Артура, который только что покинул Коста-Вале. – Комендадора хочет поговорить с тобой. Она влюблена в Пауло. Не знаю, что ей нужно… Она указала на кресло, откуда миллионерша смотрела на них. Артур направился туда. Старуха пристально взглянула на него. – Ну, как поживаете, сеньор депутат? Итак, фамилия вашего сына красуется во всех газетах? Артур сел рядом с ней. – Это просто политическая спекуляция. Использовали шалость мальчика… для нападок на кандидатуру сеньора Армандо. Рассчитывали вытеснить меня с поля боя, но это не так легко, как кажется. Меня не запугать газетной травлей… Старая комендадора резко прервала его: – Не говорите глупостей… – Она посмотрела на депутата своими молодыми еще глазами. – Все это – идиотство… – Что? – удивленно спросил Артур. – Все, что вы говорите: не запугать и так далее… В глубине души вы озабочены. Избирательная кампания беспокоит вас больше, чем вы бы хотели. Вы озабочены и судьбой сына, и выборами, находящимися под угрозой, и интегралистами, и Жетулио… Зачем вы меня хотите обмануть? Многие думают, что я просто смешная, выжившая из ума старуха, которую приходится приглашать на обеды и вечера только потому, что она богата… – Депутат молчал. Комендадора продолжала: – Ладно, оставим это, я хочу поговорить о вашем сыне. Я его видела раз у себя – он мне понравился. Да, скажу вам откровенно, он мне понравился. А кроме этого, мне нравится его фамилия. Как она звучит полностью? – Пауло Карнейро-Маседо-да-Роша. – Вот-вот, Карнейро-Маседо-да-Роша… Хорошая фамилия – пахнет стариной. Когда приезжает ваш сын? – Сам не знаю… Возможно, завтра… – Приведите его ко мне в первое же воскресенье пообедать. Я хочу его представить племянницам. Они уже на выданье, мои наследницы. Господь не дал мне детей… Я все оставляю племянницам. «Что взбрело в голову этой тщеславной сумасшедшей старухе?» – спрашивал себя Артур. Никогда ему не приходилось слышать столь прямого и циничного предложения, а в своей политической жизни ему доводилось часто сталкиваться с цинизмом. Он не мог расценить приглашение Пауло комендадорой иначе, чем предложение выдать за него свою племянницу. Артур задумался. Как комендадора могла обратиться к нему с таким предложением? Он счел себя несколько оскорбленным, но в то же время его тщеславие – это корыстолюбивое чувство, руководившее им в течение всей его жизни,– еще больше разыгралось от перспективы, которую открыла перед ним старуха. Он решил выиграть время. – Я очень рад пообедать у вас с Пауло. Но я должен на этой неделе поехать в Рио на важное совещание с другими лидерами кампании за кандидатуру сеньора Армандо… – Глупости, вы должны отлично знать, что никаких выборов не будет. Либо вы не ведаете, что творите, либо глупее, чем я думала. Ведь это уже всем известно. – Слухи… Теперь голос старухи звучал почти вызывающе: – Вы, сеньор, – адвокат, депутат, из семьи родом со времен империи[25], вы даете интервью газетам, произносите речи в палате. А я начала жизнь, трудясь, и этот титул комендадоры стоил мне круглых двести конто. Но я не жалею, что купила этот титул. Так вот что, сеньор политик, послушайте меня: если я говорю, что выборы не состоятся, – значит, я знаю, что их не будет. – Она с трудом приподнялась с кресла. – Приведите мальчика ко мне обедать. Мои племянницы красивы и хорошо воспитаны. Мариэта Вале мне сказала, что ваш сын – славный юноша. Я надеюсь, что он окажется не так глуп, как его отец. Теперь, когда комендадора встала, видно было, что она маленькая и сгорбленная; только глаза ее казались молодыми и как будто смеялись над Артуром. – Дайте руку, депутат, проводите меня до автомобиля… С другого конца залы Мариэта наблюдала за ними, не обращая внимания на окружающих: ей очень хотелось узнать, о чем говорили Артур и комендадора. Она чувствовала себя так, словно ей было восемнадцать лет, словно она – молодая девушка, полюбившая впервые, мучительной, безнадежной любовью. «Я становлюсь смешной…» – подумала она про себя. Мариэта с безразличным видом протягивала руку прощавшимся гостям. Какие виды у комендадоры на Пауло? Когда же он приедет, боже мой? Когда она его увидит и обнимет, здороваясь с ним? Может быть, завтра. И Мариэта знала, что ее будет мучить бессонница, до тех пор пока он не приедет. А тогда начнутся страдания иного рода, еще более тяжелые. 4
Они подождали, пока слуга подал бокалы, бутылки, лед – все необходимое для виски. Мариэта сделала ему знак, что он может уйти. Они остались втроем в уютном уголке огромной затихшей залы. Коста-Вале снял смокинг и воротничок, расстегнул накрахмаленную манишку и с облегченным вздохом растянулся в кресле, пока Мариэта готовила виски. Артур посматривал на них, он чувствовал нервозность Мариэты и мрачное спокойствие Коста-Вале, который казался особенно бледным на черном фоне кожаного кресла. Так, полулежа в кресле, банкир был похож на больного, чуть ли не умирающего. Можно было подумать, что его покинула всякая энергия, однако Артур знал, насколько ложным было такое впечатление. Этот бледный и больной человек обладал огромным запасом сил, необычайным стремлением «делать деньги», и он умел их делать, как никто из тех, кого знал Артур. Мариэта подняла бокал, чтобы произнести тост: – За наслаждение остаться одним… Коста-Вале взял бокал, отпил большой глоток и, снова откинувшись в кресле и полузакрыв глаза, произнес: – Ну, Артурзиньо, как дела? Что ты мне расскажешь про выборы? – Что хочешь: слухи или факты? – улыбнулся Артур. – Всё. Иногда, мой милый, как раз слухи – это действительность, а факты – только маскировка. Мариэта вмешалась: – Слухи нас преследовали по всей Европе. В каждом посольстве, в каждом консульстве у всех было, что нам рассказать. Никто, казалось, не чувствовал себя уверенным, никто не знал, что может произойти. Чиновники посольств повсюду походили на испуганных мышей… – Здесь то же самое. И в Рио, и здесь, в Сан-Пауло, и в любом городишке все словно чего-то боятся, как будто небо покрыто грозовыми тучами. Но посмотришь – небо голубое, и тогда становится непонятно, откуда этот страх, это ожидание чего-то. Из глубины кресла послышался голос Коста-Вале: – Мой милый, ничего нет хуже той бури без грозы, которая разражается в ясную погоду. Это то, что у нас в глуши называют «сухой грозой». – Он сделал паузу, открыл глаза и посмотрел на депутата. – А что ты знаешь достоверного? Расскажи мне все. Ты в курсе событий и можешь судить о них лучше других. Каковы твои впечатления? Государственный переворот? Чей? Сторонников Жетулио? Интегралистов? И тех и других вместе? А сторонники Зе Америко? Что слышно в Баие и Пернамбуко? А вы с сеньором Армандо? Рассказывай, дружище, я до смерти хочу все знать; у меня насчет всего этого есть и свои соображения… Артур начал рассказывать. Он как бы для самого себя подводил баланс. Коста-Вале и Мариэта слушали внимательно; банкир опять прикрыл глаза, и только шевелившиеся пальцы его скрещенных рук указывали на то, что в нем еще теплится жизнь. – Одно можно считать бесспорным: Жетулио и интегралисты в союзе друг с другом. Условия этого блока в точности не известны. Некоторые утверждают, что Плинио Салгадо станет министром просвещения и что у интегралистов будет еще какое-то министерство; другие говорят, что Жетулио останется президентом в виде декоративной фигуры, а настоящим диктатором будет Плинио. Нечто в роде Гинденбурга и Гитлера. Интегралисты повсюду уже ведут себя как хозяева. Они устраивают парады и демонстрации, кричат, произносят речи, угрожают, а иногда идут и дальше угроз: кое-где они даже избили наших избирателей, а полиция на все это никак не реагирует. – Они молодцы, эти интегралисты, – не открывая глаз заметил банкир. – Их отношение к нам сильно изменилось. Год назад мы с ними вели переговоры: ты помнишь, сеньор Армандо тогда даже одобрительно отозвался о фашизме, и мы полагали, что можно будет сблокироваться с ними на выборах. А теперь они нас обзывают «паразитами», «полукровками», «профессиональными политиканами». Он продолжал рассказывать. Упомянул о кампании, проводимой Зе Америко, которая рассчитана на завоевание симпатий народа. Америко сулит массам золотые горы, рассуждая об экономических реформах и пуская в ход туманную фразеологию, которая все же привлекает избирателей. – Если выборы состоятся, Зе Америко будет избран. Это факт. Север в основном за него. Минас-Жераис тоже, да и многие штаты на юге. Его ссоры с американской энергетической компанией, когда Зе Америко был министром путей сообщения, принесли ему популярность. Коста-Вале оживился. – Он не будет президентом. Состоятся выборы или не состоятся, все дело в том, мой милый, что американцы не позволят Зе Америко подняться по лестнице Катете[26]. Во время избирательной кампании он наговорил много глупостей – я следил за газетами. И дело не в том, что он ничего не сделает из обещанного. Если бы он даже и захотел, то все равно не смог бы. Ведь наши американские друзья любят действовать наверняка, а между тем этот Зе Америко разглагольствовал об антиимпериализме и тому подобных глупостях. Его беда в том, что он просто деревенщина из Параибы и ничего не смыслит в политике. Он получит урок, который, возможно, его чему-нибудь научит. В Париже я разговаривал с одним видным лицом из государственного департамента. Он был весьма озабочен демагогией Зе Америко. «Кто угодно, но только не он!» – сказал мне дипломат. Артур с довольным видом улыбнулся. – Я пришел к такому же выводу. С каждой новой речью Зе Америко я все более убеждался, что он сам себя хоронит. Не знаю, кто его надоумил, – возможно, коммунисты, – что политику делает народ. Эта формула, может, где-нибудь и годится, но уж если кто и делает в Бразилии политику, так это Лондон и Нью-Йорк. – И Берлин также, мой милый, не забывай Берлин! И не начинай с Лондона. Послушай, Артурзиньо, что я хочу тебе сказать. Вы тоже получите хороший урок и поймете, что Англия – это лев, лишившийся зубов. Вы уже получили свое – и в тридцатом году[27] и в тридцать втором, и сейчас вам тоже достанется… Артур вздохнул, взял бокал с виски, отпил. – Не так это легко… У нас тоже голова на плечах: с тех пор как Жетулио стал угрожать переворотом, и мы начали готовиться. Ты говоришь, что Лондон уже не имеет веса. Именно в английском посольстве мне сообщили во всех подробностях план Жетулио, рассказали о его переговорах с интегралистами и дали совет готовиться. Мы так и делаем: у нас есть подходящие люди в армии, потом мы сами, и на нашей стороне штат Рио-Гранде-до-Сул. Мы можем вернуться к тому, что было до тридцатого года… – Значит, англичане и теперь финансируют ваш заговор? Очевидно, мало уроков тридцать второго года, чтобы убедить тебя, Артурзиньо, что дни англичан в Бразилии сочтены? – Англичане еще сохранили огромные капиталы в Сан-Пауло, в мясохладобойной промышленности в Рио-Гранде-до-Сул, в общем – всюду понемногу. Не думай, что речь идет о каких-то воздушных замках. Военная полиция в Рио-Гранде-до-Сул получила из Англии через Аргентину много новейшего оружия. Теперь это настоящая армия. Здесь мы тоже хорошо вооружены и можем захватить Жетулио врасплох. Он думает, что мы по уши увязли в выборных делах. Коста-Вале поднялся и стал расхаживать по комнате, затем остановился перед Артуром. – Послушай, милый, вы поставили на плохую карту. Лондону не на кого опереться в политической жизни Бразилии. У англичан тут есть кое-какие остатки капитала, но долго ли еще они будут им обладать? Мир разделился, Артурзиньо, и Южная Америка принадлежит Соединенным Штатам. Англия остается с Индией и Аравией, а сюда все больше и больше проникают американцы. Я тебе скажу, что сейчас дело решается только между американцами и немцами. Твое несчастье, Артур, в том, что ты считаешь мир неизменным. Ты – потомок старинной дворянской семьи тех времен, когда здесь распоряжалась и господствовала Англия. Ты – консерватор, привык к англичанам, к их железным дорогам, к их рудникам и к их нравам. Ты думал, что это пришло со времен империи, а потому вечно и священно, что это, как и твое имя, представляет собой фамильное наследство. Когда Жетулио захватил власть в тридцатом году, ты потерпел поражение и все-таки не понял, что американцы вытеснили англичан. А я, что я делаю? Я зарабатываю большие деньги с американцами. С ними можно иметь дело… Но я не уверен в том, что с немцами нельзя заработать больше… – Ты думаешь, если мы поднимем восстание, американцы поддержат Жетулио? – Безусловно и наверняка… – Банкир сказал это по слогам, чтобы придать своим словам больше убедительности. – Жетулио – это креатура Соединенных Штатов, тогда как Плинио – ставленник немцев… – Но ведь они заодно! Жетулио сейчас больше похож на фашиста, чем любой интегралист. Не думаешь ли ты, что скорее возможно соглашение между англичанами и американцами, чем между американцами и немцами? Банкир задумался. – Этот союз Жетулио и Плинио похож на дружбу дикого кота с лисой. Один хочет съесть другого. Единственное, что меня сейчас заботит, Артурзиньо, кто в конечном счете будет хозяином фазенды, именуемой Бразилией? С кем мы должны идти, с американцами или с немцами? Что касается англичан, их время миновало… – Он протянул Мариэте бокал, чтобы она налила ему еще виски, потом снова зашагал по зале. – Будущее за Гитлером. Война близка, Артурзиньо. Война Германии против России. Когда Гитлер победит Россию, он будет владеть всей Европой, включая Англию. Вот тогда дело и решится между ним и американцами. Важно не упустить момент, чтобы оказать ему поддержку здесь. Возможно, сейчас еще рано… Но, как бы то ни было, надо быть начеку! Ты знаешь? Немцы обратились ко мне с серьезными деловыми предложениями. Я их сейчас изучаю… Артур пожаловался: – А я-то надеялся, что ты убедишь некоторых генералов… По правде сказать, мы сильно на тебя рассчитывали, Жозе. – Нет, друг мой, я в вашем перевороте участвовать не буду. Ты меня не убедишь. У вас получится то же, что в тридцать втором году, если вообще что-нибудь получится… Я с тобой, как всегда, откровенен: на меня не рассчитывайте. А если хочешь моего совета, выкинь все это из головы. Ведь со дня на день произойдет переворот Жетулио. Отправляйся-ка на свою фазенду отдохнуть, потом возвращайся, и для тебя уже будет приготовлено место… – Не могу, Жозе. Я связан обещанием. – Глупости, Артурзиньо. Скажи сеньору Армандо, что это бесполезная затея. И если его нельзя убедить, постарайся как-нибудь выйти из игры. Еще есть время. В конце концов, ты не ребенок и можешь судить сам. И еще один совет: перестань злословить по поводу интегрализма, как ты это делаешь. Интегралисты могут оказаться очень полезными… И очень сильными. – Ты так думаешь? – Я полагаю, что война действительно вспыхнет. Это будет война против России – пора покончить с этим очагом заразы. Гитлер – человек, который нужен миру. Другие правительства всячески помогут ему покончить с коммунизмом, а после того, как он проглотит Россию, немецкий капитал распространится по всему миру. Интегралисты – это его люди в Бразилии, не считая, конечно, немецкой колонии[28] – о ней ты не забывай, она – важный фактор. В настоящий момент нужно научиться лавировать между немцами и американцами, иметь дела с теми и другими или – что то же самое – с Жетулио и Плинио… Потом будет видно… Армандо Салес и Зе Америко вообще в счет не идут. Если ты хочешь, не нарушая слова, дойти до конца избирательной кампании, – а под этим концом я подразумеваю день государственного переворота, – можешь дойти. Но дальше не ходи. Уединись на своей фазенде, слушай радио, читай газеты, а я потом тебя вызову. Я не хочу, чтобы ты совершал глупости, снова впутывался во всякие заговоры без шансов на победу. Подумай хорошенько о том, что я тебе говорю… Мариэта дружески положила руку на плечо расстроенного Артура. – Жозе в курсе дела. Он со многими беседовал в Европе… Ты не можешь пускаться в авантюры не только из-за себя, но и из-за Пауло. В особенности сейчас. Если выяснится, что ты замешан в заговоре, Пауло могут уволить, воспользовавшись имеющимся у них предлогом; основания для этого есть… Артур повернулся к Мариэте. – Этот октябрь был для меня цепью несчастий… – Он взглянул на настольные часы в зале: был третий час утра. – Октябрь уже кончился, а дурные вести все еще продолжают поступать… Знаешь, чем я завершил месяц? – Он устремил взгляд на банкира, снова растянувшегося в кресле. – Встречей с коммунистическим лидером. Как его зовут, не знаю – он мне представился под именем Жоана. Предложил объединить все демократические силы против Жетулио и интегралистов, создать нечто вроде «народного фронта», чтобы предотвратить переворот. Заманчивая идея, если бы она не исходила от коммунистов… – Демократические силы, – банкир презрительно проронил эти слова, – демократические силы… А как, думаешь, чувствуют себя французы, поддавшиеся болтовне коммунистов? Единственное стремление радикалов или социалистов – выбраться из неразберихи, в которой они очутились. Существует лишь один возможный союз, Артур, и сегодня сенатор Флоривал назвал его со своей грубой прямотой помещика: союз против коммунистов. Это то, что имеет место в Европе и будет здесь… Будь то с Жетулио, будь то с Плинио во главе… Думаю, что пока это еще Жетулио, а через несколько дней скажу тебе точно. Вам, демократическим политикам, нужно договориться с Плинио, а не с коммунистами. Для разговоров с ними у нас есть полиция. Ты должен сделать одно: постараться расстроить армандистский заговор, а если не можешь этого, то, по крайней мере, выйти из него… – Он поднялся, взял свой смокинг, воротничок и галстук, зевнул. – Пойду спать… Завтра буду работать в банке, а послезавтра – думаю съездить в Рио. Посмотрю, как там идут дела. Не хочешь ли поехать со мной? – Да, пожалуй, мне нужно побывать в палате. Артур остался наедине с Мариэтой. На мгновение наступила тишина; каждый был занят своими мыслями. Артур размышлял обо всем, что ему сказал банкир, Мариэта думала о Пауло и наконец задала вопрос, который мучил ее еще во время приема гостей: – Что было нужно от тебя комендадоре? Артур взглянул на нее. – Эта старуха – сумасшедшая! Похоже, что ей взбрело в голову выдать за Пауло одну из своих племянниц. Она сказала мне достаточно ясно: «Приведите мальчика ко мне пообедать. У меня племянницы на выданье, они мои наследницы». Нечто вроде торговой сделки – родовитое имя в обмен на деньги… – Когда-то ты совершил почти такую же сделку: женился, чтобы стать депутатом… – Это верно. Но для Пауло в этом нет необходимости. У нас есть средства к существованию, он уже вступил на дипломатическое поприще… А что ты обо всем этом думаешь? Что она думала? Мариэта почти задыхалась от нахлынувших на нее чувств, ей хотелось плакать. Она сделала над собой усилие, чтобы ответить: – А почему бы ему не жениться? У комендадоры одно из крупнейших состояний в штате. Такому человеку, как Пауло, требуется много денег на жизнь. В случае женитьбы на племяннице комендадоры ему не понадобится служить другим, как, например, ты служишь Жозе… Я бы очень хотела, чтобы никто никогда не командовал Пауло. Может быть, даже лучше, если он женится на одной из этих девиц. У него таким образом появятся деньги и останется свобода. Артур тем временем обдумывал советы банкира. – План заговора так хорошо разработан… И к тому же, не нравятся мне эти интегралисты. Они настолько вульгарны… – Вся жизнь вульгарна, – обобщила Мариэта. – Этот ужасный Шопел написал поэму; единственное, что остается в удел человеку, проповедует он, – это одиночество. Пожалуй, он прав. Временами я себя чувствую такой одинокой… – У тебя есть я… Ведь я твой друг. – Нет, у меня нет ни тебя, ни Жозе, никого. Нет даже и Пауло, для которого я всегда была кем-то вроде матери. Все мы одиноки, и никто из нас не имеет того, кого хочет иметь… Артур улыбнулся, поглощенный своими размышлениями и расчетами. – Ты вернулась из Европы с трагическими настроениями. Какая-нибудь роковая любовь? – Не говори глупостей. С тобой никогда нельзя поговорить о серьезных вещах… – Разве ты не находишь серьезным то, что мы обсуждали с Жозе? – Да какое мне дело до выборов, до Гитлера, до американцев, англичан, коммунистов и русских? Для тебя это важно, потому что ты не любишь работать и живешь этими политическими кознями; важно это и для Жозе, который извлекает из политики деньги; важно для всех вас, живущих ради этого… – А ради чего живешь ты? Она посмотрела на него, повторила вопрос самой себе. Не нашла ответа, протянула ему руку. – Ну, ладно, я пойду. Я просто дура… Шофер спал в автомобиле. Дождь возобновился. Подставив лицо под дождевые капли, Артур вдохнул влажный предрассветный воздух. Октябрь был месяцем дурных известий, ноябрь начался еще более мрачными предзнаменованиями. Он покопался в памяти, нет ли чего-нибудь, что могло бы его порадовать, заставить забыть все эти неприятности. И, садясь в автомобиль, он подумал о комендадоре, о назначенном у нее обеде, о племянницах на выданье, о текстильных фабриках и железнодорожных акциях. Оставалось выяснить, как посмотрит на все это Пауло. Он рассчитывал на Мариэту: она поможет ему уговорить этого повесу… 5
В этот день Мариане исполнилось двадцать два года, и вечером у нее собрались товарищи, чтобы отпраздновать это событие. Старый Орестес прислал несколько бутылок ананасного вина, которое он сам изготовлял в свободные часы. Мариана ожидала его прихода, чтобы подать вино и домашний пирог. Еды и выпивки было немного: времена наступили плохие, сама Мариана была уволена с фабрики еще два месяца назад и сейчас целиком отдалась партийной работе; партийные же работники получали очень мало, да и эта скромная оплата почти всегда сокращалась наполовину. В доме не было бы и вина для гостей, если бы не старый Орестес, бывший итальянский анархист, никогда не терявший, хотя он уже много лет как стал коммунистом, страсть к громким фразам. Но, несмотря на скромное угощение, Мариана чувствовала себя превосходно: она надела свое лучшее платье и приколола красный цветок к каштановым волосам, окаймлявшим ее нежное лицо. Ее большие черные глаза выражали всю радость, которой она была охвачена сегодня, в день своего рождения. Утром в комнате, где Мариана спала с матерью, она размышляла о своей жизни, сделала самой себе «самокритический отчет», как говорили на собраниях ячейки. Она вступила в партию восемнадцати лет, но в действительности ее жизнь была связана с коммунистами с самого раннего детства. Отец ее был одним из старейших активистов партии, и в домике, где они жили до его смерти – он был чуть побольше и получше, чем нынешний, – нередко проводились нелегальные собрания; там хранилось много пропагандистских материалов, и не раз полиция врывалась к ним по ночам, будя соседей, с ругательствами и угрозами обыскивая весь дом до самых сокровенных уголков. Мариана навсегда запомнила первый обыск. Ей тогда шел четырнадцатый год, она была слабенькой и нервной. Полицейские явились на рассвете. Через полуоткрытую дверь своей комнатки она видела, как они сбрасывали книги с полки, – те книги, которые отец, пользуясь сломанными, перевязанными веревочкой очками, читал до поздней ночи; те книги, с которых она ежедневно смахивала пыль, чтобы отец, придя с фабрики, не находил на них ни пылинки; те книги, которые она обожала, потому что их любил отец. Мариана видела, как полицейские швыряли их на стол, прочитывая вслух заголовки, которые Мариана знала наизусть: ведь она столько раз, сидя рядом с отцом, видела эти книги в его руках, когда он читал «Коммунистический манифест», «Происхождение семьи, частной собственности и государства», «Детскую болезнь «левизны» в коммунизме», сокращенное издание «Капитала» по-испански. Один из агентов складывал их стопкой, а другой, стоявший несколько поодаль, светлый мулат с погасшей сигаретой во рту, невидимому начальник, хриплым голосом сказал отцу: – Ну, собирайся, пойдешь с нами! Мать стояла бледная, со сжатыми губами. Младшая сестра так и не проснулась. Мариана видела, как отец медленно надевает пиджак, лицо у него – это обычно улыбающееся лицо, которое она так любила, – было серьезным. Потом она увидела, как он подошел к матери и поцеловал ее в щеку. Тут она не выдержала, выбежала из своего убежища, ринулась в комнату и ухватилась за руку отца. – Куда ты, отец? В ответ он улыбнулся той самой улыбкой, какой отвечал на бесчисленные разнообразные вопросы, вызванные неуемной любознательностью Марианы, – вопросы, которыми она его засыпала по вечерам, когда он усаживался у книжной полки, улыбаясь, брал ее на руки и целовал в глаза. – В тюрьму… Позаботься о маме и сестренке. Будь хорошей девочкой, пока я буду отсутствовать… Мулат-полицейский торопил: – Ну, кончай, пошли!.. Она оторвалась от отца и молча прижалась к матери; в ней закипала ярость, и она с трудом сдержалась, чтобы не расплакаться: она догадывалась, что отцу было бы неприятно увидеть ее в эту минуту в слезах. Отец вышел из комнаты в сопровождении трех агентов, один из них нес связку книг. Мулат бросил последний взгляд вокруг, посмотрел на стоявших в молчании мать и дочь. Он насмешливо осклабился, и Мариана не могла сдержаться при виде этой оскорбительной улыбки: она подбежала к нему со сжатыми кулаками и остервенело стала колотить его в грудь. – Проклятый! Гадина! Полицейский схватил ее за руки, швырнул на пол, но она снова набросилась на него и стала бить руками и ногами. И только отец, вернувшись из коридора, сумел ее уговорить: – Спокойствие, Мариана! Позаботься о матери и сестренке. Мулат заметил, поправляя галстук: – Коммунистическое отродье… Даже у детей ядовитая кровь… – Он с удовлетворением засмеялся, показав на руки Марианы, где виднелись красные пятна от его тяжелых, жестких рук. – В другой раз, девчонка, я тебя похлеще отмечу… – И, бросив на пол давно погасший окурок, он вышел вслед за остальными. Мать дошла до двери и оставалась там, пока не послышался шум отъезжавшего автомобиля, сопровождавшийся выхлопами мотора. Мариана тихонько плакала, разглядывая все еще болевшие кисти рук. Ей было не по себе, и не из-за грубости полицейского, нет, а потому, что не сумела себя сдержать; кто знает, не будет ли от этого хуже отцу? Поэтому она испуганно посмотрела на возвратившуюся мать. Но та погладила ее по голове и повела в комнату отца, где на маленьком столике рядом с кроватью лежали его очки в поломанной оправе. Мать сняла одеяло, подняла тюфяк и, забрав с досок кровати какие-то печатные листы, сказала: – Помоги мне… Они могут вернуться утром и тогда перероют все… Они разожгли очаг, а когда кончили сжигать листовки и старые номера «Классе операриа»[29], над городом уже сияло голубое утро. Мать надела на голову шаль и вышла, чтобы предупредить товарищей. Со временем Мариана привыкла к посещениям полиции. Она читала книги и брошюры, которые были у отца, и те, что давали ему товарищи. Она часто присутствовала при спорах отца с другими коммунистами и постепенно из нее сформировалась активистка партии: она носила под блузкой листовки, передавала записки, стояла на страже у дверей, когда у них в доме происходили собрания. Вот почему ей казалось, что всю свою жизнь она принадлежала партии. В пятнадцать лет ей пришлось бросить школу, чтобы пойти работать на текстильную фабрику, куда год спустя поступила и младшая сестренка. Отца, которого много раз забирала полиция, не держали долго ни на одной работе, матери пришлось вернуться на ту же фабрику, которую она покинула, выйдя замуж. Это была одна из фабрик комендадоры да Toppe, и все они получали там работу только потому, что комендадора по выходе замуж была соседкой их семьи. В партию Мариана вступила после смерти отца. Его посадили в тюрьму в дни «конституционалистского» выступления 1932 года, и когда после нескольких месяцев заключения освободили, то видно было, что он очень постарел и ослаб. Отец Марианы начал было работать в механической мастерской, но это длилось недолго: он заболел тифом и через несколько дней умер. То были дни почти беспрерывного бреда, когда он монотонно и трагически повторял неизменную фразу, которой отвечал на полицейские пытки: – Ничего от меня не узнаете… Мариана проводила у его постели бессонные ночи. Слушая, как он повторяет эту фразу, она невольно представляла себе его страдания в тюрьме, о которых он никогда ничего не рассказывал дома. Младшая сестра была поглощена кино, нарядами (экономя каждый милрейс, она покупала крикливые дешевые ткани), бульварными романами, любезничала с соседскими парнями и как будто даже ничего не знала о политической деятельности отца. Мать безропотно страдала, голова ее совершенно поседела, хотя бедной женщине было немногим больше сорока лет. Только Мариана, казалось, понимала все скромное величие жизни своего отца и однажды, когда он, по обыкновению, находился в тюрьме, выгнала из дома болтливую соседку, которая стала жалеть мать: – Ох, уж эти коммунисты! Вместо того чтобы заботиться о семье и вить себе уютное гнездышко, они впутываются в дьявольские затеи… С годами отец тоже все больше и больше привязывался к старшей дочери, охотно разъясняя ей смысл борьбы рабочего класса, рассказывая о Советском Союзе, о Ленине и Сталине. Он передал в ее девичьи руки свои любимые книги, и лицо его сияло радостью, когда он убеждался, с каким интересом относится Мариана к борьбе партии. Однажды он сказал: – Я сам многого не знаю, дочка. Я осознал смысл и значение нашей борьбы, когда был уже сложившимся человеком. И это сразу изменило для меня все: раньше жизнь казалась мне пустой, а работа – тяжким бременем. Вы, обе девочки, были тогда еще маленькими, мать твоя была молода и красива, и все же сколько вечеров я проводил вне дома, уходил к друзьям или в бар. Вступив в партию, я стал понимать, что унижает не работа, а угнетение, что, только борясь против него, мы сумеем улучшить нашу жизнь. С тех пор все предстало предо мной в ином свете… Мать много перестрадала из-за этой моей жизни; знаю, что иной раз вам было трудно. Но думаю, что я нахожусь на правильном, единственно правильном пути, освобождающем людей от страдания. Мариане было шестнадцать лет, когда он как-то вечером сказал ей эти слова. Они оставались дома вдвоем; мать с младшей сестрой ушли в гости. Несмотря на свою молодость, Мариана серьезно относилась к жизни, и ее – одну из способных работниц – уважали на фабрике. Она сказала: – Ты правильно поступаешь, отец. Я не понимаю только, почему не все рабочие вступили в компартию, почему не все интересуются ею… – Нужно иметь терпение и разъяснять, постепенно разъяснять. Мы – учителя и солдаты в одно и то же время… Придет день, и ты увидишь, что из нашей группы вырастут тысячи и тысячи… Мариана училась, беседуя с отцом и его товарищами. Когда отец сидел в тюрьме, она почти всегда навещала его в дни свиданий. Там она познакомилась со многими его товарищами; некоторые из них тратили немало времени на беседы с ней, другие почти не обращали внимания на эту девушку с серьезным лицом, однако она чувствовала себя связанной со всеми ними, и когда однажды ей дали несколько номеров «Классе операриа» для раздачи на фабрике, испытала такую же гордость, как ее младшая сестра, когда ту избрали «королевой» на карнавальном празднике. Накануне смерти жар у отца спал; взгляд его глубоко запавших глаз искал Мариану. Она принесла апельсиновый сок и смочила его пересохшие губы. Голос отца был слаб, и ей пришлось сесть на кровать, чтобы лучше слышать. Мариана провела рукой по его небритому лицу и сказала: – Ты сегодня выглядишь лучше… – Я умираю, Мариана. Я ослабел… организм уже не может выдержать. Но прежде я должен с тобой поговорить… – Он протянул дочери свою исхудалую, пожелтевшую руку. – Я хочу, чтобы ты заняла мое место в партии. Нас немного, и я не желаю, чтобы моя смерть создала брешь в наших рядах. Ты можешь сделать намного больше, чем я: ты молода, образованна, умна… Ты ведь коммунистка, не так ли? Каждое слово давалось ему с трудом. Мариана наклонила голову в знак согласия, еле сдерживая рыдания. – Место коммуниста в партии. Ты заменишь меня. – Он помолчал минуту, затем исхудавшими пальцами погладил руку дочери и с грустью улыбнулся. – Я думал, что мы когда-нибудь будем бороться вместе, ты и я. Но достаточно знать, что ты займешь мое место, чтобы я умер спокойно. Вот наследство, которое я тебе оставляю… Ночью у него снова повысилась температура и начался бред, но теперь он уже не вспоминал пытки в тюрьме. Он повторял отрывки из своих любимых книг. Он умер ранним утром, когда Мариана с сестрой собирались на фабрику. Похороны состоялись вечером; на них пришло много рабочих и две профсоюзные делегации. У открытой могилы один из товарищей, которого Мариана даже не знала, произнес несколько теплых слов. – Мы хороним сегодня, – сказал он, – безвестного героя рабочего класса, но знамя, которое он с таким мужеством нес, пролетариат поднимет еще выше, пока не наступит день победы. Это знамя – непобедимое знамя Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина. В грустном молчании погруженного в траур дома, где родственники и соседи оплакивали покойного, она размышляла о речи этого неизвестного товарища; кто-то сказал, что это был один из партийных руководителей, неожиданно появившийся на кладбище, чтобы произнести прощальное слово ее отцу от имени тех людей, которые решили изменить весь образ жизни народа. Это слово было не только утешением в ее горе – не одна она признавала величие жизни отца, – но и призывом к борьбе. Она видела перед собой знамя, про которое говорил этот человек, как нечто ощутимое; она видела его развевающимся в пылу сражения; видела своего отца, выбывшим из строя и оставившим после себя никем не занятое место. И в то же время перед ней проходила вся жизнь отца – подпольные ночные собрания; агитация, которую он вел на фабриках, где работал и откуда его обычно увольняли; аресты и тюрьмы; книги, которые он читал до глубокой ночи; терпеливое разъяснение дочери своих взглядов на жизнь; его доброта и его твердость. Все это как бы слилось воедино в памяти Марианы, чтобы обрести большую значимость, подобно тому, как куски разноцветной ткани, соединяясь вместе, создают национальное знамя. В наполненной тягостным молчанием комнате фигура отца как бы поднималась со старого стула у книжной полки и вырастала перед Марианой; теперь, после речи товарища у могилы, она видела отца в новом свете, и ее дочерняя любовь смешивалась с гордостью, придававшей ей силу и мужество. На другой день она разыскала на фабрике знакомого коммуниста и попросила принять ее в партию. В ожидании решения Мариана жила в беспокойстве, опасаясь отказа: ведь ей не исполнилось еще и восемнадцати лет, к ней могли отнестись недостаточно серьезно. В эти дни по возвращении с фабрики она наспех проглатывала свой скудный обед, а затем читала и перечитывала оставшиеся книги отца, стараясь вникнуть в их смысл, вспомнить то, что он разъяснял. Мать молча наблюдала за ней, как бы догадываясь, что и дочери уготована опасная судьба, что из-за нее ей также придется проводить в тревоге бессонные ночи. Сестра в новом траурном платье встречалась на углу со своим возлюбленным – мясником; спустя несколько месяцев она вышла за него замуж, навсегда оставив фабрику, и с тех пор стала все больше отдаляться от Марианы. Прошло уже более четырех лет с того дня, как она получила радостную весть о принятии в партию. Это произошло неожиданно, однажды утром, дней двадцать спустя после смерти отца. Она остановила станок, чтобы сменить шпульку, когда рабочий, с которым она никогда прежде не разговаривала, подошел к ней и, скромно улыбнувшись, сказал, понизив голос. – Мариана, товарищи шлют тебе поздравления. Она удивленно посмотрела на него. – Какие поздравления? – Ты принята в партию. В обеденный перерыв я тебя подожду у ворот, поговорим… Потом она была на первом заседании ячейки; обсуждались задачи партийной работы на фабрике: распространение «Классе операриа» и других пропагандистских материалов, агитация в профсоюзе, работа по сбору средств, дискуссии, учеба. Ячейка была маленькой, прием в партию в то время проводился с соблюдением строжайших мер предосторожности: привлекались только самые испытанные в профсоюзной борьбе. Но эта маленькая нелегальная ячейка руководила всеми событиями на фабрике, от нее исходили лозунги борьбы за насущные требования, в ней зарождалось движение за увеличение заработной платы. Эта маленькая ячейка была руководящим центром крупной забастовки в 1934 году, объединившей всех рабочих фабрики, – победоносной забастовки, которая укрепила престиж коммунистов среди рабочих. Мариана входила в состав забастовочного комитета, избранного на бурном профсоюзном собрании. Она развернула активную деятельность в эти трудные дни, когда нужно было убедить работниц (а их на текстильной фабрике было много) в возможности победы и в выгодах, которые последуют за этими днями без заработков, когда дети плачут, прося есть. И она так хорошо поработала, что в самые трудные дни – после ареста нескольких товарищей и увольнения дирекцией фабрики всех членов забастовочного комитета и многих других рабочих, когда многие считали уже движение разгромленным, – именно женщины первые проголосовали за продолжение забастовки, требуя теперь уже не только повышения заработной платы, что было причиной забастовки, но и освобождения заключенных и восстановления на работе уволенных. Мариана была уволена с фабрики, но она постоянно встречалась с рабочими, беседуя то с одним, то с другим, воодушевляя всех. Несколько дней спустя дирекция фабрики уступила. Заработная плата была повышена, и уволенные рабочие восстановлены. Некоторые, впрочем, еще остались в тюрьме, но дирекция фабрики утверждала, что она якобы не имеет к этому никакого отношения, что это – дело политической полиции. Тогда Мариана организовала делегацию женщин и направилась с нею для переговоров к комендадоре да Toppe. Одновременно забастовочный комитет обсуждал с дирекцией фабрики новые расценки заработной платы. Комендадора встретила их, приняв любезный и покровительственный вид. Работницам было не по себе в ее роскошной гостиной, похожей на антикварную лавку, набитую всякой всячиной; они смущенно переглядывались, не зная, что сказать. Комендадора с притворной ласковостью выговаривала. – Забастовка… Забастовка… Вот я вам велела повысить заработную плату. А не должна была этого делать, раз вы начали бастовать, не приняв во внимание то, что удручает хозяев… Почему, вместо того, чтобы начинать забастовку, останавливать фабрику, вы не пришли поговорить со мной, побеседовать, объяснить, в чем вы нуждаетесь? Мы бы с вами обо всем договорились. Вы что же, думаете, у нас нет своих трудностей? Времена сейчас для всех плохие, а вы с этой забастовкой причинили мне большой убыток, задержали производство; из-за вас мы потеряли несколько выгодных контрактов… Но у меня доброе сердце, и мне жаль ваших детей… Поэтому я распорядилась повысить вам заработную плату. Почему же все-таки вы не пришли поговорить со мной? В другой раз непременно приходите сюда, вместо того, чтобы идти за коммунистами, которые только хотят зла вам и нам. Я могла бы распорядиться уволить всех, но из жалости этого не сделала. Иначе что бы вам оставалось? Голодать?.. Этого и хотят коммунисты… Мариана воспользовалась паузой, чтобы сказать: – Вы предлагаете, сеньора, чтобы мы приходили беседовать с вами, так вот мы и пришли… – А что там такое еще? – Голос комендадоры потерял ласковость, он звучал недоверчиво и сурово. – Некоторые наши товарищи в тюрьме… – Это коммунисты. И хорошо, что они получат урок… – Тогда забастовка продолжается. Комендадора взглянула на стоявшую перед ней группу женщин; слова Марианы снова воодушевили их, они уже не казались такими испуганными, как вначале. Мариана продолжала: – Условиями для возвращения на работу были: увеличение заработной платы и восстановление на работе всех уволенных. Конечно, и тех, которые арестованы. В голосе комендадоры снова появились заботливые нотки, как у матери, говорящей с непослушными детьми: – Вы что, перестали любить своих детей, разум потеряли, с ума сошли, что ли? Как вы можете продолжать забастовку, когда детям нечего есть и они умирают с голоду? А кто будет в конце месяца платить за вас квартирную плату? Ведь это же безумие!.. Если вы упрямитесь, то и я могу заупрямиться, и вы проиграете. Разве вам не увеличили заработную плату? Вы же этого хотели? Почему вы не думаете о детях? – Товарищи томятся в заключении за то, что они боролись вместе с нами и за нас. Мы должны быть солидарными с ними. Даже если нам придется голодать… Комендадора посмотрела на женщин. Она ожидала, что они будут взволнованы ее словами, но увидела их сплотившимися вокруг этой девушки с серьезным и решительным лицом; она подумала о срочных заказах, о том, что фабрика стоит уже три недели, об убытках, которые она потерпит, если забастовка продолжится. Все же она сделала последнюю попытку убедить их: – Возвращайтесь на работу, я подумаю об этом. Дело ведь зависит не только от меня, но и от полиции… Я погляжу, что можно будет сделать… – Комендадора, мы не вернемся на работу, пока не будут освобождены наши товарищи. «Коммунистка!» – подумала Комендадора, пристально глядя на Мариану своими нестареющими глазами. Это спокойное и решительное лицо кого-то ей напоминало, но она не могла вспомнить кого: уж очень много имен и событий громоздилось в ее памяти. В эту минуту она уже была готова уступить: фабрика не могла больше простаивать; к тому же она знала, что под разными предлогами можно будет в ближайшее время уволить всех руководителей забастовки и наиболее несговорчивых рабочих. Она даст указания дирекции фабрики. Но сейчас она хотела, чтобы ее решение выглядело в глазах работниц не как их победа над нею, а как уступка со стороны ее доброго сердца. Она придала своему старческому голосу еще большую вкрадчивость: – Откровенно говоря, я даже не знала, что некоторые были арестованы. Вы говорите, мои рабочие? Вероятно, они получили по заслугам, но каждый рабочий на моих фабриках это как бы член моей семьи, и мне больно видеть его страдания. Без сомнения, они были обмануты коммунистами… От группы делегаток отделилась женщина и сказала, опустив глаза: – Один из них – мой муж… – Твой муж… Бедняжка… – Лицо комендадоры преисполнилось ласкового сочувствия. – Все это для меня очень больно; я, старуха, не люблю видеть, когда кто-нибудь страдает. Раз вы пришли меня просить ради этой бедняжки, разлученной с мужем, я сейчас же позвоню начальнику полиции… Но в другой раз… слушайте меня хорошенько! В другой раз, если вы опять начнете забастовку, я не проявлю жалости, всех оставлю подыхать с голоду! – Забастовка – это наше оружие: им мы защищаемся, чтобы нас не удушили голодом… – ответила Мариана, прямо глядя в лицо старухе. Женщины стали прощаться, и сейчас, добившись того, что им было нужно, бросали любопытные взгляды на вазы, статуэтки, на большую хрустальную люстру в роскошном салоне. Комендадора задержала Мариану. – Как тебя зовут, дочь моя? – Мариана де Азеведо. – Азеведо… – Комендадора искала в памяти отзвуки этого имени. – Я дочь Антонио Азеведо, который умер несколько лет тому назад… Мы жили на улице Каэтано Пинто… Теперь комендадора знала, кого та ей напомнила, кто был ее отец. «У рыбы и детеныш рыбешка», – вспомнила она пословицу, вглядываясь в Мариану и в то же время дружески спрашивая ее: – Как поживает твоя мать? Она тоже бастует? – Она на другой фабрике… «Эта должна быть уволена в первую очередь», – решила комендадора, однако продолжала еще более вежливо: – Передай ей от меня привет. Отец у тебя был сумасшедшим, он причинил много горя твоей матери… Не вздумай идти по его пути… Она протянула унизанную кольцами руку. Мариана дотронулась до нее кончиками пальцев. Старуха улыбнулась, но ее молодые глаза вспыхнули недобрым блеском. Мариана, довольная одержанной победой, тоже улыбнулась. Она догнала женщин, которым мажордом с важным видом открывал в этот момент дверь на улицу. Женщина, муж которой был арестован, сказала: – Неплохая старуха… – Ты что думаешь? – возразила Мариана. – Что она распорядится освободить арестованных просто из жалости к вам? Ничего подобного… Все это комедия; она их освободит потому, что понесет огромные убытки, если забастовка не прекратится… У нее есть невыполненные срочные заказы. Только поэтому, Антониэта… У комендадоры нет ни капли доброты, эта старуха зла, как тысяча чертей. Несколько дней спустя, когда фабрика уже работала, Мариану вызвали в контору. Управляющий, высокий итальянец, славившийся как хороший инженер, принял ее очень вежливо, усадил на стул и попросил с минуту подождать, пока он закончит одно срочное дело. Что бы это могло означать? – спрашивала себя Мариана. Когда ее вызвали, она была уверена, что ей объявят об увольнении. Но теперь, при виде любезного управляющего, она не могла понять, в чем дело. Один из ее товарищей по забастовочному комитету был накануне выброшен на улицу якобы за прогул. Ходили слухи, что уволят всех остальных членов забастовочного комитета. Партийная ячейка призывала рабочих поднять голос протеста, если увольнения будут продолжаться. Была отпечатана и распространена листовка, которую уже обсуждали в цехах, у станков. Управляющий кончил подписывать бумаги и повернулся к Мариане. – У меня для вас хорошая новость. Несколько дней тому назад вы ведь с группой работниц были у комендадоры. Так вот, вы ей понравились. – Он показал при этом на портрет старухи, висевший в глубине комнаты рядом с портретом покойного комендадора. То был старый портрет: ей можно было дать не больше пятидесяти лет. – А если ей человек понравится, она старается ему помочь. Комендадора поручила мне предложить вам место экономки у нее в доме. Для вас это манна небесная: хорошее жалование (в пять раз больше, чем вы зарабатываете здесь), комната, питание, одежда, приличествующая ее дому, возможность путешествовать… В общем, это такое место, о каком я бы только мечтал для своей жены… К тому же у нее бывает много гостей, и при вашем милом личике в один прекрасный день вы можете составить хорошую партию… Словом, поздравляю вас… Мариана, получив столь неожиданное предложение, подумала не об отце, не о товарищах по ячейке, не о подругах по цеху; она подумала о старом Орестесе. Согласись она, Орестес никогда бы не подал ей руки, не поцеловал бы ее в щеку, не чмокнул губами под длинными жесткими усами, пропахшими табаком. У старого Орестеса еще с тех времен, когда он был анархистом, сохранилось отвращение к работе в барском доме, к профессиям горничной, экономки, мажордома, ко всему, что, по его мнению, вырабатывало в людях холопское мышление, свойственное рабу или нищему. Мариана улыбнулась, подумав, как огорчился бы старик, узнав, что за работу ей предложили. Она вспомнила о его итальянских ругательствах, подумала о шуме, который он поднял бы на весь квартал по поводу ее легкомысленного характера, наконец о тех скорбных словах, которыми он с сожалением помянул бы ее отца. Управляющий, заметив улыбку Марианы, решил, что она с благодарностью принимает предложение. – Можете отправиться туда завтра с утра. Платья стирать не надо; вам дадут другую, более подходящую одежду. Я распоряжусь, чтобы вам выплатили заработную плату по сегодняшний день и выходное пособие… Мариана поднялась со стула. – Я вам очень признательна, сеньор Джованни, но не могу согласиться. Мне нравится работа на фабрике, к тому же у меня нет ни способностей, ни достаточного образования, чтобы быть экономкой в доме богатых людей. Передайте комендадоре, что я очень благодарна, но принять ее предложение не могу. Удивление управляющего было так велико, что Мариана даже рассмеялась. Она подумала о том, как будет хохотать, разглаживая усы, старый Орестес, когда она расскажет ему об этом. Управляющий потерял дар слова, ему казалось, что никогда он не слыхал ничего более невероятного, чем этот отказ. Все еще улыбаясь, Мариана стоя ожидала, чтобы он ее отпустил. Но управляющий задержал ее почти на десять минут, тщетно пытаясь убедить. – Это бесполезно, сеньор Джованни. Я не согласна. Я довольна своей работой и не хочу менять профессии. Управляющий бессильно развел руками. Он не мог понять причин этого упрямого отказа. – Я могу только предположить, что вы не в своем уме. Только сумасшедшая может отказаться от такого предложения. Я не знаю, как комендадора воспримет это известие, но ничего хорошего не жду. Когда Мариана вышла из кабинета, она встретила в приемной делегацию рабочих. Они пришли сюда из-за нее, их быстро собрала ячейка, – они собирались вмешаться, если бы ее уволили. Один из рабочих спросил: – Ну что, дали «волчий билет»? – Да нет. Хотели подкупить… Вечером старый Орестес действительно хохотал, разглаживая свои длинные седые усы, и, так как он знал старую комендадору еще в те далекие времена, когда она только что вышла замуж, то рассказал про нее разные забавные и пикантные истории, комичность которых он усиливал, вставляя свои характерные итальянские восклицания, крепкие южные словечки, звучавшие так же громко и весело, как и его непринужденный хохот. Вдоволь повеселившись, зло высмеяв комендадору, он взял руку Марианы и сказал ей, уже вполне серьезно: – Вот видишь, сага piccina[30], какая она, эта свинячья буржуазия! Когда появляется рабочий, который намерен бороться за интересы своего класса, они сейчас же думают о том, чтобы подкупить его или покончить с ним… Чорт побери! Ты только начала работать, а они уже заметили, что ты для них опасна. Старая scifosa[31]! Проклятая свинья сразу задумала подкупить тебя местом прислуги. И вот так они, piccina, carina mia[32], думают расколоть нас, помешать борьбе рабочего класса. Они используют все – полицию и деньги. Никогда не давай себя обмануть, не думай, что у них есть сердце. У буржуазии есть только желудок, только брюхо и ничего больше! За эти четыре года произошло много событий; Мариане не всегда легко удавалось преодолевать отдельные трудности, и во много раз сложнее было побеждать некоторые чувства. Отношения Марианы с сестрой с течением времени становились все более и более натянутыми. Сестры отдалялись друг от друга, и каждая встреча, каждое посещение замужней сестрой домика, где им пришлось жить после смерти отца, завершалось неприятным инцидентом или даже тяжелой сценой. Первое посещение было вызвано предложением комендадоры да Toppe. Каким образом весть об этом дошла до ушей сестры, Мариана так и не узнала. Но та явилась взволнованная, желая узнать причины «этого идиотского отказа», как она выразилась. После выхода замуж сестра смотрела на все глазами мужа, у которого все помыслы были направлены только на процветание своей мясной лавки. Слова осуждения, которые она никогда не осмеливалась произносить против отца, теперь она прямо бросала Мариане в лицо: – Как будто недостаточно того, что отец причинил нам этими идеями… – А что же он сделал? – Как что? Сколько раз мы были сыты только потому, что нас жалели соседи… – Не жалели, а помогали из солидарности. – Ну, я не кончала университеты, чтобы говорить по-образованному. Разве недостаточно того, что вытерпела мать? Или ты хочешь, чтобы она, бедная, умерла с горя? – Мать знает, что отец был прав и я права. Мать не оторвалась от своего класса… – Это что еще за обвинение? Прекрасное будущее – вся жизнь у ткацкого станка. Я для тебя преступница только потому, что бросила эту проклятую работу, чтобы выйти замуж за честного, работящего человека? У мужа нет никакого образования, но он не дурак; и он мне каждый день твердит, что от этого коммунизма в жизни только одна морока… Муж ее был португалец из семьи мелких землевладельцев; дядя его выписал к себе в Бразилию мальчишкой. От этого дяди он получил в наследство мясную лавку. Он тосковал по родине, эта тоска носила у него шовинистический характер: он безоговорочно превозносил все португальское, включая режим Салазара. Мясник боялся, что и его потянут в полицию из-за Марианы. В первое время после свадьбы Мариана обычно вместе с матерью навещала их по воскресеньям. Она любила сестру, ей хотелось делиться с ней радостями и печалями, рассказывать ей о своих личных делах. Но зять был недоволен, когда она приходила к ним, и, не скрывая этого, говорил ей резкости. Мариана стала избегать этих визитов, и мать привыкла ходить к ним одна. Кончилось тем, что Мариана встречалась с сестрой только тогда, когда та приходила к ним похвастаться своими шелковыми платьями и туфлями на высоких каблуках. И при каждом своем визите она пилила сестру: – Если бы ты согласилась поступить в услужение к комендадоре, матери незачем было бы работать. Мы вдвоем могли ее содержать… Мариане хотелось спросить сестру, почему же она не возьмет мать к себе и не поселит в свободной комнате, тем более, что дом мясника значительно комфортабельнее их лачуги. Но она не спрашивала, не желая еще больше обострять отношения. Иногда, чтобы заставить младшую дочь замолчать, матери приходилось вмешиваться: – Я с голоду не умираю и не настолько стара, чтобы бросить работу. Мариана – хорошая дочь, а то, что она думает, – ее личное дело. Дочь указала на старую, заплатанную одежду матери. – Но ведь ты, мама, одета хуже нищей… А такой случай, такая служба не повторится. Муж был просто поражен добротой комендадоры; и ведь это после того, как Мариана организовала забастовку… На фабрике дела становились все хуже. Мариана не была уволена только потому, что дирекция боялась протеста рабочих. Но ее всячески преследовали, и она даже думала, что своим первым заключением обязана доносу дирекции фабрики. Ее арестовали несколько месяцев спустя после забастовки, когда она возвращалась с работы. На допросе она вскоре поняла, что полиция не знает о ней ничего определенного, кроме разве того, что она дочь коммуниста и активно участвовала в забастовке. В течение восьми дней ее держали в одиночной камере; ее дважды допрашивали, но кончилось тем, что она была освобождена. По пути в кабинет инспектора, куда ее вели на допрос, она встретила в коридоре того самого мулата, который несколько лет назад забрал ее отца. Когда Мариана вернулась домой, сестра, которая зашла проведать мать, впервые не набросилась на нее с упреками; она плача обняла Мариану, и это принесло Мариане большую радость и вознаградило за воспоминание о мрачной обстановке тюрьмы. Большим счастьем для нее было также то, что товарищи проявили заботу о ее матери: во время отсутствия дочери та ни в чем не испытывала недостатка. Каждый день старый Орестес навещал ее, чтобы узнать, как она себя чувствует и достаточно ли продуктов в ее скромном буфете. Мариана хорошо знала финансовые затруднения, испытываемые партией, она знала, как сурова жизнь ее товарищей, знала, на какие жертвы они вынуждены ежедневно идти, и была растрогана, когда мать протянула ей бумажку в сто милрейсов. – МОПР прислал эти деньги, но мне они не понадобились… Младшая сестра посоветовала Мариане: – Купи себе на них материи на юбку да туфли. Твои совсем истрепались. – Нет, я верну деньги. Завтра случится что-нибудь с другим товарищем, и тогда будет чем помочь его семье. Хуже всего было то, что арестом Марианы воспользовались как предлогом, чтобы уволить ее с фабрики. Рабочие заявили протест; цех, где она работала, прекратил работу на двадцать четыре часа, однако развернуть более широкое движение в данный момент не представлялось возможным. Несколько дней спустя она сумела поступить на другую фабрику, значительно меньшую, где получила работу с более низкой заработной платой. Именно с этой фабрики Мариана и была уволена два месяца назад, когда управляющий пришел к заключению, что это несомненно она (несмотря на все предосторожности Марианы, имевшей теперь значительно больший опыт нелегальной работы, управляющий уже давно подозревал ее) является центром нарастающего недовольства среди рабочих, что это она ведет ту, на первый взгляд, незаметную агитацию, результатом которой явилось коллективное обращение рабочих к «трудовой юстиции». До Марианы на этой фабрике не было низовой ячейки; там работал только один член партии, и он входил в другую ячейку. Но на фабрике были сочувствующие, настроенные достаточно решительно, и вскоре после прихода Марианы у них уже организовался кружок читателей «Классе операриа»; многие рабочие вносили взносы в фонд МОПР; была создана маленькая ячейка из четырех человек. Когда Мариана была уволена («меня преследует судьба отца», – подумала она, получив извещение), она оставила после себя на фабрике ячейку из восьми активистов и солидную группу сочувствующих. Борьба за увеличение заработной платы не прекращалась. Управляющий был поражен: несмотря на отсутствие Марианы, волнения среди рабочих продолжались. Он заявил владельцу фабрики: – Она убралась, но микробы коммунизма остались. Эти коммунисты, подобно дурным ветрам, разносят заразу. Ветра уже нет, а чума остается. – Нам нужны у власти интегралисты, – ответил хозяин. – Они сумеют покончить с коммунизмом. И, если богу угодно, так и будет. После увольнения Марианы партия решила, что она должна уйти с производства. Последовавшие один за другим провалы товарищей тяжело отразились на среднем и даже высшем руководящем аппарате, и районный комитет[33] решил заменить кадры связных, потому что многие из них оказались на учете полиции. Нужны были новые связные, и их стали выдвигать из активистов, испытанных на низовой работе и в то же время неизвестных полицейским агентам. Мариана, правда, один раз была арестована, но ее освободили, считая, что она не имеет ничего общего с партией, а просто, как и остальные рабочие, участвовала в забастовке: против нее не было никаких улик. События на другой фабрике остались неизвестными полиции. Помимо этого, облегчало задачу то обстоятельство, что дело касалось женщины. Тогда женщин в партии было немного, о них мало кто знал. Вот почему Мариана стала связной сан-пауловского районного комитета Коммунистической партии Бразилии. Ей сообщил об этом один из руководителей районного комитета товарищ Руйво. Он предупредил Мариану об ответственности, подчеркнув доверие, оказанное ей партией: – Фактически тебе, Мариана, вверяется судьба всего районного руководства партии. Ты одна будешь знать адреса некоторых руководителей, свобода каждого из них в твоих руках. Ты понимаешь, что это означает? Мариана в знак согласия кивнула головой с такой же серьезностью, как это она уже однажды сделала, – в тот день, когда отец перед смертью спросил ее, коммунистка ли она и займет ли она его место в партии. Она сказала: – Это означает, что если я попадусь и в полиции меня станут пытать, я даже под страхом смерти ничего не скажу. Случайно ей довелось разговаривать с товарищем Руйво больше года назад, когда она поставила перед партией вопрос о создании ячейки на фабрике. Тогда он долго с ней беседовал, объяснял, как следует оценивать решимость, твердость и другие моральные качества каждого сочувствующего, прежде чем предложить ему вступить в члены партии. После этого она с ним больше не виделась, и поэтому сейчас, услышав его покашливание, подумала, что он, возможно, недостаточно убежден в ее выдержке. Она не знала, что у Руйво затронуто легкое, что эго кашель больного. Она подняла голову, взглянула на Руйво своими черными глазами. – Я могу умереть под пыткой, но все равно ничего не скажу. Так было с моим отцом – не знаю, известно ли вам, товарищ, об этом. И он умер, повторяя в бреду единственные слова, которые он произносил под пыткой: «Ничего от меня не узнаете…» Это будут и мои слова, товарищ. – Да, это мне известно. Я хорошо знал твоего отца, работал вместе с ним, и когда мы решили привлечь тебя, учитывалось и это. С чего ты вообразила, что я не доверяю тебе? – улыбнулся он. – Вы так странно покашливали, что я… – У меня грудь болит, – продолжал он улыбаться, и его бледное лицо приняло дружелюбное выражение. – Мое левое легкое сплоховало – оно недостойно большевика… Я надеюсь, ты будешь держаться как коммунистка. Но лучше не попадаться в лапы полиции, – надо быть осторожной, никто не должен знать, что ты коммунистка. Если тебя спросят, скажи, что ты больше не имеешь никакого отношения к партии, что тебе надоело лишаться из-за этого работы, что ты хочешь жить спокойно. – Он заметил недовольство на лице Марианы. – Разве быть коммунисткой важно только для того, чтобы об этом знали другие? – Не в этом дело… Я даже не знаю, как объяснить… Трудно прятать лучшее, что у тебя есть… – Миллионеры хранят свои лучшие драгоценности в сейфах. Придет день, когда каждый сможет прямо заявить о своих убеждениях. Но этот день еще не наступил. Тебе это ясно? – Да. Я сделаю так, как вы говорите. – Нужно подыскать какое-нибудь занятие, чтобы знали, что у тебя есть работа. Мы уже договорились с одним сочувствующим нам врачом. Он берет тебя на службу: будешь сидеть за столиком в приемной, приглашать пациентов в кабинет, подходить к телефону, записывать на прием. Он тебе подробнее объяснит твои обязанности. Но учти: он не знает, какая на тебя возложена задача. Мы ему сказали, что речь идет о дочери одного умершего товарища, которая находится без работы. Он сочувствует нам, но не больше. Я его пациент и вначале местом нашей явки будет его врачебный кабинет. С другими членами комитета будешь связываться только через меня. – Он закашлялся, вытер платком губы и снова улыбнулся. – Мы станем хорошими друзьями. Когда есть время, я люблю беседовать. Прежде, когда был моложе, любил и потанцевать… – Но вы же и сейчас еще совсем молодой. – Мне тридцать пять… но уже добрых пять лет, как я не танцую, наверно даже разучился перебирать ногами. А теперь вот с таким легким, пожалуй, просто не смог бы. Врач мне твердит: «Отдых, отдых…» Но какой может быть отдых, когда фашизм распространяется по всему миру и интегралисты пробираются к власти. Ты только вообрази – врач хотел меня послать в санаторий, в Кампос-до-Жордан… И это в такой момент, когда нехватает людей, когда Престес и другие товарищи в тюрьме… Я вылечусь здесь, и это будет подлинное выздоровление: больное легкое станет сильнее, чем здоровое… Она убежденно сказала: – Так и будет, я надеюсь. – И я надеюсь. Не хочется умирать сейчас, когда Гитлер у власти, а Тельман – в заключении; когда Муссолини у власти, а Тольятти – в изгнании; когда Жетулио у власти, а Престес – в тюрьме. Я еще хочу увидеть вывеску нашей легальной партии на фронтоне какого-либо здания здесь в Сан-Пауло. И обязательно увижу, Мариана! Нам придется пережить трудные, очень трудные дни, но потом все станет лучше. Будущее за нами, и этого будущего никто у нас не отнимет. За два месяца она узнала его лучше и прониклась к нему огромным уважением. Ей особенно нравилась в Руйво его преданность партии, его непоколебимая уверенность в победе. Будучи еще подростком, Мариана на примере отца привыкла рассматривать повседневную борьбу коммунистов как обыденное дело. Однако она видела победу лишь как далекую цель, как конечную веху на пути, по которому предстоит идти еще целым поколениям. Это чувство не покидало ее, хотя она даже не отдавала себе в нем отчета и в начале ее собственной активной деятельности. Видимая перспектива победы впервые появилась перед ней с возникновением Национально-освободительного альянса[34], который значительно расширил влияние партийной ячейки на фабрике комендадоры, где она тогда работала. Но поражение восстания 1935 года, последовавшее затем запрещение Альянса и в особенности заключение в тюрьму Престеса снова привели ее к тому ощущению борьбы без конца, к топтанию на месте, а не к движению вперед. После поражения вооруженного восстания 1935 года, после разгула реакции в стране и усиления фашизма в ряде европейских государств некоторые преисполненные пессимизма товарищи считали, что никакое мало-мальски глубокое изменение в Бразилии невозможно до тех пор, пока не произойдет революция в Соединенных Штатах. В эти дни 1937 года Мариана ощутила даже у испытанных товарищей известный упадок духа, который отразился на партийной деятельности: глухо критиковалась позиция партии в отношении президентских кандидатур – партия не поддерживала ни того, ни другого кандидата, но старалась воздействовать на них в демократическом духе, подтолкнуть их на борьбу против фашизма и интегрализма, используя избирательную кампанию обоих кандидатов для того, чтобы поднять знамя борьбы за амнистию Престеса и других участников восстания 1935 года. Некоторые считали, что партия должна стать на сторону одного из кандидатов, пойдя на избирательный компромисс. Мариана на этих дискуссиях защищала политику партии, позицию руководства. Но еще до начала работы с Руйво она почувствовала, что ее охватывает, даже помимо воли, атмосфера тревоги и пессимизма. У станков и на нелегальных собраниях некоторые товарищи шептались о готовящемся фашистском перевороте, во время которого могут убить в тюрьме Престеса и попытаться разгромить партию. Однажды на небольшой вечеринке в домике старого Орестеса (старик праздновал очередную годовщину своего побега в порту Монтевидео с парохода, на котором он был выслан из Буэнос-Айреса в Италию вскоре после окончания первой мировой войны) она услышала от журналиста Абелардо Сакилы фразу, которая врезалась ей в память; она бессознательно повторяла ее в самые различные моменты, как иногда, помимо воли, вспоминаешь мотивы глупых карнавальных песенок. Как всегда, устроившись в глубине домика, чтобы голоса не были слышны на улице, гости в этот вечер обсуждали вопросы внутренней и международной политики. Они говорили об угрозе переворота, о войне в Испании[35], о военных приготовлениях Гитлера и Муссолини. Кто-то сообщил новости о Китае[36] из американской печати. Журналист подтвердил: повидимому, в Азии все потеряно и, если Испания будет побеждена, то фашизм из Германии и Италии наверняка распространится по всему свету. Журналист считал, что в полуколониальных странах коммунистическое движение находится в тупике: оно не в состоянии ни победить, ни даже прогрессировать; его будущее целиком зависит от того, как скоро будет покончено с капитализмом в империалистических странах, которые политически и экономически господствуют над колониями и полуколониями. Он рассуждал обо всем этом, выпуская клубы дыма из трубки, профессорским тоном, не допускавшим возражений: – Наша борьба здесь, как и в других странах Латинской Америки и вообще в полуколониальных и колониальных странах, – широким жестом он показал, как велика область, охватываемая его определением, – напоминает мне стремление человека, который хочет пробить головой одну из толстых каменных стен, построенных еще во времена колонизации. Мы хотим пробить головой каменную стену, а разобьем лишь свои головы… После того как он нарисовал такую мрачную картину, наступило молчание; казалось, журналист своими словами и дополняющими их жестами воздвиг непреодолимую стену именно здесь, перед собравшимися. Однако насмешившая всех анархистская выходка старого Орестеса развеяла мрачные предвещания Сакилы: – Если не головой, так хорошенькой динамитной бомбой, но мы пробьем эту maladetta[37] стену… Взорвем ее, per Bacco![38], так чтобы не осталось камня на камне!.. – Старик поднялся на ноги и рванул рукой, как бы бросая бомбу. Все засмеялись, а один из присутствующих завел с Сакилой спор, цитируя классиков марксизма, ссылаясь на слова Престеса, доказывая, что как бы трудно ни было в данный момент, отчаиваться нет основания. Журналист, по-прежнему попыхивая трубкой, улыбнулся и в качестве единственного аргумента с восхищением и пафосом повторил: – Средневековая каменная стена – непреодолимая стена!.. В одной из своих бесед с Руйво Мариана передала ему это образное выражение Абелардо Сакилы. Она рассказала об этом в шутливой форме, рассчитывая рассмешить Руйво репликой старого Орестеса, одержимого страстью к взрывающимся динамитным бомбам. От сознания безнадежности и нервного ожидания каких-то событий Мариана освободилась после того, как, выполняя свое новое поручение, почувствовала значимость работы партии. Она повторила фразу Сакилы, имитируя его драматический жест поднятой рукой, передала ответ Орестеса и рассмеялась, ожидая, что улыбнется и Руйво. Но он, выслушав ее внимательно, не засмеялся, а нахмурился. – То, что тебе кажется просто звонкой фразой литератора, – признак значительно более серьезного. Это работа врага в самой партии, Мариана. В особенности здесь, в Сан-Пауло, где сосредоточена большая часть промышленности страны, где рабочий класс многочисленнее и политически более развит. В течение последнего времени руководство замечает проникновение чуждой идеологии, какую-то подрывную работу, направленную на создание панической атмосферы, на то, чтобы внушить членам партии идею безнадежности и этим добиться ослабления работы. Вдумайся хорошенько: враг прежде всего старается таким путем помешать росту партии и ее влияния на крупных предприятиях, где мы должны пустить самые глубокие корни. С другой стороны, он стремится насадить в нашей среде мелкобуржуазную идеологию безнадежности и самоликвидации. К нашему движению в период существования Альянса примкнула группа представителей мелкой буржуазии, преимущественно из интеллигенции. Среди них оказалось немало попутчиков и оппортунистов, которые и распространяют вражескую идеологию. Сакила – один из них… – Вы хотите сказать, что он враг? – Я говорю, что он сознательно или бессознательно – впоследствии увидим – выполняет вражескую работу. Партия должна разоблачить этих людей, когда они перейдут к более серьезным действиям. – Вы думаете, они попытаются что-нибудь предпринять? – Полагаю, что да. Их критика нашей позиции в избирательной кампании, их попытки идейно разоружить товарищей, добиться, чтобы партия пала духом, их стремление дискредитировать партийное руководство и международное коммунистическое движение – все это не пустая болтовня. За этим скрывается нечто куда более серьезное, вот увидишь. Это работа врага. Он не довольствуется полицией, тюрьмами, избиениями… То – грубая сторона реакции, но есть и другая, более утонченная и подчас более опасная для партии… – Руйво говорил так страстно и вдохновенно, будто опасность угрожала самому близкому члену его семьи. – Мрачные предсказания Сакилы продиктованы теми, кто создал антикоминтерновский пакт[39] и бросил Франко против Испанской республики. Они вложены в его уста капиталистами, использующими все средства, чтобы воспрепятствовать приходу пролетариата к власти. Но капиталисты не смогут этому помешать ни с помощью пушек, ни с помощью фраз, сколь бы звучны они ни были… Его прервал сухой кашель. Мариане казалось несправедливым, что такой человек болен. – Разбить голову о стену!.. Глупая фраза, Мариана. Просто идиотская… Голова человека – это мысль, и нет такой стены, как бы ни были крепки ее камни, которая может выстоять перед волей и мыслью человека… И Руйво заговорил о пролетариате, о его исторической миссии, обрисовал ей перспективы победоносного будущего. Он иногда давал ей читать книги, и она даже приобрела испанско-португальский словарь, так как многие из этих книг были на испанском языке, а она хотела вникнуть в смысл каждой фразы и каждого слова Ленина и Сталина. Не раз, зачитавшись до глубокой ночи, она так и засыпала над книгой, устав от долгих мучительных хождений: она стремилась еще больше удлинить и запутать дорогу к отдаленным убежищам членов районного комитета, чтобы ее не выследила полиция. Она читала и в приемной врачебного кабинета; здесь она прочитывала беллетристику и особенно любимые ею стихи. За последние месяцы, под бременем ответственной и опасной работы, она чувствовала себя преисполненной радости жизни и поражала мать, распевая в часы пребывания дома любовные песенки. Мать начинала строить догадки: «Может быть, она и впрямь в кого-нибудь влюбилась? Пора, ей уже скоро двадцать два года, а у нее еще не было возлюбленного». Мать не могла догадаться, что единственной причиной весенней радости, сиявшей на лице Марианы, была уверенность в том, что она приносит пользу делу, которому ее отец посвятил всю свою жизнь и которое стало и ее делом. Возможно, что чувство полноты жизни, явившееся следствием того, что утром она по-новому осмыслила свое существование, заставило Мариану вечером заинтересоваться неизвестным ей молодым товарищем, молчаливым и скромным, который, сидя в углу их маленькой комнатки, служившей одновременно и кухней, наблюдал за нею с настойчивостью, которая в другом случае могла бы показаться оскорбительной. Его привел секретарь ячейки фабрики, на которой Мариана раньше работала, и предупредил ее по секрету, что это очень ответственный товарищ. Когда секретарь сказал, что собирается зайти к Мариане по случаю ее рождения, тот проявил большой интерес. – Я тоже пойду. Мне нужно с ней поговорить. Ты познакомь меня… Но пока незнакомец держался молчаливо, лишь изредка вставляя слово. Пришел старый Орестес, и его ананасное вино было разлито по бокалам, но их нехватило на всех, так как Мариану навестили товарищи по работе с обеих фабрик, соседи и знакомые по кварталу, где она жила, и старому Орестесу пришлось сходить домой и принести еще несколько бокалов. Молодой человек – он был представлен Мариане под именем Жоакина – выглядел крайне утомленным. Когда Мариана подавала вино, она чувствовала, что новый гость не спускает с нее глаз. «Как ему, видимо, хочется спать! – подумала она. – Он делает все, чтобы преодолеть дремоту». Мариана тоже поглядывала на него и улыбалась; ей было симпатично это исхудавшее лицо, усталый взгляд, широкий лоб с глубокими морщинами, нервные руки, то и дело приходившие в движение. Разговор касался самых различных тем, начиная с тяжелой жизни и все возрастающей дороговизны и кончая спором о войне в Испании – спором, который затеял зять Марианы, поклонник Франко (он пробыл всего минут десять и поторопился уйти, уведя с собой жену). Слова мясника вызвали возмущение, и даже мать, всегда стремившаяся избежать какого-либо конфликта с зятем, поднявшись, запротестовала: – Франко – убийца рабочих! Я уверена, что он кончит на виселице, помоги ему в этом бог. В эту минуту глаза Марианы встретились с глазами молодого человека, и он ей улыбнулся; когда старуха поднялась и произнесла свое страстное проклятие, на его усталом лице появилось выражение восхищения. Мариана тоже радостно улыбнулась, и на короткий миг получилось так, будто у них обоих – одна мысль и одно сердце. Она опустила глаза, и улыбка погасла на лице товарища. Рабочим завтра надо было рано идти на работу, они начали расходиться. Секретарь ячейки, который привел молодого человека, назвавшего себя Жоакином, поднялся, чтобы проститься. Он подошел к Жоакину, но тот не двинулся с места. – Я ухожу… – А я еще посижу… До свиданья. Комната понемногу опустела. Все пожелали Мариане счастья. Последним ушел старый Орестес, усы которого пахли ананасным вином. Еще возбужденный после спора об Испании, он на прощанье обнял и расцеловал Мариану и, смягчившись, сказал ей: – Долгие годы живи и здравствуй, сага piccina, пока не увидишь нашу победу во всем мире… – Он почти прошептал эти слова Мариане на ухо, а затем тут же при выходе стал громко насвистывать «Бандьера росса»[40], явно рассчитывая на то, что ночной сторож не знает этой запретной мелодии. Мариана вернулась в комнату и оказалась наедине с товарищем, так как мать еще раньше ушла к себе. Ночной ветерок доносил через открытую дверь революционной мотив, который насвистывал итальянец. Назвавший себя Жоакином поднялся, прислушался ко все удалявшемуся свисту старого рабочего, подошел к двери и запер ее на ключ. Быстрым жестом он вынул удостоверение члена подпольного комитета и показал его Мариане. – Можем мы потолковать несколько минут? Она уселась рядом с ним, ожидая пока он заговорит, и в то же время спрашивала себя, почему эта связь с нею не была установлена через Руйво. – Товарищ Руйво уехал, – сказал Жоакин, предугадывая ее вопрос. – На это время я его замещаю. Он внимательно посмотрел на нее своими усталыми глазами, словно желая убедиться, какое это произведет на нее впечатление. Она продолжала сидеть, наморщив лоб, так как Руйво ей ничего об этом не говорил. Он понял ее мысли и в знак одобрения легонько хлопнул по плечу. – Бдительность – хорошее дело, товарищ! Верно, что товарищ Руйво должен был связать нас. Однако ему пришлось неожиданно уехать. Я – товарищ Жоан… Теперь она взглянула на него с улыбкой. Сколько раз ей уже приходилось слышать о товарище Жоане, столь настойчиво разыскиваемом полицией; как партийный руководитель, он подавал большие надежды: его действия во время забастовки железнодорожников в Рио были подлинно героическими! Она спросила: – Как здоровье Руйво? Не стало ли ему хуже? – Нет, нет. Партийная работа… – Он разнял нервные тонкие руки. – Я не знал, как с вами связаться, когда товарищ сказал мне, что идет к вам в гости. Я и воспользовался. – А медицинский кабинет? – Он годится для Руйво, который лечится у этого доктора, но не для меня. Нам придется для каждой встречи назначать новое место. Для начала в следующий вторник мы встретимся в кафе «Васко да Гама» на Ларго-дас-Пердизес. Если меня в кафе не будет, подождите минут пять, и если я за это время не приду, уходите оттуда; ждите пока я не свяжусь с вами в другой раз. Пять минут, не больше… – Хорошо. – Но у меня есть для вас поручение, которое вы должны выполнить еще сегодня. – Сегодня? Жоан взглянул на ручные часы. – Еще нет одиннадцати, а поручение должно быть выполнено обязательно сегодня. – Он сунул руку в карман, вынул пакет и, держа его в руке, сказал: – Спрячьте под блузкой. Передайте это одному товарищу; он остановился в отеле «Риалто», шестой этаж, номер 623. – Жоан повторил: – Шестой этаж, номер 623. Войдете с улицы Либеро Бадаро, таким образом вам не придется проходить мимо портье. Последний лифт без лифтера, пассажир сам нажимает кнопку. Но если даже вы подниметесь на другом лифте, неважно: «Риалто» – отель для любовных свиданий, никто не обратит внимания на женщину, подумают… В общем, вы сами понимаете… Человек ожидает вас. Будьте осторожны: то, что вам поручается, очень важно. Он передал Мариане пакет, подождал пока она его спрячет. Так как конверт не проходил через ворот блузки, Мариане понадобилось выйти из комнаты. – Я сейчас вернусь, – сказала она. – Лучше я уйду. Переждите минут пятнадцать после моего ухода. – Он поднялся и говорил теперь, стоя против нее. – Вы все равно узнаете этого человека, потому что часто видели его фотографию в газетах, – он указал на приколотую булавкой к дверце шкафчика вырезку из газеты с фотографией восставших офицеров третьего пехотного полка, покидающих казарму после поражения в 1935 году, – но лучше я вам заранее скажу: человек, которого вы встретите, это товарищ Аполинарио; он временно выпущен на свободу… – Он указал на фотографию высокого юноши, стоявшего рядом с Ажилдо Баратой[41]. – Лейтенант Аполинарио? Это имя так же много говорило Мариане, как и имя товарища Жоана. Храбрость, проявленная лейтенантом Аполинарио во время восстания в казарме третьего полка, была известна всем коммунистам и сочувствующим. А о его поведении в тюрьме, замечательных ответах на допросах, речи перед судом молва ходила из уст в уста. Эти два новых знакомства показались Мариане лучшими подарками ко дню ее рождения. – Да, он самый, – засмеялся Жоан и добавил серьезным тоном: – Да, вот еще что… Снимите-ка эту фотографию. К чему она здесь? Этого вполне достаточно, чтобы привлечь внимание полиции… – Вы правы. – Я ухожу. Минут пятнадцать спустя выходите вы. Помните этаж и номер комнаты? – Шестой этаж, номер 623, вход с Либеро Бадаро, последний лифт. Если на меня посмотрят, выдать себя за особу, идущую на свидание к любовнику… Не знаю, выйдет ли у меня это. – Мариана улыбнулась. Жоан протянул ей руку. – До вторника на Ларго-дас-Пердизес. Он задержал руку Марианы, запнулся, будто хотел сообразить, как лучше сказать трудную фразу; она заметила огонек в его усталых глазах. – Сколько вам сегодня исполнилось? – Двадцать два… – Не похоже… – Неужели я выгляжу такой старой? – Вам можно дать самое большее девятнадцать… – И Жоан покраснел, будто признался ей в любви. Затем выпустил ее руку. – Спокойной ночи. Желаю вам успешно выполнить поручение. – Спокойной ночи. Держа в руке ключ от двери, которую он собрался открыть, Жоан повернулся к ней еще раз. – А знаете, ведь это ваш отец сделал меня коммунистом. Он улыбнулся, она также, и снова получилось, будто у них одна мысль, одно сердце. Он исчез во мраке ночи; Мариана заперла за ним дверь, медленно вернулась обратно и спрятала конверт под лифчик. Затем вошла в комнату, где уже спала мать, вынула из волос красный цветок и посмотрела на его увядшие лепестки. «Как он худ, этот товарищ Жоан, и рубашка у него разорвана, – она это заметила. – Тяжела жизнь такого одинокого товарища: никто не позаботится о его еде, об одежде; он ни к кому не приклонит на грудь свою усталую голову…» 6
Перед дверью комнаты 623 Мариана облегченно вздохнула: пока все было хорошо. Когда она вошла с улицы Либеро Бадаро, заполненный лифт только что поднялся и длинный коридор опустел. Она смогла подняться на последнем лифте совершенно одна; никого не встретила она и в коридорах шестого этажа. Тихонько постучала, услышала, как кто-то поднялся и подошел к двери. Затем дверь открылась, и она увидела молодое, улыбающееся лицо. Однако при виде Марианы улыбка исчезла с лица этого человека – по-видимому, он ожидал увидеть кого-то другого и решил, что девушка попала сюда по ошибке. – Что вам угодно? – задал он вопрос. Тихо произнеся пароль, она спросила: – Можно войти? Он впустил ее. Он выглядел жизнерадостным, как школьник на каникулах. Мариана повернулась к нему спиной, чтобы вытащить пакет из-под блузки. Он начал говорить, слова потоком лились из его уст: – Простите, товарищ, простите, но я никак не думал, что ко мне пришлют хорошенькую девушку… Я ожидал увидеть бородатое безобразное лицо, как у коммунистов, которых рисует на плакатах полиция, а вместо этого… Она вручила ему пакет. – Я должна вам это передать. Аполинарио сунул пакет в карман. – Ну, вот и передали. – Он предложил ей стул. – Присядьте, отдохните. Хотите минеральной воды? – Он показал ей на почти полную бутылку. – У меня есть чистый стакан. – Выпью немножко, спасибо. Он присел на край стола. Высокий, с коротко подстриженными волосами, он словно олицетворял пылкую молодость, которой нужны широкие просторы, постоянное движение; в нем было какое-то обаяние, он казался одним из тех людей, к кому сразу чувствуешь уважение. Пока она пила воду, он продолжал говорить, но Мариана, поставив стакан, прервала его: – А как вам было в тюрьме, товарищ? – По-видимому, я не создан для тюрьмы; она не по мне. Но нужно было поддерживать хорошее, бодрое настроение. Тяжелее всего сознание, что не можешь оттуда выйти, когда захочешь… Но что ж поделаешь? Он поднялся, подошел к окну, высунулся, чтобы поглубже вдохнуть теплый воздух; это была одна из первых для него свободных ночей. Он провел почти два года в тюрьме и лишь неделю назад его временно выпустили на свободу вместе с несколькими другими офицерами, которые должны были предстать перед судом. Партия решила отправить их в Испанию, где другие офицеры, ранее выпущенные или скрывшиеся за границу сразу после восстания 1935 года, уже сражались в интернациональных бригадах[42]. Он вернулся к столу. – Моя сестра примерно вашего возраста: ей девятнадцать лет… Бедняжка строила планы, как мы будем проводить время, когда я выйду из тюрьмы. С каждым свиданием она расширяла свои проекты: морские купания на Копакабане, экскурсии, прогулки по городу… Я, знаете, люблю ходить пешком… Моя сестра очень ко мне привязана… Мариана не удивилась. Еще бы, какая сестра не полюбила бы ласкового, всегда улыбающегося брата, чудесного малого с такими умными глазами? Он должен быть хорошим братом, одним из тех, кому можно доверить самые интимные секреты и быть уверенным в том, что он все поймет. – Бедненькая… Сколько времени она ждала меня, а увидела всего на несколько часов. Эти собаки-полицейские выпустили нас на рассвете, а уже на другой день пришлось скрыться… Я обещал ей скоро вернуться, но знаю, что она мне не поверила. Может быть, и у товарища Жоана есть где-нибудь сестра, обеспокоенная тем, что столько времени его не видит?.. Почему Мариана, вспоминая о нем, так ощущает его одиночество, его усталость? Аполинарио еще шире улыбнулся, как бы желая отвлечь Мариану от охвативших ее дум. – Затруднение в том, что она совершенно не разбирается в политике. Но она верит в меня, и это помогает ей переносить разлуку и утешать мать… Старушка крепкая, только одно ее очень огорчает: мое изгнание из армии. Я ведь, знаете, из военной семьи: дед вступил в армию солдатом, а умер полковником в войне против Росаса[43], отец тоже был офицером – он умер, служа на границе в Мато-Гроссо, где я и родился. Старушка гордилась военной формой и остро переживала мое отчисление из армии. Тюрьма, процесс – все это не поколебало ее веры в меня; мы из бедной семьи, и она начинает понимать, впрочем немного медленно, что правда на нашей стороне. Но мое увольнение из армии было для нее как острый нож… Пришлось признаться ей, куда я сейчас отправляюсь… – Он повернулся к Мариане. – А для вас это секрет? Если да, я вам ничего не скажу… – Это легко отгадать… – улыбнулась Мариана. – Всем известно, где находятся ранее освободившиеся офицеры… И мы гордимся ими… – Она догадалась, что в конверте, который ей поручили передать, были поддельные документы для заграницы. – Да, как раз там и начинается грандиозное сражение между пролетариатом и капитализмом. Я доволен, что еду. После двух лет за решеткой, когда я видел лишь надзирателей и полицейских агентов, приятно будет очутиться в огне сражения… Еще мальчишкой я мечтал о тех краях, – то были мечты, порожденные чтением и кино! Цыгане, апельсиновые рощи в цвету, гитары и кастаньеты… – А теперь выстрелы и пушки… – Сволочи!.. Но мы их проучим… – Он усмехнулся. Никто из них не произнес слова «Испания», но оно горело в сердце. – Пролетарский интернационализм, – сказал он, – это великое и благородное понятие. Реакция больше всего ненавидит солидарность между рабочими разных стран. Поэтому специальная полиция так пытала и мучила Бергера и его жену[44]. Реакционеры понимают, что в конечном счете эта международная солидарность погубит их… Я чувствую, что мое присутствие там словно скажет испанцам: «Трудящиеся Бразилии здесь, рядом с вами! Времена сейчас у нас тяжелые, в тюрьмах томятся тысячи заключенных, наш Престес – в строгом одиночном заключении, изолированный от своих товарищей, жена его выслана в Германию[45]. Но, несмотря на все наши трудности, мы думаем о вас и о значении вашей борьбы…» Вы знаете, что там даже есть улицы, носящие имя Престеса? Когда я думаю, что нас по всему свету миллионы и что существует Советский Союз, я чувствую себя просто счастливым. Это и было моим лекарством от уныния, когда я сидел в тюрьме. Так бывало в дни свиданий: мы виделись с родными, узнавали вести от друзей, от тех, кто живет там, за стенами тюрьмы… Это самый тяжелый день в заключении, хотя он, вместе с тем, и самый радостный… Диалектика, как видите… В такие дни, когда мне угрожало уныние, я думал о Советском Союзе, который мне дорог, как родная мать, о народе, строящем мир радости, и сразу приходил в себя и принимался лечить от уныния других… Хорошее лекарство… Мариана могла бы слушать его всю ночь. Однако нужно было идти, мать может случайно проснуться, будет беспокоиться, расплачется от долгого ожидания, а ведь этого можно избежать… – Счастливого пути, товарищ. Всего наилучшего! Поддержите честь Бразилии и нашей партии. – Думаю, что мне не следует вас провожать: товарищи советовали выходить как можно реже. Но, если это не секрет, я хотел бы узнать ваше имя и адрес, чтобы послать вам открытку. Вы, быть может, последний товарищ из партии, которого я вижу в Бразилии… – Лучше я дам вам адрес другого лица. А на конверте укажите: «для Марианы». – Она сказала ему адрес, он повторил его два-три раза, чтобы лучше запомнить. Затем проводил ее до лифта, и там они обменялись рукопожатием. Мариана с нежностью сказала ему: – Привет всем нашим солдатам, находящимся там, и той земле… – Прощайте. Где-то на башне часы пробили полночь. Мариана, очутившись на улице, подняла голову и отыскала освещенное окно на шестом этаже. Различила голову Аполинарио, его руку; он приветливо махал ей на прощанье. Встав под фонарем, чтобы Аполинарио мог лучше ее видеть, она приложила руку к виску, как бы отдавая ему воинское приветствие. Потом зашагала по полупустынной авениде Сан-Жоан. Она чувствовала, как тропическая ночь окутывает ее своими запахами, как сияют над нею звезды. Так завершился последний день октября – день ее рождения, день волнений и радости: в этом высоком улыбающемся офицере, закаленном в борьбе и в мрачном тюремном заключении, она нашла брата. Но только ли брата нашла она сегодня? Почему она тут же подумала о товарище Жоане, о его порванной рубашке, о его исхудавшем лице, о его глазах, таящих пламя, о его тяжелом одиночестве? 7
Вернувшись в комнату, Аполинарио закрыл окна, опустил шторы и погасил свет, за исключением маленькой лампы под абажуром на ночном столике, а затем вынул из пакета удостоверение личности. Он внимательно изучил его и улыбнулся. Отлично! Теперь его имя Арлиндо да Силвейра, он – журналист. Ему нужно приспособиться к этому новому облику, в котором он будет пребывать несколько дней, пока не пересечет уругвайскую границу. Потом – пароход в Испанию, а далее… кто знает, какие дороги в мире придется еще пройти? Ему даже и не хотелось об этом думать; его единственным стремлением сейчас было поскорее добраться до Испании, получить назначение из Мадрида на боевой пост, командовать солдатами, атаковать фашистов, отомстить им и за поражение бразильского восстания 1935 года, ибо борьба во всем мире одна… Прежде чем выбросить конверт в корзину, он осмотрел его и увидел внутри крохотный клочок бумаги, на котором было что-то написано. Прочитав записку, он узнал мелкий почерк товарища Жоана (Аполинарио познакомился с ним в Рио, несколько лет назад): «Отправляйся завтра же в Сантос, остановись в отеле «Дойс мундос», туда тебе перед отъездом доставят деньги и сообщат явку в Порто-Алегре. Счастливого пути!» Он скатал этот клочок папиросной бумаги в шарик и поджег его спичкой. Потягивая минеральную воду, он вспомнил, как один случай в тюрьме научил его не держать при себе ни одной из таких компрометирующих бумажек. На очередном свидании сестра арестованного товарища передала ему записку, которую он тут же спрятал в подкладке брюк. Позднее он прочел ее в камере, однако не уничтожил сразу, а сунул в карман: записка была важной, он хотел ее потом перечитать еще раз. Но, как иногда случалось после еженедельных свиданий с родственниками, полицейские агенты начали обыскивать заключенных. Его камера была первой в большой галерее, и он даже не успел вытащить бумажку из кармана. К нему зашел низкорослый субъект с отталкивающим лицом и грязными руками. Аполинарио знал этого агента, тот не раз сопровождал его при переездах из центральной тюрьмы на допрос в полицию. – Руки вверх! Я тебя обыщу… – сказал агент. Аполинарио повиновался, но ни на секунду не переставал думать, как выйти из положения. Он знал, что у полицейских он слывет человеком смелым и способным на все, – даже сам военный министр выделил его, охарактеризовав как отчаянного. Подняв руки, он с угрожающим видом подошел вплотную к агенту и, прежде чем тот до него дотронулся, сказал: – У меня в правом кармане бумага. Если ты ее возьмешь или скажешь о ней хоть слово, в один прекрасный день я тебя убью. Где бы ты ни был, я найду тебя, и этот день станет последним днем твоей жизни. Но если ты не тронешь бумагу, может быть, это когда-нибудь спасет тебе жизнь. Как знать? – он решительно и угрожающе посмотрел в упор на агента. На секунду Аполинарио показалось, будто он повис в воздухе. Он видел, что полицейский как бы взвешивал то, что услышал, затем, ничего не сказав, медленно отступил, подошел к койке, для видимости приподнял одеяло, пошарил по камере, но к заключенному не прикоснулся. И только когда агент вышел, Аполинарио вздохнул свободно. Он тут же проглотил бумажку и с тех пор никогда не хранил, хотя бы на несколько минут, ни одной из этих тонких полосок, на которых товарищи из партийного руководства писали свои директивы. Он снова открыл окно и взглянул на заснувшую улицу. Сверху доносилась шумная, веселая музыка – на последнем этаже помещалось кабарэ. Аполинарио попытался различить в ночной тьме очертания города. Он не знал Сан-Пауло, проезжал через него совсем маленьким, когда семья после смерти отца перебиралась из Мато-Гроссо в Рио. Но он не познакомился с городом ближе и теперь. Приехав утром, он провел весь день в отеле, не выходя на улицу, все время ожидая связного от комитета партии. Он сказал портье, что у него грипп, попросил принести аспирина с кофеином и подать обед в номер. Жаль, что нельзя было походить по улицам Сан-Пауло, посмотреть на его небоскребы, оживленное уличное движение, поговорить с местными рабочими. Теперь связная побывала у него, и он мог выйти, но стояла поздняя ночь, а Аполинарио неспособен был восхищаться зданиями и улицами, магазинами и фабриками, если они не заполнены народом и в них не ощущается пульса жизни. Пейзажи никогда не могли надолго привлечь его внимание; в живописи он не любил натюрмортов. От Сан-Пауло у него останется только одно воспоминание – Мариана. Симпатичный товарищ, такая простая и скромная а своей безыскусной красоте… Сестра у него тоже была красивой, но она показалась бы хрупкой куколкой рядом с Марианой, в которой чувствовалась скрытая сила, какая-то спокойная уверенность. Бедная сестра! Глаза у нее распухнут от слез, в своих мыслях она будет всюду следовать за Аполинарио, тревожиться за его участь. «Не моя вина во всем этом, сестренка. Виновата кучка эгоистов и подлецов, завладевших деньгами и всеми благами жизни… Не бойся, сестренка, я очень скоро вернусь. Пора покончить с этими скверными и жестокими людьми, с этими эксплуататорами рода человеческого. Вот тогда, по возвращении, мы отправимся на пляж, побродим по городу, и я буду рассказывать тебе разные интересные истории…» Внезапно его охватила тоска, ему стало жаль расставаться не только со своими близкими, но и со всей Бразилией. Пройдет несколько дней, и он очутится в других краях. Кто знает, когда он сможет вернуться? Увидит ли он еще раз это звездное небо, этот разноплеменный народ, услышит ли он эту негритянскую музыку, полную страсти и своеобразного ритма? Кто знает, не останется ли он на испанской земле, сраженный пулей фашиста? Его не пугала смерть, но им все больше овладевала тоска, проникавшая в душу подобно стальному острию кинжала. Его блуждающий взгляд еще раз остановился на уличном фонаре, под которым Мариана на мгновение задержалась, чтобы приветствовать его. Он опять представил ее отдающей воинское приветствие, улыбнулся самому себе и снова почувствовал внутреннюю радость. Этот жест девушки напомнил, насколько прекрасна миссия, доверенная ему партией: бразильские рабочие посылали его на помощь испанским рабочим. Он не будет вдали от Бразилии, когда окажется в окопах Теруэля[46]. Наоборот, весь этот бразильский мир, этот мир таинственных лесов и рек, мир угнетенных людей, борющихся за свое освобождение, мир людей всех цветов кожи – от светлого, как пшеница, до черного, как уголь, – весь этот мир, вся Бразилия будет за него, он вместит в себя всю ее: марианы и жоаны всей Бразилии поддержат его руку, поднявшую винтовку против фалангистов Франко, против фашистов Муссолини, против нацистов Гитлера. Отзвуки музыки терялись где-то в ночи. Он отошел от окна, снял телефонную трубку. Послышался сонный голос портье. – Простите, в котором часу отправляется первый автобус на Сантос? – В шесть… – сразу ответил портье, привыкший к таким вопросам. – Будьте любезны разбудить меня в пять… Он подошел еще раз к окну; если когда-нибудь он вернется сюда, то проведет в Сан-Пауло, по крайней мере, неделю, гуляя по улицам, беседуя с людьми. «Я привезу тебя сюда, сестренка, мы будем знакомиться с этим городом, открывая тенистые уголки садов, где старенькие бабушки гуляют с маленькими внучатами, и оживленные рабочие кварталы, где перемешаны итальянцы, поляки, венгры, испанцы, португальцы, негры и мулаты, где продолжается борьба. Я приду к Мариане и скажу: «Товарищ, твой солдат исполнил свой долг!» 8
Товарищ Жоан толкнул незапертую дверь маленького домика в пригороде. Зажег свет в комнате. Зе-Педро, небритый, спал свернувшись на маленькой кушетке. Карлосу пришлось растянуться на полу, подстелив под голову непромокаемый плащ, и Жоан подумал, взглянув на него, как он еще молод: спящий, он казался подростком. Жоан не стал сразу будить их, направился на кухню, открыл в умывальнике кран и подставил голову под струю холодной воды. Так он обычно прогонял сон и усталость. На плите он увидел кофейник, приготовленный Жозефой, подругой Зе-Педро. Она никогда не забывала приготовить и оставить им кофе, – его нужно было только разогреть. Жоан зажег спиртовку, поставил на нее кофейник. Только после этого он пошел будить товарищей. Карлос улыбался во сне; это был светлый метис – сын итальянца и негритянки. Зе-Педро был тоже метис, но более смешанной крови. Выходец из крестьянской семьи, он бросил работу на сахарных плантациях на северо-востоке страны, чтобы вступить солдатом в армию, где научился читать и писать, а потом примкнул к коммунистам. По окончании военной службы он поступил рабочим на обувную фабрику, однако вскоре целиком втянулся в партийную жизнь и после долгого заключения в тюрьме перешел на нелегальное положение. Он объездил весь северо-восток, выполняя поручения партии, а под конец был направлен в Сан-Пауло. Это было после событий 1935 года, когда его разыскивала полиция нескольких северо-восточных штатов. Теперь они вчетвером составляли секретариат районного комитета Сан-Пауло – трое здесь присутствующих и Руйво. Это был новый секретариат из более молодых людей взамен тех, которых недавно арестовали. Пока товарищи протирали глаза и потягивались, Жоан вернулся на кухню, разлил кофе по чашкам, достал сахарницу. Поставил все это на жестяной поднос и принес в комнату. Зе Педро спросил: – Ну, как? Сидя рядом друг с другом, они пили кофе. Карлос предусмотрительно запер дверь на ключ. – Эти люди ничего не хотят… Исключительная любезность, политическое мудрствование, недомолвки, чтобы сказать любые глупости под видом самых страшных секретов. Таков этот сеньор депутат Артур Карнейро-да-Роша… Он рассуждает об армии и то и се, будто не знает, что почти все генералы связаны с Жетулио или с интегралистами. – А что он сказал насчет союза армандистов[47] и зеамериканистов[48]? Об объединении антифашистских сил? – Ничего. Уклонился от ответа; а когда услышал мои слова о том, что следовало бы отстаивать демократические свободы, раздав рабочим оружие, то чуть не задохнулся… Никогда мне не приходилось видеть такого страха перед народом. Они не согласятся ни на какой союз, ни при каких условиях не пойдут на объединение. Ни на минуту мы не можем рассчитывать на этих так называемых демократов. Они знают, что переворот близок, но ничего практически не делают, да и ничего не сделают, чтобы воспрепятствовать ему. – Абсолютно ничего, – согласился с ним Карлос. – Мы сегодня получили известия от Витора из Баии. Он говорил там с людьми Зе Америко. У губернатора Баии есть много оружия, есть друзья среди военных, и сам он пользуется влиянием в армии. Но когда Витор предложил принять участие в борьбе, он лицемерно ответил: «Не хочу проливать кровь народа…» И это один из тех, кто после переворота, конечно, не останется у власти: Жетулио наверняка выкинет его вон. – Это классовая проблема… – сказал Зе-Педро. – Они знают, что переворот близок, знают, что у них будет профашистское правительство, однако предпочитают кого угодно, даже интегралистов, представителям народа. Они боятся оружия в руках народа. В глубине души все они надеются так или иначе устроиться после переворота… – Армандисты стряпают заговор, – объявил Жоан. – Забавно, что этот депутат разговаривал со мною с видом превосходства, как человек, у которого есть припрятанный козырь, неизвестный другому. А я отлично знал, что этот козырь – путч, который они сейчас подготавливают. Но у них нет людей, кроме разве полудюжины настроенных против Жетулио офицеров… Нет людей, нет времени. Жетулио тянуть с переворотом не будет… – Нам надо подготовиться, чтобы не быть застигнутыми врасплох. – Карлос согнулся на стуле, внимательно рассматривая свои руки. – Не знаю, что думает национальное руководство, но я лично считаю переговоры с этой публикой законченными. Как уже стало известно в Рио-Гранде-до-Сул, сам Армандо сказал Флорес-да-Кунье[49] по поводу нашего предложения, что о едином фронте с Зе Америко и думать нечего… О положении в Баие мы уже знаем от Витора… В Рио они от нас прячутся. А здесь… – Нужно сообщить в Рио и ждать решений. Но мы тоже можем сказать свое слово… Мы могли бы организовать забастовочное движение. – Не знаю… – отозвался Зе-Педро. – Для этого партия должна была бы провести большую работу. Неизвестно, как будут реагировать низы. Группа Сакилы ведет систематическую кампанию против партийного руководства. Этого типа нельзя больше оставлять в партии. Он – явный троцкист и окружил себя всем, что только есть худшего в партии, самыми мелкобуржуазными элементами; они проводят подрывную работу, используют благоприятные для них слухи… – Руйво отправился в Рио обсудить все это… – Если мы не очистим партию от таких субъектов, они нам принесут большой вред… – Они что-то готовят. У меня впечатление, что среди них есть люди, непосредственно связанные с полицией. Провал Рикардо, Орландо и других мне представляется вовсе не случайным. Все они, несомненно, были преданы именно этой шайкой… – Я тоже так думаю. Однако мы не можем ожидать ликвидации этой группы, чтобы организовать сопротивление перевороту. Нужно начинать немедленно… Я вот что думаю: не выпустить ли нам листовку по этому вопросу, чтобы быстро распространить ее по низовым организациям? – Что ж, дело хорошее. – Мне кажется, мы могли бы провести несколько собраний актива хотя бы в ячейках основных предприятий и усилить нашу пропаганду, чтобы призвать массы к бдительности. Надписи на стенах, раздача на улице листовок, летучие митинги в местах наибольшего скопления народа… – прервал его Зе-Педро. – Все это как будто неплохо. Но ты не находишь, что для обсуждения этого вопроса нужно в самые ближайшие дни созвать собрание. Ну, хотя бы послезавтра… Мы с Карлосом подумаем, наметим конкретный план. А сейчас перейдем к текущим делам. – Ладно. Послезавтра. Но где? Только не тут, здесь мы уж слишком часто собирались. А с троцкистами, которые орудуют против нас, нужно быть очень осторожными. Порешили, где собраться, назначили час. Жоан спросил Зе-Педро: – У тебя есть деньги для нашего друга – на билет и путевые расходы? Сейчас он уже, по-видимому, получил документы и завтра выезжает в Сантос. Я думаю послать Мариану отвезти ему туда деньги. Лучше пусть он будет там, чем здесь: полиция может установить его местонахождение и тогда – прощай, поездка в Испанию!.. – С деньгами у нас тоже неблагополучно. Этот доктор, которого мы выбрали казначеем, или отъявленный лодырь, или просто мошенник. Он мне заявил, что никаких денег пока нет, что сочувствующие якобы не платят взносы, что финансы ячеек истощены… Когда я прижал его к стене, он обещал послезавтра достать деньги… – Он из людей Сакилы, – вмешался Карлос. – Не сомневаюсь, что все его слова – ложь: он просто проматывает деньги партии. Этот тип мне никогда не нравился. Зря мы его допустили к нашим финансам. Я уже давно считаю, что он живет на деньги партии. Пациентов у него нет, врач он никудышный. Нигде не служит. А живет богато, великолепная квартира, хорошо одевается. Надо разобраться в этом деле. – Я сам завтра пойду за деньгами, – заявил Жоан. – И пусть он лучше отдаст их добром, а не то придется ему держать перед нами ответ. Я уже говорил с некоторыми секретарями ячеек и знаю, сколько денег поступило от низовых организаций… Затем они начали обсуждать вопрос о подпольной партийной типографии. Зе-Педро настаивал на том, что необходимо срочно подыскать другое помещение и заменить типографа; нынешний – ставленник Сакилы, он из его людей: бывший рабочий типографии той самой газеты, редактором которой был этот троцкист. Найти нового товарища, который бы знал типографское дело, мог один справиться с маленьким печатным станком и согласился бы изолироваться от всего мира, оставшись в уединении со своими машинами и рукописями, – было нелегкой задачей. И все-таки достать такого человека можно. Но где найти дом, в котором можно спокойно разместить типографию? – Это действительно трудно, – сказал Зе-Педро. – Трудно, но необходимо. Иначе эта сволочь может в один прекрасный день выдать типографию полиции. – Надо этим заняться немедленно. С завтрашнего дня будем искать дом и квалифицированного человека, которому можно оказать доверие. Карлос пусть займется подысканием человека, пусть побывает в ячейках газеты, типографии. А мы с Зе-Педро будем искать подходящий дом. Через оконные жалюзи начал пробиваться дневной свет. Зе-Педро погасил лампу; оставшись в полутьме, они инстинктивно понизили голоса. – Пора выходить… Еще немного и начнут просыпаться люди. – Жоан поднялся. – Я выйду первым, Карлос. Попробуй составить листовку насчет переворота, чтобы послезавтра мы могли уже ее обсудить. – Он пожал им руки и, прежде чем выйти, сказал: – Я сегодня познакомился с Марианой. Забавно, что я попал на ее день рождения. Мне понравилась ее мать – смелая старуха. – Она сама очень хорошая девушка, – отозвался Зе-Педро. Жоан зажег сигарету, он был уже у двери. – Красивые глаза у нее… Карлос засмеялся, как бы услышав нечто совершенно неожиданное. – С каких пор ты начал замечать, какие глаза у товарищей? – Ну, вот еще, никаких глаз я не замечал… – проворчал Жоан. – Ага, смутился… Что ж, если будет свадьба, я хочу быть посаженным отцом! – Сейчас не время думать о таких вещах. Когда Жоан вышел на пустынную улицу, яркий утренний свет заставил его зажмурить глаза. Он зашагал к станции. Пожалуй, за сорок минут пути удастся немного поспать в поезде. В вагоне третьего класса можно откинуться к деревянной спинке скамьи и вздремнуть. А хорошо бы положить голову на плечо Марианы и отдохнуть под нежным взглядом ее черных глаз. Птичка на дереве приветствовала веселой песней первый день ноября, радуясь только что родившемуся свету этого дня. Жоан подходил к станции. 9
Еще издали, подъезжая на трамвае к луна-парку, они увидели бесчисленные огни, озаряющие площадь веселым, ярким светом. Вращающиеся на гигантском колесе разноцветные огни – лазурные, зеленые, красные – создавали такое праздничное оформление, что ночь со своими опасностями и страхами сразу будто отступила. Мануэла смеялась, подняв руки как бы для аплодисментов, – было похоже, что она снова стала веселой девочкой прошлых дней, менее печальных и менее суровых. Она не захлопала в ладоши, но широко улыбнулась – эта улыбка осветила ее застенчивое, милое личико. Обычно Мануэла как бы прятала ее в уголках рта, чуть ли не прося извинения за то, что улыбается, когда кругом все так грустно. Лукас, который следил за ее взглядом и увидел эту необычную, радостную улыбку, ласково положил ей руку на плечо. – Красиво, правда? Мануэла еще шире открыла свои большие глаза и взглянула на него, прежде чем ответить. Бронзовое лицо Лукаса склонилось к ней, и она снова залюбовалась силой и решимостью, исходившими от этих почти всегда суровых, будто высеченных из камня черт. Но когда Лукас разрешал себе принять добрый вид, тогда он казался простодушным. – Прекрасно… – ответила она. На мгновение она задержала взор, вглядываясь в брата: Лукас казался ей слишком крупным для всего, что его окружало. Она посмотрела на его старый синий костюм, который сидел на нем будто с чужого плеча: он был ему короток, и мощные руки юноши, мускулистые и волосатые, вылезали из пиджака. Воротничок рубашки был потрепан, каблуки башмаков стоптаны, а колени на брюках залоснились. На скамейке трамвая сидели и остальные члены семьи: старики – дед и бабушка, – мрачная тетя Эрнестина, похожая на привидение, и, наконец, дети, своей возней привлекавшие внимание всех пассажиров. Мануэла окинула взглядом семью – в ее глазах еще отражались огни луна-парка, увиденного с поворота трамвайной линии, – и она себе представила брата в тяжелых оковах, его, который родился, как ей думалось, для больших дел и беззаботной жизни. И снова ее охватила печаль их дома в предместье, развеянная было огнями парка, отсвеченными небом, таким синим после дождя. На миг она снова почувствовала ненавистный затхлый запах дома, ощутила всю серость своего существования. Улыбка почти сошла с ее лица, и большие светло-голубые глаза даже несколько сузились. Но всего лишь на какое-то мгновение скрылась радость возбуждающей новизны, бьющей ключом жизни. Она снова смотрела на огни парка, теперь уже полностью открывшегося перед ней, ее захватили доносившиеся оттуда крики, отдельные восклицания, неясный шум толпы, вливающейся через большие центральные ворота, все это пламя жизни, настолько сильное, что от будничного холода, в котором прозябало ее юное сердце, не осталось и следа. Хотя Лукас тоже глядел на огни парка, но его рассеянный взгляд был устремлен дальше, за облака, даже дальше звездного неба: он был охвачен честолюбивыми мечтами о будущем. Мануэла повернулась к брату, но он даже не посмотрел на нее. Мысли Лукаса в этот момент были так далеки, что никто не мог бы вернуть его к печальной действительности их жизни. Это было не под силу и Мануэле с ее хрупким телом, похожим на тростинку, и с исполненной грусти душой. Никто не мог сдержать честолюбие Лукаса, она это хорошо знала. Она все больше восхищалась им, но ее все больше охватывало какое-то неясное чувство страха. Перед чем – она и сама не могла сказать; быть может, она боялась, что брат уйдет и оставит ее одну со стариками – дедом и бабушкой, – вечно ворчащей тетей Эрнестиной и до утомления шумными детьми. Оставит ее вечно влачить эту жизнь, без всякой надежды на то, что и ей когда-нибудь удастся отсюда вырваться. Пока Лукас со своей силой и грубым добродушием оставался в семье, Мануэла была уверена, что в старом доме еще теплится жизнь, что не все потеряно, еще есть надежда. Но нужно, чтобы Лукас их не покинул, чтобы, устав от них, он не ушел один на поиски своей судьбы, – иначе будет утрачена последняя надежда. Плаксивый голос тети Эрнестины отвлек Мануэлу от этих мыслей и вернул к действительности: – Лукас! Лукас! Пора сходить. Дети уже были на середине улицы, когда старики осторожно, потихоньку, еще только сходили с трамвая. Мануэла дотронулась до руки брата. – Приехали, Лукас! Молодой человек вздрогнул. Когда он встал, то оказался высокого роста и атлетического телосложения, с широкими плечами и сильными руками. Он поддержал сестру, пропустив ее вперед, затем помог тете Эрнестине, застрявшей на подножке трамвая. Мануэла выпрямилась; она тоже была высокой, но тонкой и хрупкой; волосы ее падали на плечи, на нежных руках виднелись голубые жилки; эти руки были так бледны, будто не знали солнца. Когда она сошла, какой-то человек, ожидавший с приятелем трамвая, чтобы отправиться в бар и скоротать там ночь, с радостным изумлением воскликнул: – Вот это девушка! Похожа на старинную фарфоровую фигурку… Какая красотка!.. Мануэла услышала, но не обернулась, хотя ей и хотелось узнать, от кого исходила похвала. А приятели продолжали свои наблюдения. – Да вся семья, видимо, только что сбежала из музея… Ты только взгляни на эту потешную старуху в шляпе с цветами, на накидку старика, сохранившуюся со времен империи. А парень… В этом тесном костюмчике он похож на паяца. Паяц… Мануэла посмотрела на Лукаса, который нес одного из мальчиков, тащил за руку девочку и вместе с тем наблюдал за стариками, растерявшимися среди этого движения. Паяц… Для нее не было в мире более красивого человека, чем ее брат, даже в этом коротком изношенном костюме, в стоптанных башмаках и обтрепанной рубашке. Нет, он не паяц! И она повернулась к этим злословящим по их адресу молодым людям, в голосе ее зазвучал металл, который иногда, в минуту возбуждения свойственен тем, кто обычно держится скромно: – Придет время, вы еще будете лизать пятки этому паяцу! Один из приятелей захохотал, но другой с еще большим интересом уставился на Мануэлу, которая напоминала ему старинную миниатюру: прозрачное розовое лицо, тонкая кожа, большие, казавшиеся испуганными глаза, рот с бледными губами. «Какая прелесть!» – подумал он, и ему захотелось попросить у нее прощения. Однако Мануэла уже пересекла улицу, ведя младшего племянника к центральному входу в луна-парк, откуда дед, бабушка и тетя Эрнестина уже звали ее раздраженными голосами. 10
Мануэла не сомневалась, что именно музыка как бы управляла всеми огнями и всем движением в луна-парке. Семья остановилась у зеленой деревянной ограды, окружавшей карусель; все пришли в восхищение от пианолы, которую услышали впервые в жизни. Даже дети, возбужденные до предела зрелищем вращающихся лошадей, тигров, лебедей, драконов и сирен с сидящими на них ребятами, молчаливо созерцали музыкальный ящик, из которого разливалась забытая старинная мелодия, романтичная и волнующая. Лукас держал билеты, купленные им для племянников и Мануэлы – кому-то ведь нужно было присмотреть за самым маленьким. «Говорит ли ему что-нибудь эта любовная мелодия?» – спрашивала себя Мануэла. Лукас никогда не рассказывал ей о своих возлюбленных. Можно было подумать, что у него не оставалось времени на личную жизнь. Еще меньше могла бы рассказать об этом сама Мануэла. Но хотя она и не хранила в сердце ничьего близкого образа, все же почувствовала всю глубину отчаяния в рыдающей мелодии музыки. Стоявшая возле пианолы женщина в костюме балерины пела чуть хриплым голосом: Не говорю тебе «прощай», Хоть ты уходишь навсегда. Не говорю тебе «прощай», Хотя «прощай» ты мне сказала… Когда-то, кто знает, сколько лет тому назад, кто-то покинул композитора. А теперь его безнадежный любовный призыв глубоко взволновал нетронутое сердце Мануэлы. «Ощущает ли волнение Лукас?» – спрашивала она себя. Она хотела бы знать все, что касается жизни брата, узнать, что с ним происходит вне дома, когда он находится в магазине – восемь часов в день – или на улице, когда он выходит по вечерам, спасаясь от скуки семейного очага. Нежно заботясь о нем, она угадывала его чувства, мечты и желания. Однако он никогда не рассказывал в семье о своих делах, лишь один-два раза открылся, причем только Мануэле, и рассказал о своих грандиозных, но еще туманных планах, о том, что он с нетерпением ждет возможности проявить себя. Он не скрывал ненависти, которую питал к мануфактурному магазину, к хозяевам, к другим приказчикам, а в особенности к покупателям – этой сволочи, как он их называл. – Когда-нибудь брошу все это и отправлюсь наживать деньги, – сказал он, и глаза его стали еще темнее, их как бы заволокла завеса честолюбия. Он упорно повторял: – Я должен стать богатым, Мануэля. Но только богатым по-настоящему, у меня должны быть банки, особняки, слуги, автомобили – все блага жизни. Как бы ни было, что бы ни произошло, – я этого добьюсь! Мануэла понимала, что он говорил так прежде всего потому, что уверенность в будущем переполняла его. Это было больше, чем признание, это было чем-то вроде повторения ранее принятого решения, как будто, рассказывая свои планы Мануэле, он чувствовал еще большую обязанность выполнить их. Она его воодушевляла. Да, в один прекрасный день он станет богатым, будет иметь банки, особняки, автомобили и слуг. И тогда они покинут свой сырой, мрачный дом и в аромате дорогих духов забудут жуткий запах плесени, которым они словно пропитались сами. – Когда я разбогатею, выдам тебя замуж за сказочного принца… – как-то перед уходом сказал он Мануэле и вышел на улицу, обуреваемый своими мечтами и планами, с огнем честолюбия в глазах. Она оставалась дома, обреченная слушать ворчанье бабушки, разговоры деда о хроническом насморке, нескончаемые молитвы и сложные обеты тети Эрнестины, которые она давала святым, – изображения их были развешаны по стенам ее комнаты. Кроме всего этого, Мануэла должна была присматривать за детьми. Иногда ей удавалось уединиться, чтобы помечтать о Лукасе, о его еще дремлющей силе и о сказочном принце, про которого он ей говорил. Встречавшиеся на улице молодые люди поглядывали на нее, некоторые отпускали шутки, говорили комплименты, были и такие, что посылали ей письма с объяснениями в любви, а однажды в сумерках, когда она шла в булочную, какой-то старик сделал ей гнусное предложение. Она не рассердилась даже и на этого старика, который начал свое обращение с того, что назвал ее «моя очаровательная милашка». Но вместе с тем, ей никто не нравился, она никогда не отвечала на приставания или на письма, а что касается циничного старика, то Мануэла посмотрела на него такими удивленными глазами, что он оборвал фразу на полуслове и, пристыженный, удалился. У нее было мало времени на то, чтобы сидеть у окна или разгуливать по улице, и с тех пор, как она ушла со второго курса лицея (со смертью родителей стало невозможным продолжать занятия), она ни в кого не влюблялась. В такие вечера, когда Лукас делился с ней своими мечтами, она долго не могла заснуть. Затхлая сырость дома, грустный вид давно не крашенных стен с осыпающейся штукатуркой, тяжелый запах плесени, от которого она задыхалась, – все это наводило на нее уныние. Ах, если бы сбылись мечты брата, если бы он разбогател!.. Пусть у него будет не так много, как ему хочется. Пусть не будет ни банков, ни особняков, ни автомобилей, ни слуг. Лишь бы у него было немного денег, чтобы они могли переехать в сухую комфортабельную квартиру, поместить старшего мальчика в колледж и нанять прислугу для уборки комнат и мытья посуды… Ведь будь Мануэла религиозна, она подобно тете Эрнестине обещала бы святым все что угодно, лишь бы Лукас хоть чуть-чуть разбогател. Но она уже давно перестала верить в бога – результат чтения некоторых книг, влияние одного из преподавателей лицея, а главным образом монотонности их существования. Иногда она вспоминала этого учителя, которого учащиеся прозвали «вольным мыслителем». Он сам называл себя так на уроках, оживлявшихся дискуссиями и представлявших резкий контраст с другими, скучными и утомительными, занятиями. В памяти Мануэлы осталось воспоминание об этом прекрасном человеке, уже в летах, с начинающими седеть волосами, со звучным голосом, с вечной сигаретой в зубах, с глазами, которые у него обычно были воспалены от бессонных ночей, проведенных в кафе за выпивкой или дома за чтением литературы. Девушки, смеясь, шопотом рассказывали о нем пикантные и любопытные истории: он много пьет, посещает дома терпимости, у него бог весть сколько женщин, и он сочиняет сонеты. Он был заядлым противником церкви и португальцев. Уроки его представляли особую привлекательность для учащихся, потому что он любил спорить и рассказывать всякие истории, не жалея слов и жестов. Его драматические повествования из времен инквизиции приводили Мануэлу в содрогание. Но если ему не удалось внушить ей антипатии к португальцам (учитель приписывал все несчастья Бразилии португальской колонизации, между тем как у Мануэлы были в то время симпатичнейшие соседи португальцы, на редкость хорошие люди), зато он сумел отвлечь ее от церкви и от попов. Возможно, Мануэла была даже некоторое время увлечена им. Она покупала на свои школьные сбережения ежемесячный журнал, печатавший его сонеты, и читала их с волнением влюбленной, стараясь постигнуть примитивную жизненную философию, которую учитель выражал в кое-как зарифмованной стихотворной форме. Она вообразила, что именно ей посвящен сонет, в котором говорилось, что сердце поэта покорено прелестью некоей Маргариты, – в действительности веснушчатой кассирши кабаре. На другой день после опубликования этого сонета, который Мануэла, много раз перечитав, выучила наизусть, она уделила больше времени своей прическе – у нее были пышные, красивые волосы, за которыми она, однако, обычно не следила, просто перевязывая розовой лентой развевавшиеся на ветру непокорные локоны. Она задумала оставить на столе в классной комнате сорванную для него красную розу в благодарность за сонет. Но, придя в лицей, Мануэла узнала, что преподаватель по настоянию некоторых родителей, недовольных его нападками на церковь и португальскую колонию, уволен. Мануэле, известная своей скромностью и примерным поведением, на этот раз взбунтовалась: она вступилась за преподавателя, обозвала встревоженных родителей своих подруг «ханжами», а дирекцию лицея обвинила в тупости. В течение нескольких недель она тщетно пыталась встретить «вольного мыслителя» по дороге в лицей и на обратном пути домой, и ночью засыпала, видя перед собой потрепанное жизнью лицо этого представителя богемы. Она снова вспомнила поэта, когда при свете карусели услышала скорбную музыку пианолы и хриплый голос певицы: Я всегда тебя буду любить, Никого у меня не осталось… Ни один другой мужской образ никогда не владел сердцем Мануэлы. Она выросла в тени мрачного дома, присматривая за стариками и детьми, и не отдавала себе отчета, насколько она стала прекрасна, не видела, какое вожделение затуманивает глаза мужчин, встречавших ее на улице, когда она шла быстрой походкой, прижимаясь к стенам домов. Однако сегодня эта старинная музыка, которую кто-то сочинил, страдая от разлуки с любимой женщиной, наполнила ее сердце желанием любви. Желанием настолько сильным, что ее голубые глаза метнули в пространство горячий и жаждущий ласки взгляд; проходивший мимо элегантный юноша даже остановился. Он, видимо, направлялся к балагану, заинтересовавшись рекламой очаровательной индийской балерины Савараны, исполняющей танец живота. Однако взгляд Мануэлы оказался сильнее – он мгновенно забыл все возбуждающие посулы и его перестала интересовать зазывная реклама, доносившаяся из рупора: – Заходите все! Заходите быстрее! Спектакль начинается! Саварана, индийская Венера, прекраснейшая из прекрасных, убежавшая из гарема раджи, совершенно нагая, исполнит танец живота. Повторяю: совершенно нагая, совершенно нагая! Призывный голос продолжал звучать, рупор увеличивал его силу и страстность. Однако еще сильнее обещанной восточной наготы оказался словно ищущий любви взгляд Мануэлы, который вызвала старинная мелодия: Не говорю тебе «прощай», Моя далекая мечта, Нежная ласка моя. Я всегда тебя буду любить… Карусель остановилась, а вместе с нею замерла и музыка. Мануэла почти бессознательно улыбнулась этому хорошо одетому молодому человеку, глядевшему на нее с восхищением, не меняя позы, которую он принял, когда резко остановился при встрече с ней. Лукас протянул билеты сестре и слегка подтолкнул ее рукой к входу, где негр, одетый в поношенную красную униформу, дружелюбно поглядывал на детей, споривших из-за лошадок. Молодой дипломат Пауло Карнейро-Маседо-да-Роша, прибывший в этот вечер из Буэнос-Айреса, круто повернулся и пошел к карусели. 11
Ей хотелось, танцуя, выйти на крутящийся пол карусели. Как только кони, сирены, лебеди и драконы отправились в путешествие, пианола снова начала наигрывать свою опьяняющую мелодию, и Мануэле захотелось создать под эту музыку танец. Сидя меж крыльев белоснежного лебедя и держа за руку испуганного, но восхищенного племянника, она могла созерцать весь блеск огней парка. Почему бы ей не выйти и не исполнить на карусели танец этих огней? Если бы она надела такой же костюм, какой был на певице, то, несомненно, создала бы танец огней в ритме этой музыки. Пока с головокружительной быстротой вращается карусель, мимо нее проносятся разноцветные огни и неоновая реклама. В начальной школе она выдумывала всевозможные танцевальные па, а в лицее преподаватель гимнастики сказал, что он еще ни у кого не встречал таких способностей, такого призвания к балету, как у Мануэлы. Но сырые стены дома, вечные молитвы тети Эрнестины и хронический насморк деда – все, казалось, погасило огонь призвания Мануэлы. Дети, мчавшиеся завоевывать мир на неукротимых конях, на таинственных драконах, на морских сиренах и кровожадных тиграх, против невидимых свирепых врагов, не в силах были своими возбужденными голосами заглушить старинную музыку пианолы, возобновившую песнь о разлуке: Вернись! Ночь так длинна; Мне грустно без тебя, Моя безмерная любовь… Мануэле так хотелось выйти и потанцевать на карусели, среди лебедей и тигров, драконов и коней, под звуки этой скорбной мелодии. Возможно, она сумела бы тогда навеки сохранить всю волнующую красоту этого вечера: вращающихся огней, переливающихся красками, лиц, быстро проносящихся перед глазами, этой нежной музыки, когда душа и тело полностью отдаются безумию безостановочно кружащейся карусели. Куда она несется, эта карусель, которая со своим удивительным грузом рыб, зверей, лебедей и детей кажется больше поезда, больше парохода, больше самолета? Может быть, ее конечная цель – земля удивительной красоты, где сказочный принц ожидает Мануэлу, чтобы дать ей жизнь, полную безграничного счастья? Правда, Мануэла, если бы ее неожиданно спросили, в чем заключается это счастье, не сумела бы ответить… Но она твердо знала, что на той счастливой земле нет запаха плесени, присущего ее старому дому, изолированному от всего мира, живущему в прошлом. Мануэла мечтала с открытыми глазами. Ее волосы развевались, на бледных тонких губах играла улыбка. Может быть, эта карусель в своем неутомимом беге неслась прямо в будущее? В неудержимо вращающихся огнях, в любовной мелодии музыкального ящика она ощущала иной мир, полный нежности и очарования, который Лукас надеялся найти в деньгах и какой она хотела обрести в своих мечтах. Все больше ею овладевало желание исполнить свой танец – танец, который еще никогда никем не исполнялся, и только Мануэла знала все его па, все его движения. Ей хотелось заскользить в танце, как она это делала в детстве, желая развеселить грустную, больную туберкулезом мать и вызвать улыбку на мрачном лице отца. Сзади доносились чьи-то слова, и понемногу настойчивый шопот начал заглушать мелодию, которую наигрывала пианола. Мужской голос слышался, казалось, издалека, и Мануэла обратила внимание не столько на комплименты своей красоте, сколько на почти неуловимый, какой-то особенный тон, заставляющий предположить, что этот человек живет в совсем другой обстановке, чем та, которая окружает ее в старом сыром доме. То был какой-то особенный голос, подобный старинной музыке пианолы; ей еще больше захотелось танцевать. Мануэла не сразу связала этот чарующий голос с образом юноши, вскочившего, как она увидела, на карусель, когда она уже тронулась. Она, правда, заметила, что он всячески старается сесть к ней поближе, хотя ему для этого пришлось, как ребенку, пристроиться в неудобной позе на тигре с кровожадной мордой и свирепо вытаращенными глазами. Она улыбнулась, ей показалось смешным, что такой элегантный и, несомненно, богатый молодой человек взгромоздился на тигра. Однако она тут же забыла о нем, когда из пианолы вновь раздалась эта чарующая мелодия. Потом голос понемногу стал слышаться все явственнее, – он отвечал ее волнению, был как бы отзвуком ее скромных мечтаний, скрытых желаний, многих ночей, проведенных без сна, когда она лежала с открытыми глазами, устремленными на далекие звезды. Но вот, мало-помалу она стала осознавать значение слов и фраз. Она позволила себе увлечься этим голосом, музыкой, огнями. Ей так хотелось потанцевать! Исполнить танец перед этим юношей, как она еще девочкой плясала перед родителями. Станцевать так, чтобы он радостно ей улыбнулся и зааплодировал… Понемногу у нее созрело определенное желание хоть на мгновение взглянуть на юношу, запомнить его лицо, чтобы потом в одинокие ночи вызывать это лицо в своем воображении. Мануэла была уверена, что никогда больше его не увидит. Ей не удалось запомнить лицо юноши за два-три брошенных украдкой взгляда, а теперь, услышав его зовущий голос, она почувствовала, что хорошо бы улыбнуться ему – не для того, чтобы связать себя каким-либо обещанием, а просто в знак благодарности за то, что он проявил такой явный интерес к ней, пустившись в это сумасшедшее путешествие на карусели, породившее у нее несбыточные мечты и неосуществимые желания. Она повернула голову назад, улыбнулась юноше, всмотрелась в его тонкое лицо и услышала умоляющий голос: – Где мы сможем увидеться? Могу я с вами завтра поговорить? Она не ответила, но он принял ее улыбку за согласие и решил, что это случайное «мелкобуржуазное» приключение будет представлять собой нечто необычное, пикантное в его обыденной жизни в кругу женщин высшего света. Мануэла снова обратила взор на кружащиеся вокруг нее огни. Ах, если можно было бы выразить в танце все, что у нее на сердце, все огромное волнение, которое вызвал у нее этот иллюминованный, полный веселья и жизни парк! Но как это сделать, когда семья ее так далека от всего этого и ее участь – заботиться о стариках и сиротах? Она не могла ожидать, что даже Лукас поймет ее страстную, безнадежную мечту, которую она лелеяла с детского возраста. Возможно, этот юноша, который сейчас что-то нашептывал ей, именно он может ее понять, – ведь и на лице и на одежде его отпечаток другого мира – мира театров, музыки, балета. Возможно, ему она и могла бы рассказать… Но он – всего лишь неизвестный, и завтра, забыв об этой сумасшедшей карусели, он даже не вспомнит о незнакомой девушке: слишком много красивых женщин в его мире. И ее охватывает тоска, она чувствует, что никогда, никогда не будет танцевать, никогда ее ноги не заскользят свободно по сцене в одном из тех танцев, которые она так хорошо умеет придумывать… Ее голубые глаза наполняются слезами. Юноша говорит, карусель замедляет ход. В шуме детских голосов снова возникают призывные слова песни: Я всегда тебя буду любить… Мануэла, все еще возбужденная, поднимается, ищет взглядом других племянников – младшего она держит за руку. И слышит, как Пауло говорит ей: – Вот они, детишки. И, действительно, дети находятся рядом с юношей; где только он успел достать шоколад, которым купил их молчаливое соучастие? Мануэла подносит руку к глазам, в них еще мелькают вращающиеся огни, но желание танцевать у нее уже пропало. Пауло спрашивает: – Можно мне вас проводить? – и участливо добавляет: – Вам грустно? Только потому, что он задал этот последний вопрос, она не прогнала его одним из своих резких выражений, свойственных скромницам. Она только сказала: – Нет. Простите, я тут со всей семьей… Он дал ей пройти вперед. Лукас ждал ее у выхода с карусели. «Очаровательна! – подумал Пауло. – Должно быть божественно невинна, способна на беспредельную нежность. А это как раз то, что мне сейчас нужно». И прежде чем она со своей семьей исчезла в сутолоке парка, бывший второй секретарь бразильского посольства в Боготе бросился вперед, готовый сопровождать ее хотя бы на край света, – даже если бы это означало поездку до дальнего пригорода в неудобном трамвае, среди толстых потных матрон и противных плачущих ребятишек… 12
Самолет международной линии приземлился на аэродроме Сан-Пауло под вечер. Но Пауло не достал такси и ему пришлось ехать в автобусе авиационной компании, а когда он, наконец, прибыл домой, Артур уже уехал на прием к Коста-Вале. Слуга подал ему холодный обед, спросил, не поедет ли и он туда же. – Нет, не поеду. Если бы я поехал, мое появление вызвало бы, как пишут светские хроникеры, «экстрасенсацию»! А я предпочитаю ее избежать. Лучше пойду прогуляюсь по городу. Сидя в баре, где он укрылся во время дождя, Пауло почувствовал искушение при виде оживленного движения толпы в соседнем луна-парке. Он, наверняка, с детских лет не был ни в одном из таких мест. Он привык избегать суеты, соприкосновения с толпой, с этим миром труда и мелких забот. Жизнь его проходила в другом мире, где не чувствовалось запаха трудового пота, где разговоры никогда не касались куска хлеба и тяжелой работы. Эти другие миры – мир мелкой буржуазии и мир пролетариата, которые Пауло объединял под общим названием «беднота», его не соблазняли и не интересовали. Он смотрел на них с несколько ироническим презрением, без ненависти, но и без какой-либо симпатии. Презрение с оттенком сострадания – таково было его чувство по отношению ко всем этим людям, смысл существования которых Пауло даже не смог бы себе объяснить. На философском факультете Пауло сблизился только с немногими студентами, принадлежавшими, как и он сам, к «высшему обществу». С другими он не считался, и те прозвали его гордецом и хамом. Девушки, проявлявшие интерес к его строгой английской элегантности, благородному происхождению и приписывавшимся ему литературным способностям, особенно не прощали Пауло вежливого пренебрежения к ним. Один из его коллег по факультету, некий Жак, претендовавший на роль студенческого лидера, так однажды охарактеризовал его перед однокурсниками: – Это просто слизняк… Скользкий… И лицо такое, будто он съел какую-то гадость и его вот-вот стошнит. Враждебность большинства сверстников мало беспокоила Пауло. Он не обращал на нее внимания. Его натуре был свойственен какой-то холодный расчет, и наряду с этим он не мог противиться некоторым импульсам, мгновенным увлечениям, которые меняли его самые расчетливые и взвешенные поступки. И вот, неспособность относиться к чему бы то ни было серьезно, оценивать что-либо по достоинству, дилетантство, унаследованное им от отца, внезапные колебания, страх перед неожиданными потрясениями, боязнь бедности, которую он считал жалкой и унизительной, – тоже унаследованная от отца, – все это вместе взятое и составляло его внутреннюю сущность. Пауло представлял собою сочетание блестящего светского кавалера, получившего «изысканное воспитание», как писали в газетах хроникеры салонной жизни, и забулдыги, способного пить целыми сутками и в пьяном виде совершать самые непристойные поступки. Политическое положение отца и принадлежность к старинному роду помогли ему уже с юношеских лет познакомиться и общаться с людьми, руководящими жизнью страны, – с банкирами, губернаторами штатов, министрами, крупными помещиками, а также с литераторами и иностранными послами. Вначале думали, что он посвятит себя литературе: несколько его поэм, крайне эгоцентрических по содержанию и написанных в лишенном всякой мелодичности размере, были опубликованы в литературных журналах его студенческих лет. Поэт Шопел даже написал статью о «появлении поэта, обратившегося к самому глубокому в себе, поэта для немногих, – лишь для тех, кто способен прочувствовать печальную драму современного человека, очутившегося перед фактом бесполезности жизни». Светские хроникеры, отмечая присутствие Пауло на том или ином вечере, не забывали награждать его эпитетом «блестящего поэта нового поколения». Однако он бросил поэзию и начал изредка выступать со статьями о живописи, участвовать в комитетах по организации выставок модернистских художников, спорить о Браке и Пикассо, о Матиссе и Сальвадоре Дали[50]. Светские хроникеры в ту пору называли его «наш блестящий критик-искусствовед». К тому времени он уже закончил философский факультет и ничего не делал, живя то в Рио, то в Сан-Пауло; досуг его заполняли приемы в посольствах, званые обеды, уик-энды на фазендах друзей, художественные ателье, долгие беседы с Сезаром Гильерме Шопелом и другими литераторами, несколько связей с женщинами его круга, несколько «шалостей», месяцы игры в казино, туманные мысли о пьесе для группы любителей из «гран-финос» – представителей высшего света Сан-Пауло. Он тратил много денег, не пытаясь узнавать, откуда они берутся. И в дни попоек, уставившись своими стеклянными пресыщенными глазами на Шопела (который, напившись, ударялся в грязную романтику и требовал, потрясая своим огромным жирным животом, «чистейшей девственницы, нетронутой даже дурной мыслью, чтобы искупить грехи его развращенного тела»), Пауло твердил: – Эта жизнь ни черта не стоит… Человеку осталась лишь одна достойная участь – самоубийство. В один прекрасный день отец неожиданно вызвал его для разговора. Он спросил Пауло, что тот намерен делать, – пора об этом подумать. Он объяснил сыну, что их финансовое положение далеко не блестяще: маленькая фазенда не приносит большого дохода и все, что у них есть помимо нее, – это некоторое количество акций в предприятиях Коста-Вале. Фактически они жили за счет его политической деятельности, на комиссионные, получаемые за дела, которые он устраивал для банкира и других друзей, на доходы от места депутата. И они, признался отец, тратили на эту расточительную жизнь все получаемые средства. Пауло следует подумать о самостоятельном существовании, о карьере, чтобы, когда его, Артура, не станет, сын не оказался бы вынужден выклянчивать себе у чужих людей какую-нибудь службу. Пауло испугался угрозы бедности; никогда раньше он не задумывался над этим. Несколько дней Пауло ходил озабоченный; он не чувствовал никакого влечения к политической деятельности – отец собирался на ближайших выборах выставить его кандидатуру в законодательную ассамблею штата Сан-Пауло[51]. Еще меньше он желал поступить на работу к Коста-Вале (Мариэта предлагала ему руководящий пост в какой-либо компании); не видел он для себя и подходящей невесты, чтобы на худой конец последовать совету Коста-Вале: «Если хочешь ничего не делать, женись на богатой». Перспектива стать бедным, отказаться от модного портного, покупать обувь в первом попавшемся магазине, не иметь возможности посещать фешенебельные бары, чтобы в положенный час выпить аперитив, – все это было для него невыносимо. Пауло со своим холодным расчетливым умом приходил в ужас от подобной перспективы. Как раз в это время поэт Шопел и спросил его, почему бы ему не посвятить себя дипломатической карьере? Ведь у него для этого все данные: знатное имя, отличное знание английского и французского языков, умение хорошо танцевать, знакомство с литературой и искусством, университетское образование, и к тому же отец – влиятельный политик. Он, несомненно, по конкурсу, который вскоре должен был состояться, занял бы одно из лучших мест. Пауло дал согласие, отец поговорил с друзьями, Коста-Вале позвонил по телефону министру. Он был принят по конкурсу, а затем получил назначение в Боготу. В самолете, на котором он летел из Буэнос-Айреса в этот последний день октября, им снова овладел страх. Шум в печати, поднятый вокруг его попойки, и дошедшие до посольства в Аргентине (?) слухи о том, что он будет уволен в отставку, заставили его снова с ужасом подумать об угрозе бедности, о службе чиновника, которую ему пришлось бы вымаливать у друзей отца, о жалком прозябании. И он почувствовал не слишком свойственную его темпераменту злобу против этой развратной жены чилийского дипломата, этой Аделы Рейес с глазами кокаинистки, которая, будучи еще более пьяной, чем он, спровоцировала Пауло на то, чтобы он доказал ей свою любовь перед всеми, тут же в танцевальном зале. Он окончательно потерял голову и попытался было раздеть ее. Она подняла визг, будто была целомудренной девушкой, оскорбленной в своей невинности. А в результате – драка, скандал, и на рассвете следующего дня он на самолете поспешно покинул Боготу (?). Возможно именно потому, что Мануэла показалась ему полной противоположностью Аделе Рейес, что она со своей хрупкой красотой выглядела так скромно, он и заинтересовался ею. Он убедил себя в эти дни страха, когда с ужасом воображал себе жизнь в бедности, что ему, как средство исцеления, необходима романтическая любовь нежной девушки, которая увидела бы в нем воплощение своих грез. Любовь того типа, какую так расхваливал Шопел в своих поэмах: Я хочу, о боже, скромных девушек в цвету, Я хочу, о боже, нежной, чистой любви, Чтобы вырвать тело из сетей грязного порока – Этого вечного греха против твоего завета… Но в силу свойств своего характера Пауло, поглядывая на пейзаж, открывающийся под окном самолета, раздумывал также о том, что нужно срочно поискать в светских кругах Сан-Пауло или Рио-де-Жанейро ту самую жену-миллионершу, какую ему посоветовал найти Коста-Вале, – жену, которая способна навсегда освободить его от гнетущего страха бедности, от пропахших потом рубашек, заношенных воротничков и дешевых портных… 13
Последний день октября 1937 года ознаменовался началом необычайной карьеры Лукаса Пуччини, за какие-нибудь несколько лет превратившегося из скромного приказчика в одну из самых крупных фигур в жизни страны. Его карьера началась в баре луна-парка, где старики пили гуарану[52], дети поглощали мороженое, а Мануэла потягивала ананасный прохладительный напиток, бросая робкие взгляды на Пауло, усевшегося за столиком напротив. Когда Лукас, которому надоело звать сбившегося с ног официанта, сам направился к кассе, чтобы поскорее расплатиться, он внезапно очутился перед Эузебио Лимой, своим товарищем по колледжу, неразлучным другом школьных лет. Эузебио исчез из Сан-Пауло после переворота 1930 года, в котором он был замешан, и Лукас о нем ничего больше не слышал. Он с трудом узнал своего друга детства в этом хорошо одетом, курящем сигару, громко о чем-то рассуждающем человеке. Эузебио поднялся, узнав его, и встретил с распростертыми объятиями. – Пуччини, ты? Какой сюрприз, дружище!.. – Он представил его сидевшим с ним за столиком. – Это мой старый друг Лукас Пуччини. Таким он был и в колледже, ребята, – ум и сила воедино… – Он пододвинул ему стул. – Присаживайся, Лукас, выпьем в память прошлого по доброй стопке кашасы[53]… Он внимательно рассматривал Лукаса, попутно оценивая и поношенную одежду и общий непрезентабельный вид друга. Лукас отказался присесть и извинился: – Я здесь с семьей. Шел в кассу расплатиться… Эузебио мгновение подумал, встал, протянул руку своим спутникам. – Простите, но я пойду с Лукасом. Мы не виделись почти десять лет… И я, кстати, даже собирался его разыскивать… – Да, семь лет… – подтвердил Лукас. Они подошли к столику Лукаса. Эузебио поздоровался со всеми, отпустил комплимент красоте Мануэлы, которую он помнил еще девочкой, и так как за этим столиком не было свободных мест, предложил Лукасу сесть за соседний пустой стол – там им удобнее было бы поговорить. Он похлопал в ладоши, заказал официанту напитки и еще мороженого для детей. – Уж не твои ли ребятишки, а? – Нет. Это сироты моей сестры… Не знаю, помнишь ли ты, – ее звали Рут. Она умерла, муж служит надсмотрщиком на одной фазенде, там и живет, а дети находятся у нас. Эузебио покачал головой в знак сожаления, затем снова принялся разглядывать Лукаса, его одежду и обувь. Лукас, которому стало не по себе из-за такого нескромного осмотра, сказал: – Ты похож на миллионера… – Да, дела у меня идут, слава богу, неплохо. А ты что делаешь? Похоже, что ты не можешь сказать того же о себе… – Я служу в мануфактурном магазине у одного турка. – Хм! Грошовое жалование? – Триста милрейсов в месяц… Если бы не шурин, который присылает немного денег на содержание детей, не знаю, как удалось бы свести концы с концами… Мануэла служить не может, ей приходится ухаживать за детьми и стариками… – Так вот что, старина, я тебе предлагаю для начала конто в месяц, а потом сможешь заработать много больше… – Брось шутить!.. Где это? Прежде чем ответить, Эузебио осведомился: – Ты никогда не занимался политикой? – Политикой? Нет. – Коммунизмом, интегрализмом, всякими такими делами? – Нет. У нас работают двое интегралистов, они меня усиленно зазывали к себе, но я никогда этим не интересовался. – А профсоюз? Здесь ведь есть большой профсоюз торговых служащих. Ты занимался там какой-либо деятельностью? – Деятельностью в прямом смысле слова – нет. Так, выступал несколько раз, когда обсуждался вопрос о минимуме заработной платы. Это принесло мне известную популярность; меня даже хотели включить в список кандидатов в правление, но я не дал согласия… Теперь предстоят новые выборы, и вот меня опять приглашают. – А в этом профсоюзе коммунистов много? – Право, не знаю. На собраниях – я, кстати, на них не всегда бываю – есть такие типы, что разглагольствуют против фашизма, против интегралистов, против американцев, рассуждают насчет забастовок и всяких таких дел… Говорят, что это коммунисты. Сейчас у них есть свой выборный список. Они даже просили мой голос… – Конечно, это коммунисты. Теперь, скажи мне, старина: судя по тому, что я собой представляю, ты понимаешь, кто я такой? – Лукас пододвинулся к Эузебио, и тот объяснил: – Я занимаю большой пост в министерстве труда: я один из уполномоченных по профсоюзным делам. Мне нужны в помощь хорошие ребята. Люди смелые и решительные, способные противостоять коммунистам в профсоюзах, способные уничтожить их. Понятно? Мы нуждаемся в профсоюзных руководителях и в чиновниках министерства, которые отвечали бы за профсоюзы и из очагов социальной агитации превратили их в мирные ассоциации трудящихся… Хочешь работать со мной? – Ясно, хочу. Говоришь, конто? – Для начала, дорогой. А если ты себя хорошо зарекомендуешь, я тебя научу, как заработать много больше… – И Эузебио понизил голос. – Есть институты промышленных рабочих, торговых служащих, пенсионная касса… Это все коровы, старина, и каждая из них только и ждет, чтобы ее подоили… Он позвал официанта, заплатил за оба стола, из сдачи вытащил бумажку в десять милрейсов и дал ее детям. – Найди меня завтра в три часа по этому адресу. Я работаю в Рио, но когда приезжаю в Сан-Пауло, то здесь моя контора – отделение министерства. – Он дал ему свою визитную карточку, но тут же взял обратно. – Я напишу тебе несколько слов, чтобы тебя провели ко мне тотчас же, как придешь. Итак, до завтра! Лукас посмотрел, как он выходит, важно дымя сигарой, и даже не расслышал взволнованного вопроса Мануэлы: – В чем дело, Лукас? Сидя за другим столиком, Пауло с любопытством следил за всей этой сценой. Лукас, наконец, оправился от охватившего его волнения и посмотрел на Мануэлу такими сверкающими глазами, что даже испугал ее. – Что с тобою, Лукас? – Разве я тебе не говорил, Мануэла, что в один прекрасный день должно повезти и мне. – Что произошло? – Дома расскажу, пойдем. В трамвае, однако, он не удержался и рассказал ей вкратце о разговоре с Эузебио, о его предложении работать в министерстве труда, о жаловании и дальнейших перспективах… – Я должен стать богатым, Мануэля, богатым настолько, чтобы не считать денег, иметь возможность бросаться ими, покупать все что угодно, покупать все, вплоть до людей… Мануэла пожала ему руку, – это действительно чудесная новость. Ведь если брат поступит на хорошую службу, можно будет покинуть сырой дом в пригороде, снять небольшую квартирку без запаха плесени, куда каждое утром проникало бы солнце, с паркетным полом, на котором она могла бы иногда позволить себе потанцевать… Радость ее была так велика, что она почувствовала необходимость поделиться ею еще с кем-нибудь. Старики, однако, уже задремали в вагоне, а тетя Эрнестина возилась с детьми, устраивая их поудобнее на скамейке. Тогда она обернулась к тому настойчивому симпатичному юноше, который сопровождал ее от парка. И она улыбнулась ему широкой улыбкой, будто отвечая на вопрос, заданный им на карусели: «Вам грустно?» Нет, нет, ей уже не грустно, ее брат получит хорошую службу, перестанет носить обувь со сбитыми каблуками, и никто не сочтет его похожим на паяца. Пауло был очарован ее улыбкой, по-новому засиявшей красотой оживившегося лица. Лукас, проследивший за взглядом сестры, увидел, как Пауло отвечает на ее улыбку. Он рассмотрел его, оценил его элегантность, аристократический вид, холеные руки. Увидев, что Лукас заметил ее радость, Мануэла круто повернулась, опустив голову с улыбкой ребенка, пойманного с поличным на какой-либо шалости. – Флиртуешь, а? – Лукас, однако, тоже улыбнулся, ибо в этот вечер все казалось ему приятным и сулило удачу. – Он как будто из хорошей семьи… Последние огни луна-парка пропали в отдалении, начались узкие улицы. Медленно ползущий трамвай скрежетал на поворотах. Усталые дети заснули, прислонившись к старикам, которые тоже продолжали дремать. Тетя Эрнестина, устремив взгляд на небо, считала звезды. Мануэла прижала к груди голову младшего племянника и тихонько ласкала его. С задней скамейки донесся раздраженный голос человека, стремившегося положить конец спору: – Переворот! Переворот! Ну и что, какое это может иметь значение? Президент или диктатор, из Сан-Пауло или из Параибы – все это одна шайка воров! Между ними нет никакой разницы, у них у всех только одна цель – воровать, воровать, набивать мошну своих родственников… Есть только один человек, который мог бы навести порядок в этой стране, но он в тюрьме, и нельзя даже назвать его имя – это запрещено полицией… Но вы прекрасно знаете, кто он, и я знаю, и весь народ знает! Он слез на первой остановке. Это был старик в очках, он тут же исчез за углом. Глава вторая  1
Известие о государственном перевороте застигло Аполинарио, когда он уже пересек границу. Это было ночью. Товарищи из Порто-Алегре установили в окрестностях Баже связь с людьми, поддерживавшими тесные отношения с уругвайцем, поле которого примыкало к границе. Кто-то из них, как ему объяснили в Порто-Алегре, был обязан жизнью одному члену партии и поэтому иногда брался провести по тайным тропинкам через границу находившегося на нелегальном положении товарища. Наиболее легкий для перехода участок границы между Сант-Ана-до-Ливраменто и Риверой – самая обыкновенная улица между двумя смежными городками – был недоступен, так как в эти дни, предшествовавшие фашистскому перевороту, его охраняла целая армия полицейских. Не имело смысла рисковать, лучше было сделать более трудный, но зато более надежный переход. Из Баже его перевезли в деревенский дом, находившийся недалеко от границы, где он и стал ждать ночи в компании с человеком, которому было поручено переправить его на ту сторону. Как только настала ночь, он пошел следом за проводником. Над необъятными просторами пампы[54] расстилалось темно-синее небо – ночь намеренно была выбрана безлунная. Гаушо[55] молча шел впереди той осторожной поступью, какой ходят дикие животные. Лишь изредка мычание коровы или топот заблудившегося страуса нарушали тягостное молчание. Гаушо шел, внимательно прислушиваясь к малейшему шороху, он то и дело останавливался и, напрягая слух, разбирался в далеких звуках, которых Аполинарио, как горожанин, совершенно не различал. Бывший офицер обладал спокойствием нервного человека, способного, однако, в совершенстве владеть собой. Когда проводник останавливался, он тоже замирал и, не задавая вопросов, ждал, пока тот не делал знак, что можно идти дальше. Гаушо, типичный индеец с непроницаемым выражением лица, на каждой остановке и на поворотах едва заметной тропинки бросал на него мимолетные взгляды. Он заговорил с Аполинарио только один раз и то, чтобы сказать на ломаном языке, представляющем собой смесь португальского с испанским: – Теперь осторожно. Полиция совсем рядом… Несколько метров они передвигались ползком, как змеи. Дорога осталась сбоку, они пробирались пастбищами для скота. На деревьях зловеще кричали совы. Дойдя до определенного места, гаушо присел и стал имитировать в точно повторяющемся ритме этот устрашающий совиный крик. Аполинарио тоже присел и услышал ответ, донесшийся со стороны деревьев, смутно различавшихся вдали. Вслед за тем в поле тускло блеснул огонек фонарика; они зашагали по направлению к свету. Их поджидал бронзовый человек в широких штанах «бомбачас» и рубашке с красным платком на шее – характерной одежде уругвайского гаушо. Индеец, пожав ему руку, сказал: – А горожанин и впрямь смелый! Только тогда Аполинарио спросил: – Уже пришли? Бронзовый человек протянул ему руку и ответил по-испански: – Да, вы уже в Уругвае. Но осторожно: здесь сейчас для коммунистов тоже плохие времена. Это все правительство Терры…[56] Пойдемте со мной. Провожатый выпил глоток кашасы из бутылки, предложенной ему индейцем, и стал прощаться. Аполинарио хотел дать своему проводнику немного денег, но бронзовый гаушо не позволил, резко заявив: – Он работает на меня, и я ему плачу. Я это делаю не из-за денег, а в знак благодарности. Пойдемте! Он увидел, как индеец пошел обратно по тому же пути, бесстрастный и молчаливый, как заблудившаяся тень в черной ночи пампы. Аполинарио выпил глоток кашасы, предложенной новым знакомым. – Вашего покорного слугу зовут дон Педро… – сказал гаушо. Он оказался разговорчивым и радушным и, пока они шли к дому, где Аполинарио должен бы провести остаток ночи, рассказал ему, что по этим тропинкам он переправил за год много контрабандного оружия для губернатора штата – Флорес-да-Куньи – «дона Антонио», как он его называл. – Бедный дон Антонио в эту минуту уже находится в Монтевидео; он прибыл туда утром на специальном самолете. – Флорес-да-Кунья в Монтевидео… Почему? – А, так вы еще не знаете, что произошло сегодня утром в Рио? – Я целый день провел в домике в степи с моим другом – проводником. Понятия ни о чем не имею. – Верно, я и забыл. Так я вам сейчас расскажу: дон Варгас распустил парламент, аннулировал конституцию, прекратил избирательную кампанию. Он выступил по радио, но я не знаю, что он там говорил, меня не было дома. Этот дон Жетулио – просто дьявол; нет человека, который бы с ним справился… Аполинарио стал добиваться подробностей, ему страшно хотелось узнать все новости, но дон Педро ничего не знал, кроме того, что Жетулио Варгас совершил государственный переворот, провозгласил новую конституцию, распустил парламент и что Флорес-да-Кунья поспешно бежал из Порто-Алегре в Монтевидео на самолете и теперь укрывается в уругвайской столице. – Но вы можете послушать дома радио. Вы переночуете у меня, а завтра днем сядете в Мело на поезд и доедете до Монтевидео… Остаток пути Аполинарио шел в молчании: от этого известия он почувствовал себя так, будто ночной мрак еще больше сгустился над ним. Дон Педро добавил позабытую им вначале подробность: – Радио сообщает о многочисленных арестах по всей Бразилии. Что сейчас происходит в Рио и Сан-Пауло, в Баие и Пернамбуко, в Порто-Алегре и Куритибе? Было ли оказано сопротивление перевороту, осуществилось ли единство демократических сил, которое старалась установить партия? Прибытие Флорес-да-Куньи в Монтевидео говорило скорее об обратном, поскольку в отношении вооруженного сопротивления больше всего рассчитывали как раз на Рио-Гранде-до-Сул и на Баию. Что сейчас происходит с товарищами по всей Бразилии? Кто арестован? Как народ реагировал на переворот? А как интегралисты? Оказались ли они у власти? Развернули ли в стране фашистский террор? Он ускорил шаг, чтобы поскорее добраться до дома Педро, где есть радио. Он пожалел, что сейчас не в Бразилии; почем знать, не нуждаются ли в нем: он офицер, готов сражаться, а ведь, может быть, где-нибудь в Бразилии уже сражаются? Зачем только его послали за границу, когда фашистская опасность была так близка, готова была в любой момент обрушиться и действительно обрушилась на бразильский народ? У него сжалось сердце, появилось смутное желание вернуться обратно по этому исключительно трудному пути, который привел бы его в Бразилию. Чтобы успокоиться и справиться с охватившим его волнением, он сказал себе: «Партия знает, что она делает, знает лучше меня». То, что переворот был неизбежен, этого партия не могла не знать – она хорошо информирована, и бдительность ее всегда на высоте. Прошло только семь дней, как он выехал на пароходе из Сантоса в Порто-Алегре, и если бы партия нуждалась в нем, его или не послали бы, или вернули из Порто-Алегре. Если товарищи дали ему возможность продолжать поездку, значит вооруженное сопротивление перевороту оказалось нереальным, и соглашения между силами, поддерживающими обоих кандидатов на пост президента республики, достигнуть не удалось. Кроме того, видимо, в настоящее время важнее, чтобы армейский офицер, хорошо знающий свое дело, был на поле битвы в Испании. Эти размышления умерили его желание покинуть бронзового гаушо на полдороге и вернуться в Баже, однако не утолили жажды новостей. Он думал сейчас о нависшей над каждым товарищем опасности, вспомнил о молодой связной – Мариане, дружески махавшей ему на прощанье рукой в порту Сантос, когда отчаливал его пароход. Она привезла ему туда, в маленький отель, деньги на покупку билета и на путевые расходы. Мариана приехала утром в день отправления парохода и оставалась до самого отплытия Она сама купила ему билет, затем они гуляли по набережной. Когда за несколько минут до отплытия парохода он поднимался по трапу, она опять отдала воинское приветствие. Еще до того она сказала: – Сражайтесь там хорошенько, а мы будем здесь бороться с реакцией… До свиданья!.. – До свиданья, сестричка!.. – повторил он срывающимся голосом, почувствовав в этом прощании с почти незнакомым товарищем такое волнение расставания, которого он, пожалуй, не ощутил, даже прощаясь с сестрой. Он вспомнил ее и Жоана, вспомнил товарища из Порто-Алегре, давшего ему явку в Баже, вспомнил всех тех, кто оставался в подполье, и тех, кто томился, в заключении, в частности Ажилдо и Аглиберто[57], над которыми нависла страшная опасность. Но с особенно теплым чувством он вспоминал о Престесе, изолированном от мира в своей камере, о Престесе, которого так смертельно ненавидит реакция, покушавшаяся на его жизнь. Интегралисты не скрывали своей жажды крови Престеса, своего намерения убить его, если им удастся прийти к власти. Аполинарио сжал кулаки, когда вспомнил об угрожающей Престесу опасности, и крепко стиснул зубы. «Нет! Они не осмелятся! – подумал он. – Они побоятся народа; этот узник, лишенный общения с внешним миром, охраняется любовью народа. К тому же в защиту Престеса ведется широкая кампания во многих странах. Международная солидарность оберегает его от ненависти тюремщиков…» Аполинарио повторял все это про себя, быстрыми шагами преодолевая расстояние, вынуждая гаушо чуть не бежать за ним. Через некоторое время перед ними в поле выросли темные очертания дома, окруженного эвкалиптами и кипарисами. – Пришли… – сказал дон Педро. Керосиновая лампа освещала комнатку, где уже был накрыт стол, на тарелках лежало жареное мясо и фрукты. На пороге появилась, держа в руках веер, молодая метиска – полуиндианка. Дон Педро познакомил их: – Моя подружка… Один наш друг… Она протянула ему копчики пальцев, присев в старинном грациозном реверансе. Аполинарио устремил взор на батарейный радиоприемник, стоявший на столике, покрытом вышитой скатертью. Дон Педро сказал: – Я сейчас включу радио… Женщина пригласила их помыть руки. Вода была уже налита в эмалированный таз; хозяйка подала им мыло и полотенце. По радио, пока дон Педро искал какую-нибудь бразильскую станцию, все время звучала музыка. Послышались заключительные такты танго, исполнявшегося певицей с характерным произношением в нос: …О, горе жизни моей… В конце концов ее пение вытеснили звуки самбы[58], и дон Педро подсел к столику. – Это «Радио насионал» из Рио. Скоро будут передавать последние известия… Они поужинали вдвоем; женщина, стоя у стола, смотрела на них, не произнося ни слова. Дон Педро налил вина. Аполинарио с нетерпением ожидал начала передачи. Он почти не притронулся к мясу и, дожевывая персик, подсел к радио. В течение ночи он прослушал не только последние известия из Рио, но и все другие передачи бразильских, аргентинских и уругвайских станций – все, что сумел поймать. Это, наконец, уже превратилось в скучное повторение одних и тех же фактов: Жетулио Варгас при поддержке генералов и интегралистов совершил государственный переворот, оцепил здание палаты представителей и сената, сместил губернаторов Баии, Пернамбуко и Рио-Гранде-до-Сул, но оставил других губернаторов, назначив их правительственными наместниками в тех же штатах, запретил все политические партии, провозгласил новую конституцию, основанную на законах Муссолини и Салазара, и назвал установленный им в стране режим «новым государством»[59], охарактеризовав его как «авторитарную демократию». Отдельные сообщения носили противоречивый характер: одни передавали об аресте губернатора Баии, тогда как другие оповещали о том, что народ устроил в его честь манифестацию; в передачах говорилось о министрах-интегралистах, а наряду с этим «Интегралистское действие» упоминалось в числе партий, деятельность которых отныне запрещена. Сообщалось о тысячах арестов и, вместе с тем, утверждалось, что в стране царит полное спокойствие. Аполинарио старался разобраться во всех этих противоречивых известиях. Дон Педро удалился со своей подругой в другую комнату, а для гостя была поставлена здесь же в углу раскладная койка. Радиостанции одна за другой заканчивали свои передачи. Аполинарио в поисках последних известий пытался поймать еще какую-нибудь станцию. Под конец он услышал резкую, идиотскую речь некоего доктора Алсебиадеса де Мораиса, профессора медицины университета Сан-Пауло, по всей видимости, интегралиста. Тот метал громы и молнии, угрожал Советскому Союзу и испанским республиканцам, бразильским коммунистам и «прогнившим армандистским политикам». Он говорил, что настал час полного очищения страны, примерного наказания неисправимых врагов общества – «адептов Москвы». С горячей похвалой отозвался он о новой конституции, которая «пресечет, наконец, злоупотребления свободой, толкающие Бразилию в пропасть». И он перечислил эти «злоупотребления»: свобода печати, парламент, право на забастовки и собрания, политические партии. Закончил он тем, что стал превозносить Жетулио Варгаса и Плинио Салгадо – «патриотов высшей марки», которых профессор сравнил с императором Педро II[60] и герцогом Кашиасом[61] и утверждал, что «они принадлежат к той же семье современных героев христианства, как Гитлер, Муссолини, Хирохито, Франко и Салазар…» Вскоре радиостанции замолчали. Аполинарио потушил лампу. Ясно, что в Бразилии теперь наступили еще более тяжелые дни; то, что только казалось опасностью, теперь уже стало реальным, и партии отныне придется действовать в более сложных условиях. Он снова задумался об арестованных товарищах; в тюрьмах сегодня, должно быть, шумно: всякие слухи, предположения, споры. А Престес? Знает ли он в своем одиночном заключении о перевороте? Нашли ли товарищи способ информировать его о создавшемся положении? Ведь уже почти два года Престес находится в строгой изоляции, без всякой связи с внешним миром. Всякий раз, когда Аполинарио охватывали беспокойство и тревога, он вспоминал о подвергающемся истязаниям узнике, и ему достаточно было знать, что тот жив, чтобы вернуть себе уверенность и самообладание. Так было и с ним в эту ночь в домике, затерянном в уругвайской пампе. Партия сумеет действовать, несмотря на препятствия, сумеет твердо идти вперед, борясь за свержение этого только что созданного «государства». Имя Престеса будет вдохновлять партию и народ в этой борьбе. Аполинарио невольно задал себе вопрос, сколько тысяч людей от Амазонки до Рио-Гранде обратило сегодня свои скорбные мысли к Престесу? И сколько таких, как он, почувствовали себя успокоенными, как будто из мрачной тюрьмы им ответил голос надежды и мужества… 2
Жозе Коста-Вале вернулся из Рио накануне переворота. Дни, проведенные им в столице республики, были исключительно насыщенными. Банкир побывал во дворце Катете, имел продолжительную беседу с президентом. Тот спросил его мнение о Европе. Коста-Вале с воодушевлением рассказал президенту о Германии, высказал свои соображения о перспективах международной политики, дал понять, что в игре международных интересов будущее, несомненно, за Гитлером. Он встречался в столице с генералами, с различными политическими деятелями, завтракал в посольстве Соединенных Штатов, вел переговоры с только что приехавшим в Рио представителем немецких капиталистов. Почти каждый день он обедал вместе с Артуром, и они обсуждали различные политические и деловые вопросы. Депутат хмурился, потерял способность смеяться, казался постаревшим, и даже Шопел в последний вечер не сумел его развеселить. Между тем поэт в этот раз особенно блистал: он рассказал кучу пикантных историй о любовных похождениях одного бывшего министра с некоей богатой вдовой. Не забавно ли, что бывший министр оказался так захвачен страстью к вдове и ее деньгам, – рассказывал поэт, – что он обратился к музам и написал длинную и невероятно скучную поэму, которую вручил Шопелу, чтобы тот издал ее небольшим тиражом на дорогой голландской бумаге и в роскошном переплете? Конечно, он ее издаст – автор за это хорошо заплатит. Но, помимо того, бывший министр в очень хороших отношениях и с интегралистами и с Жетулио; несомненно, он был главным составителем конституции, которая должна быть провозглашена после переворота. Но стихи, ох, эти стихи! Стоит прочесть их, чтобы посмеяться вдоволь!.. Шопел попробовал было приложить к ним руку – с разрешения автора, конечно; он хотел посмотреть, не удастся ли, по крайней мере, добиться, чтобы они хоть не были смешны. Это, однако, оказалось невозможным: поэма была настолько плоха, написана таким напыщенным и вместе с тем таким крючкотворным языком юриста, образы ее были настолько глупы, что никакие исправления не могли спасти это риторическо-сентиментальное стихоплетство. Автор назвал свое произведение «Новая Илиада». Можно умереть со смеху! Старушенция, сохранившаяся за счет кремов и массажей и, по меньшей мере, дважды уже подвергавшаяся пластическим операциям, чтобы стянуть кожу на лице, эта старушенция воспевается в образе Елены Прекрасной, греческой красавицы, цветка Лациума, ионической статуи и тому подобных благоглупостей… Коста-Вале рассмеялся и заметил: – Вот в этом-то и заключается беда нашей страны. Люди у нас несерьезны. Вы только посмотрите: человек, неоднократно занимавший министерские посты, умный, культурный, владелец адвокатской конторы, приносящей ему сколько угодно денег, на старости лет взялся сочинять стихи. И это в то самое время, когда он готовится стать министром юстиции. Он может потерять министерство из-за одной такой поэмы… – Ничего, – возразил поэт. – Жетулио любит все эти штуки… Анекдоты, поэзию, литературу, остроумные шутки… Ему нравится веселая жизнь… Артур не смеялся и не вмешивался в разговор. Он не писал поэм никакой богатой вдове, а, между тем, министерство, о котором он мечтал, от него ускользало. Теперь он уже понимал, что переворот неизбежен, а банкир ослабил его веру в армандистский заговор, сколачиваемый с целью свержения Варгаса. Артур еще не порвал окончательно с заговорщиками, но когда на этой неделе стал взвешивать, какие у них уже установлены связи, не смог не признать слабости материальной базы этого готовящегося переворота: помимо штата Рио-Гранде-до-Сул с его военной полицией и добровольцами, с оружием, закупленным Флорес-да-Куньей, практически ничего больше не было. Даже в Сан-Пауло дела подвигались туго, командующий военным округом был доверенным лицом Жетулио, и интегралисты проникли уже буквально повсюду. На совещании с другими руководителями избирательной кампании в пользу кандидатуры Армандо Салеса Артур открыто посоветовал отказаться от плана военного переворота, который мог лишь усилить позиции Жетулио. Однако другие настаивали, и тогда он заявил, что устраняется от дальнейшего участия в этом деле. Коста-Вале хотел было захватить его с собой в Сан-Пауло; желая убедить Артура, он сказал ему, что знает из надежного источника дату переворота. Эта дата оказалась гораздо ближе, чем думал Артур. Банкир еще раз повторил ему: – Отправляйся на свою фазенду, посиди там спокойно несколько дней, пока все не утихнет и положение не прояснится… А затем придет и твой час! Жетулио понадобится опереться на силы, которые могли бы противостоять интегралистам. – Что ты этим хочешь сказать? – Я завтракал в американском посольстве… Зондировал почву насчет союза Жетулио с интегралистами. Американцы настроены оптимистически, говорят, что Жетулио просто играет с интегралистами, как большой кот с маленькими, но прожорливыми мышами… – Ты потерял веру в этих мышей? – Не в этом дело. Я думаю, что в будущем, когда наступит час войны, час Гитлера, – все мы объединимся. Тогда найдется место и для интегралистов. Однако сейчас, мне кажется, время еще не наступило. Сейчас еще командуют американцы, а американцы – это Жетулио. Я убежден, что после переворота Жетулио разделается с интегралистами, по крайней мере, как с независимой силой… – Как это все противно! – сказал Артур. – Я серьезно подумываю бросить политику, вернуться к адвокатуре; я уже устал. – Ты не устал и вовсе не думаешь бросать политику – просто ты злишься, так как надеялся стать министром. Все это глупости! А потом, кто тебе сказал, что немного погодя ты не станешь министром? – Министром Жетулио? Никогда! – Чепуха! Да и что ты можешь иметь против Жетулио? То, что он не паулист с четырехсотлетней родословной?.. Жетулио – умный политик, он умеет вести корабль лучше, чем кто-либо другой: он обманывает рабочих трабальистскими законами, от которых вы со своим отсталым консерватизмом отворачиваете нос; он сотрудничает с американцами, но в то же время заигрывает с немцами, отнюдь не закрывая перед ними дверь. Он ловкий человек, дружище, и может кончить тем, что станет императором. Я уже не раз говорил тебе, что у нас в Бразилии пришел конец политике, основанной на английских интересах. Что ты будешь дальше делать на этой продырявленной ладье? Не беспокойся, ты еще станешь важной персоной в стране. Я затеваю большое дело – предприятие, которое принесет нам горы золота… Будучи в Европе, я заложил некоторые основы этого дела, а теперь в Сан-Пауло буду расширять и укреплять их. Надеюсь, что комендадора да Toppe пожелает принять в нем участие. Я беседовал с американцами, но если они не заинтересуются, я приму предложение немцев… – А в чем, собственно, дело? – Я тебе расскажу потом, когда все мои проекты примут более законченный вид. Но одно могу тебе сказать заранее: это – солиднейшее дело, поистине гигантское предприятие. – Он вытер вспотевшую лысину (на улице стояла ноябрьская жара[62]), и его пустые глаза вперились в депутата. – Ты мне понадобишься на высоком политическом посту. Ты будешь необходим, чтобы проводить многие дела и сноситься с большим количеством людей… – Его бледное лицо оживила внезапно появившаяся хитрая улыбка. – Мне понадобится также подставное лицо, которое выступило бы в роли инициатора этого дела. Мне кажется, я нашел превосходную кандидатуру… – Кто же это? – Шопел… – Поэт? – усомнился Артур. – Поэт, мой друг. Мне нравится этот тип. Он циничен до предела и ради денег готов на все. Даже на то, чтобы быть лояльным… Однако, несмотря на все приведенные доводы, Коста-Вале не удавалось увезти депутата вместе с собой. Артур объяснил ему, почему он должен остаться: он себя полностью дискредитирует, если в такое время покинет палату. Он останется здесь до последней минуты, а затем отправится на фазенду. Но если он поступит так сейчас, до переворота, это только принесет ему вред в будущем. – Возможно… – сказал банкир. – Это все твои устарелые понятия о чести, предрассудки старинной фамилии. Однако, мой друг, нет ничего такого, что могло бы дискредитировать политического деятеля в Бразилии. Впрочем, если хочешь остаться, оставайся. Но обещай мне выехать на следующий же день… Девятого ноября Коста-Вале вернулся в Сан-Пауло и вечером беседовал с Мариэтой. Он спросил, каковы ее планы на следующий день. Она их перечислила: парикмахер, портниха, чашка чая с Пауло в фешенебельном книжном магазине с чайным салоном, открывшимся недавно для гран-финос. – Отмени абсолютно все, моя дорогая. Завтра лучше не выходить из дома. В городе могут быть беспорядки. Жетулио совершит переворот. – А Артур? – поинтересовалась она. – Этот идиот захотел остаться в палате до конца. Донкихотство средневекового политика. Наши времена не допускают больше подобных глупостей. Иногда он мне надоедает этой своей рыцарской честностью. Если бы я не знал, что все это просто рисовка, которую он в серьезный момент отбрасывает прочь, я бы уже давно распростился с Артуром… Дадим ему пасть с честью, – пусть он потом будет этим хвастаться. Впоследствии это поднимет ему цену. Каждый продает что может, моя дорогая. Он продает по неимоверно высокой цене эту свою «честность»… – Ну, а как с Пауло? – Все в порядке. Я говорил с министром, чтобы ему дали месячный отпуск; потом он останется на некоторое время в Рио, а в конце концов получит повышение. В день переворота Коста-Вале, как всегда, выйдя в обычное время из дому, отправился к себе в банк. Он находился в своем кабинете, будучи занят важными переговорами с комендадорой да Toppe, когда кто-то нервно постучался в дверь. Банкир встал, чтобы открыть, комендадора же с большим интересом рассматривала карту, испещренную штрихами, точками и другими знаками. В открытой двери появилась встревоженная физиономия управляющего, который, заикаясь, произнес: – По радио объявили о государственном перевороте. Войска патрулируют по городу. Говорят, арестован губернатор… Комендадора живо повернулась, крайне заинтересованная. – Государственный переворот? Чей? Рассказывайте, выкладывайте, что вам известно. Коста-Вале, однако, жестом остановил словоохотливого управляющего и обратился к комендадоре: – Не стоит, комендадора. Всем, давным-давно известно, что Жетулио не собирался допустить проведение выборов. – Он запер дверь, спокойно вернулся к карте, разложенной на его большом письменном столе, и, показывая на нее, спросил: – Лучше скажите, что вы думаете о предлагаемом мною деле? Не кажется ли вам, что это настоящий золотой рудник, даже больше, что это – золото на поверхности земли, которое можно собирать голыми руками? Комендадора отвела глаза от карты. – Да, но кто сумеет заполучить концессию? Если изберут сеньора Артура, это будет легко. Артурзиньо возьмет все хлопоты на себя… Но как же это сделать после проклятого переворота Жетулио? – У меня есть одно лицо, тесно связанное с президентом, – очень влиятельное лицо, заинтересованное в деле. Так что о концессии вы не беспокойтесь. Я знаю, что делаю, и я никогда не верил в эти выборы. 3
Возбуждение, какое бывает в день розыгрыша большого приза на скачках, придало нервозность голосу Сузаны Виейра, когда она рассказывала своим друзьям о происходящих событиях. Они собрались в маленьком салоне Коста-Вале, выходящем в сад; был подан чай; у каждого нашлось что рассказать, но Сузана завладела общим вниманием. – Мне понадобилось около часа, чтобы добраться сюда… На каждом углу солдаты останавливали автомобиль, спрашивали документы, как будто я не в своей стране, осматривали в машине все, вплоть до сидений, чтобы убедиться в том, что там ничего не спрятано… И солдаты все такие грубые, невоспитанные… Через центр мне вообще не разрешили проехать… Если бы не появился капитан – на редкость симпатичный мужчина, – я бы еще наверняка была там. Такого хамства я в жизни не видывала… Она поглядывала на Пауло, рассчитывая найти в нем сочувствие. Молодой человек ответил ей своей обычной вялой улыбкой, которую он как будто ронял с губ. Мариэта следила за этой сценой; она заметила взгляд девушки, безразлично вежливую улыбку Пауло, молчание пришедшей в ужас доны Энрикеты Алвес-Нето – жены известного адвоката. Дона Энрикета уже раньше поделилась своими горестями: ведь она первая и принесла весть о перевороте Жетулио. Она жила на той же улице и пришла пешком, чтобы укрыться в особняке Коста-Вале; муж ее, опасаясь ареста, скрылся и посоветовал ей не оставаться дома, так как полиция могла появиться в любую минуту и причинить ей неприятности. Вот почему она, запыхавшись, вбежала и, прервав оживленную беседу Пауло и Мариэты, обратилась к ним как всегда веселым, но вместе с тем чуть испуганным голосом, сопровождая свои слова широким жестом: – Я пришла просить у тебя убежища, милая! – Что случилось? Тонико выгнал тебя из дому? – Мариэта понизила голос, обнимая ее. – Он что, узнал? – Да нет! Вовсе не то… – Энрикета теперь говорила для Пауло: – Государственный переворот… Жетулио, интегралисты!.. Забирают всех… говорят, даже расстреливают… Бедному Тонико пришлось срочно бежать, и он оставил меня одну… – Ее зовущий взгляд искал ответного взгляда Пауло, как бы для того, чтобы попросить у него защиты, раз муж трусливо покинул ее в минуту опасности. Мариэта притворилась изумленной: – Переворот Жетулио? Какой ужас! И ты, бедненькая… У этих людей просто нет сердца… – Но при этом Мариэта ревниво следила за игрой Энрикеты и думала о ее распущенности, о скандальном перечне ее любовников, менявшихся один за другим, а иногда даже существовавших одновременно. Она видела, как Энрикета бросает жадные взгляды на Пауло, предлагая себя молодому человеку так цинично и бесстыдно, что Мариэта не могла удержаться от того, чтобы мысленно не сказать ей: «Шлюха!» Комендадора да Toppe – глубокая старуха, обладавшая большим жизненным опытом, – была права, когда расценила скандал с Пауло как своеобразную приманку для женщин. Ведь вот сейчас Энрикета чуть ли не готова отдаться ему, а за нею следом и Сузана Виейра, буквально пожирающая его глазами. И та и другая заискивали перед Мариэтой, будто она могла помочь им добиться выполнения их грязных замыслов, будто она была матерью Пауло, которая должна благосклонно покровительствовать его любовным похождениям. И эта спортивного вида девица, и пикантная тридцатипятилетняя женщина смотрели на Мариэту как на старуху, как на возможную союзницу, но ни в коем случае не соперницу. Это причиняло Мариэте боль и огорчение: она красивее и привлекательнее Энрикеты, несмотря на то, что старше ее. А что касается Сузаны, то та принадлежит к числу мятущихся полудев – с телом, несомненно более потрепанным, чем у нее… Она видела, что Пауло безразличен как к той, так и к другой; его лицо, пока он их слушал, принимало все более скучающее выражение. Ничего, кроме обычной вежливости, вынуждавшей его быть внимательным, улыбаться и ронять те или иные фразы. Он не проявлял к ним обеим никакого интереса. И это порадовало обеспокоенную Мариэту, которая готова была стать злой и мстительной. Поэтому, раньше чем Сузана Виейра появилась со своей историей об автомобилях, солдатах и капитанах, она заставила Энрикету сбросить всю свою показную театральную мишуру, перепугала ее и довела почти до слез тем, что рассказала ей страшные слухи о мести Жетулио по отношению к сторонникам Армандо Салеса, в особенности по отношению к лидерам движения в пользу его кандидатуры и его близким друзьям, к числу которых относился и Антонио Алвес-Нето. Одно утверждали наверняка: капиталы наиболее скомпрометированных лиц будут конфискованы… Доверенные люди Жетулио предупредили: то, что диктатор не решился сделать в 1930 году, он осуществит теперь: фазенды, фабрики, газеты, дома, акции скомпрометированных лиц – все перейдет в руки государства или тех, кто близок к правительству. Состояние Коста-Вале было гарантировано: Жозе не был замешан в избирательной кампании, разъезжая по Европе. Только несколько дней назад он имел длительную беседу с Жетулио. Но Артур и доктор Антонио наверняка лишатся прав на свои состояния. Артур, в конечном счете, не останется без поддержки: должности юрисконсульта банка и других предприятий Коста-Вале хватит ему для того, чтобы жить прилично, но другие… Энрикета вытаращила глаза, впервые ставшие искренними, лицо ее побледнело, она полуоткрыла рот, но не могла вымолвить ни слова. Пауло не вполне понимал мотивы, по которым Мариэта разыгрывала эту комедию, но, потешаясь, следил за ней и, чтобы помочь, добавил некоторые подробности, сделав правдоподобными ее тревожные утверждения: – Со вчерашнего вечера, даже еще до переворота, войска заняли редакцию «Эстадо», – одной из армандистских газет. Мескита[63] потеряет все, что у него есть… Я и сам укрылся здесь, подобно вам. Думаю, что в эту минуту полиция уже находится у нас в доме и описывает то немногое, что мы имеем… – Не может быть… – пробормотала Энрикета, потерявшая теперь всякий интерес к Пауло и думавшая лишь о своем состоянии, о доме, так замечательно построенном всего полгода назад знаменитым архитектором Маркосом де Соузой, о своих кофейных плантациях, о целой улице жилых зданий в центре города, приносящих ежемесячно огромные доходы… – Нет, не может быть!.. Эти вещи священны, никто не может их отнять… – Милая моя, теперь «новое государство»; фашистская диктатура – это не то, что в тридцатом годую.. Посмотри, что Гитлер сделал в Германии: все имущество евреев… – Но ведь мы же не евреи, боже нас упаси… Тонико принадлежит к одной из самых старинных семей в Сан-Пауло, а я по происхождению англичанка. Мы можем доказать; у Тонико есть генеалогическое древо семьи… оно нам порядочно стоило… – История с евреями – это в Германии, моя милая! А здесь переворот, который совершил Жетулио, направлен против четырехсотлетних паулистов… Дона Энрикета сразу потеряла свою пикантность: исчезло томное выражение глаз; она закрыла лицо руками и чуть не разразилась рыданиями перед внезапно возникшей угрозой нищеты, но в это время появилась Сузана Виейра, и Энрикета сдержала себя. Сузана уселась рядом с Пауло; ей хотелось знать, что с Артуром. – С ним ничего не случилось? – Пока ничего. Полчаса тому назад я говорил с ним по телефону. Он было пошел в палату, но она уже оцеплена войсками. Если его не заберут, завтра он приедет сюда. И, вдохновившись жестокой игрой Мариэты, он попробовал повторить ее для Сузаны: – Вы уже в курсе дела, что всем нам угрожает черная нищета? Что нам придется вымаливать хлеб у Мариэты? – Это еще что за история? Он и ей рассказал о проектах конфискации имущества. Но сделал это только шутки ради, а не как Мариэта – для мщения, и поэтому сочинял такие неправдоподобные подробности, что Сузана сразу рассмеялась: – Как шутка – это одна из лучших, что мне довелось слышать… – Ты думаешь, он смеется? – прервала ее Энрикета. – Здесь нет ничего смешного, Сузанинья… – И в ее голосе послышались сдержанные рыдания. – Мариэта и Жозе узнали об этом из надежного источника… – Брось говорить глупости!.. Где это видано, чтобы отбирали чужую собственность? Только коммунисты добиваются этого. Может быть, случайно, и Жетулио коммунист? – Он фашист… – заверила Энрикета. – А где ты видела, чтобы фашисты отбирали у кого-нибудь собственность? – Гитлер же отобрал все у евреев… – Так это у евреев… А у нас – совсем другое дело. Здесь ничего подобного быть не может. Возможно, некоторых политиков посадят, но денег ни у кого не тронут… Нет, вы только подумайте! Мариэта и Пауло откровенно рассмеялись, и Энрикета начала понимать, что над ней просто потешаются. Она хотела было рассердиться, показать себя обиженной, но облегчение, которое она почувствовала, было настолько велико, что и она засмеялась, снова приняв свой обычный вызывающий вид. Мариэта объяснила, что она просто хотела развлечь подругу. Энрикета ее обняла, снова посмотрела на Пауло, на этот раз уже с нежным порицанием в глазах. – Как вы меня напугали… Мариэта следила за каждым взглядом, который другие женщины бросали на Пауло. С тех пор как он приехал, с той минуты как он пришел навестить ее, она жила в постоянной тревоге, опасаясь, что в любой момент в его жизнь может войти новая женщина. Он ей рассказал про свою авантюру в Боготе, про скуку тамошней жизни и про нелепую страсть, которую испытывала к нему супруга чилийского посла, порочная и сумасбродная женщина… Он рассказал ей о пустоте своей жизни, о желании обрести нежную любовь, которая могла бы заставить его забыть эту последнюю авантюру. Такую нежную любовь могла бы дать ему она, Мариэта, если бы не… Если бы не что? – спрашивала она себя в бессонные ночи, лежа на огромной постели в своей спальне, где Коста-Вале почти не появлялся. – Если бы не некоторые предрассудки, не что иное, как предрассудки (хотя они были сильнее, чем супружеская связь, которую она нарушала, отдаваясь другим в Сан-Пауло, в Рио, в Европе), потому что Артур в прежние времена был ее женихом, потому что она знала Пауло с детства, потому что Пауло почти вырос в ее доме, потому что другие смотрели на нее так, будто она была для мальчика мачехой… Но ничего этого в действительности не было… Пауло она, собственно говоря, узнала только тогда, когда он стал мужчиной. Ребенок, так любивший играть у нее на коленях, не имел ничего общего с этим небрежно державшимся юношей, сидящим сейчас напротив нее… Это просто слабость – склоняться перед такими предрассудками, если ее с Пауло не соединяют никакие родственные узы, если они не более как мужчина и женщина, которые хотят любить друг друга… Это было то, о чем она раздумывала по ночам, когда страдала бессонницей, ворочаясь на постели, рыдая и раздирая зубами кружева рубашки. Но что он подумает, как отнесется к этой безнадежной любви, как реагирует на те обстоятельства, которыми следует пренебречь? Сомнения мучили ее, мешали ей принимать участие вместе с Энрикетой и Сузаной в их турнире многообещающих взглядов, намеков, вызывающих улыбок… А что, если он оттолкнет ее с жестом отвращения, возмутится отчаянной страстью, что, если это, возможно, покажется ему кровосмешением? Или если – что было бы самым страшным – он найдет, что она просто старая, потрепанная женщина, не вызывающая интереса? Она мучилась в плену этих сомнений, не имея в то же время возможности, подобно Энрикете, подобно Сузане, подобно всем остальным женщинам, бороться за свою любовь. Разговор вращался вокруг переворота; рассуждали, как он может отразиться на жизни страны, на политике государства, на существовании каждого из них. Энрикета с улыбкой спросила: – Не придется ли нам впредь приглашать Плинио Салгадо на приемы? Но ведь он так смешон и невоспитан… Мариэта, обуреваемая желанием, почти не принимала участия в разговоре. Ее взор перебегал с женщин на Пауло и задерживался на молодом человеке; она не знала, как умерить пыл своего взгляда, как сдержать свой страстный голос, как не упасть ему в объятия, как не рассказать ему… Вошел слуга и объявил: – Сеньор Шопел. Это было для всех сюрпризом. Предполагалось, что поэт сейчас в Рио, где он постоянно жил и где было его издательство. Он вошел, запыхавшись, с трудом неся свое жирное тело, поцеловал дамам руку, обнял Пауло – с ним он еще не виделся – и начал ему нашептывать: – О прекрасная юность! О непорочный характер! Я, искавший тебя по улицам Сан-Пауло в этот день жетулистского светопреставления, нахожу тебя здесь, за мирным чаепитием… Мариэте хотелось узнать, что он делал в Сан-Пауло в этот день жетулистского переворота, он – человек с положением, интегралистский издатель и друг друзей Жетулио, что делал он в этом логове «разложившихся политиков», где она сама чувствовала себя в опасности, несмотря на то, что это был ее дом. Поэт с трудом разместился в кресле, откинув назад голову, и признался, что и сам не знает, почему он здесь. Срочный вызов Коста-Вале оторвал его от сенсационных событий в Рио-де-Жанейро; он сел на рейсовый самолет и вскоре очутился здесь, в Сан-Пауло, в гостинице, подобно беглецу. Банкир настаивал на его немедленном приезде, пригласил к себе на обед, и он, в надежде снова увидеть прекрасную дону Мариэту, подчинился строгим распоряжениям «хозяина». – Простым смертным может показаться, дона Мариэта, что я нахожусь здесь потому, что банкир – властитель денег и воли людей, властитель поэтов и политиков – приказал мне явиться. Но действительная причина иная: это моя неизлечимая страсть к прекрасной супруге банкира… Он говорил это, не отрывая глаз укрощенного быка от привлекательной фигурки Сузаны Виейра, он вспоминал ее грудь, видневшуюся в вырезе платья тогда, на приеме, устроенном банкиром, и сожалел, что на ней сейчас закрытая спортивная блузка. Мариэта рассмеялась в ответ на комплимент, она была довольна тем, что слова поэта как бы повышали ей цену в глазах Пауло. И Энрикета и Сузана выпытывали у Шопела новости, расспрашивали, что происходит в Рио, выясняли правдоподобность ужасных слухов, дошедших до Сан-Пауло Поэт их разочаровал: – В жизни не видел более спокойного города. Жозе Америко сидит дома, Артурзиньо в своей квартире укладывается, чтобы приехать завтра в Сан-Пауло… – Он обратился к Пауло: – Я с ним завтракал, он как у Христа за пазухой Ничего с ним не случилось и ничего не случится… Да! Вы уже знаете, кто назначен новым министром юстиции? Они этого не знали, и поэт торжественно объявил, что это его друг, знаменитый юрист – тот самый, чья поэма выходит в свет в его издательстве. Они ничего не знают об этой книге? Он рассказал им историю страсти, пробудившейся у этого экс-министра (который теперь снова стал министром) к старой вдове; о поэтическом вдохновении, которое вызвала у него в пожилом возрасте эта любовь; о роскошном издании его книги. – И я вам вот что скажу: у этого человека подлинный поэтический талант. Его поэма – это нечто новое, отличающееся от обычной поэзии, у нее определенная классическая величавость, по силе образов она поистине напоминает творения Камоэнса[64]. А интегралисты? Сколько их министров будет в новом правительстве? В каком положении находится Плинио Салгадо? Поэт замолчал… Он не мог ответить на эти вопросы; похоже, что-то не ладится между Жетулио и интегралнстами. В новом кабинете, где сохранилось большинство старых министров, нет ни одного интегралиста. Поговаривают, что и «Интегралистское действие» якобы распущено вместе с другими партиями, но никто ничего наверняка не знает; пока все это только слухи. Во всяком случае, в Баие интегралисты захватили власть, а в Рио вышли на улицу и заявили, что поддерживают переворот Жетулио. Естественно, что новое правительство еще не окончательно сформировано. Поэт узнал, что сегодня во второй половине дня состоятся переговоры между Плинио Салгадо и двумя уполномоченными Жетулио, которые, по всем признакам, друзья интегрализма: это начальник полиции Филинто Мюллер[65] и военный комендант Рио-де-Жанейро Ньютон Кавалканти. Возможно, после этой встречи положение прояснится… – Но аресты были? – заинтересовалась Энрикета. – Как вам сказать… Известных людей не арестовывали. Как будто посадили несколько сот коммунистов. Вот и все… Пауло спросил Шопела, в каком отеле он остановился, не согласится ли он погостить у него. – У меня есть многое, о чем рассказать… – Ну, конечно… Вся эта история в Боготе… – Ах, это… – Он сделал жест, что у него есть нечто более важное, и Мариэту сразу охватило беспокойство: что еще произошло в жизни Пауло, почему последние дни он ходит необычно оживленный, будто грезит наяву? Уж не из-за нее ли, чего доброго, так сладострастно затуманиваются его глаза? Или это из-за другой, одной из многих, привлеченных шумным дипломатическим инцидентом? Сузана Виейра предложила отвезти гостей в своем автомобиле. Они бы тогда защитили ее от грубых солдат. А, кроме того, сегодня со всеми этими треволнениями нелегко будет достать такси. Поэт согласился, в отеле у него был лишь маленький чемодан. Сузана выразила сомнение: – Маленький? Не верю, Шопел. Даже, если вы привезли только один костюм, вам нужен для этого сундук… В доме осталась лишь Энрикета, она будет здесь ночевать; до сих пор она не могла избавиться от страха, Мариэта предложила Пауло и Сузане не уезжать. Шопел приедет обедать, потом они бы устроили небольшую вечеринку. Музыка, виски, можно будет потанцевать. – Или сыграть в покерок… – предложила Сузана. – Знаете, Раулзиньо де Мендонса изобрел сейчас новый восхитительный способ игры в покер… Денег не ставят… Играют на одежду… Мусия дос Сантос осталась однажды совершенно голенькой. Проиграла все, вплоть до трусиков… Поставила их против галстука Фреда Мюллера, этого интересного американца из консульства… – И что же, ей пришлось снять трусики? – с невинным видом спросил поэт. – Вы свинья, Шопел! – засмеялась Мариэта. – О нет, дона Мариэта! Я просто выразил свое удивление… Она осталась вдвоем с Энрикетой. Дело близилось к вечеру, за решетчатыми воротами царили тихие и светлые сумерки начала лета, ничто не напоминало о бурных политических событиях дня. Мариэта сказала: – Этот Шопел иногда остроумен… – Я люблю читать его стихи, они грустны и сентиментальны, – отозвалась Энрикета. – Но это чудовище, похожее на толстого евнуха, считает своим долгом набрасываться на каждую женщину!.. Зато этот Пауло, милочка, просто прелесть! Знаешь, кого он мне напоминает, Мариэта: образ обнаженного Иисуса Христа на кресте в соборе на площади да Сэ. Такие же полумертвые глаза, маленький рот. Как насчет остального, не знаю, никогда не видела Паулиньо обнаженным… – Она расхохоталась, закусив губу. – Пока еще не видела… Мариэте пришло на ум одно лишь слово и ей захотелось произнести его вслух, бросить ей в лицо: «Сука!» 4
С балкона верхнего этажа здания своего банка Жозе Коста-Вале наблюдал за солдатами, патрулирующими по улице, где большинство торговых заведений, из опасения беспорядков, прекратило работу. Он только что покинул кабинет после долгого разговора по телефону с Рио-де-Жанейро. В различных помещениях банка служащие еще работали, но залы для публики, как и обычно, закрылись ровно в три. Прежде чем выйти на балкон, он остановился перед висящей на стене кабинета большой картой района реки Салгадо – долины с густыми лесами и бесчисленными реками. Здесь обитали ягуары и ядовитые змеи, гнездились малярия и тиф. В этом мире деревьев и лиан, раскинувшемся на бескрайных пространствах, лишь изредка попадались крестьянские хижины. На берегу реки, где земли были плодородные, имелись небольшие участки, расчищенные людьми, которые прибыли сюда из разных мест и по разным дорогам. Сотни, а возможно, и тысячи бедных семей – никто точно не знает, сколько их было, – обитало на берегах этой первобытной, еще не освоенной реки. Судьба этих людей, которые могли помешать осуществлению его грандиозного плана, не интересовала банкира, не стоило даже задумываться над ней. Они не имели никакого юридического права на эти земли; судьи и законы были на его стороне, а если бы понадобилось, то и армия. Несколько лет назад, возвращаясь на самолете из деловой поездки в Соединенные Штаты, он пролетал над этим районом. Чаща девственных лесов была ему безразлична, однако глубокий интерес, проявленный другим пассажиром самолета – мистером Томпсоном, американским инженером, прикомандированным к посольству Соединенных Штатов, который не отрывал любопытных глаз от окна и приказал пилоту лететь на небольшой высоте, невольно привлекли внимание Коста-Вале. По возвращении в Сан-Пауло он занялся своими обычными делами, но все же это незначительное происшествие во время полета почему-то не выходило у него из головы. Он поручил одному из своих сотрудников разыскать все имеющиеся материалы о долине реки Салгадо. Ик оказалось немного: несколько отчетов, две книги путешествий, одна из них поучительная, а другая – просто описывающая путевые приключения, и, наконец, исследование, содержащее много ценных данных, – оно было опубликовано в одном американском журнале. Автор этого исследования – американский профессор, приглашенный прочесть курс лекций в университете Сан-Пауло, судя по всему, уделял гораздо больше внимания долине реки Салгадо, чем своим ученикам. Это было немного, но достаточно для того, чтобы Коста-Вале стали понятны причины острого интереса, проявленного его спутником по путешествию: в этой долине наверняка имелись крупные залежи марганца, помимо многих других минеральных богатств. У банкира начал созревать план. Ясно, что один он не в состоянии разжевать и проглотить этот огромный кусок страны, но он мог бы, если сумеет действовать ловко, обеспечить себе контрольный пакет акций в будущем предприятии. Вопрос состоял в том, чтобы не упустить время; однако, к сожалению, в политических делах в этот период создалось неясное положение: началась избирательная кампания и еще нельзя было предугадать результат выборов. Когда возникли первые робкие слухи о готовящемся перевороте, еще до его поездки в Европу, Коста-Вале воодушевился: стране нужно сильное правительство, нужен человек, который мог бы править твердой рукой, и он, чем мог, содействовал политическому заговору, вылившемуся в переворот десятого ноября. Он не только полностью отстранился от Армандо Салеса, – а ведь ожидали, что он будет одним из финансовых оплотов этого кандидата, – но и открыл кредиты в своем банке «Интегралистскому действию», финансировал жетулистские газеты, и все это тайком, никогда не действуя открыто, что было его обычной тактикой. Он и в Европу-то поехал главным образом затем, чтобы его имя не оказалось замешанным в событиях. Каково же было его удивление, когда, будучи приглашен на экономическое совещание с крупными нацистскими промышленниками в Берлине, он обнаружил на столе, вокруг которого расселись немцы, карту района долины реки Салгадо и услышал, как они с полным знанием дела говорят о бесчисленных богатствах этого края и в особенности о сказочных запасах скрытого в его недрах марганца. Об отчетах, на которые ссылались немцы в своих выступлениях, он никогда не слышал, и вот тут-то осознал в полной мере всю неизмеримую ценность этих земель. Немцы показали себя трезвыми реалистами; Коста-Вале понравилась их манера вести дела. Они говорили откровенно: им нужны эти богатства – прежде всего, марганец – для войны, которая неизбежно начнется в ближайшем будущем. Они уже полностью разработали план солидного предприятия, но нуждаются в бразильском сотрудничестве; это немецко-бразильское предприятие должно положить начало широкому сотрудничеству в деле развития Бразилии с помощью германских капиталовложений. Коста-Вале, который, как им известно (откуда только они это узнали?), тоже интересуется долиной реки Салгадо, прекрасно мог бы возглавить эту бразильскую часть предприятия, без чего их план не удастся осуществить. Сложные экономические взаимоотношения связывали Коста-Вале с американцами. Начал он свою деловую жизнь у англичан (его отец был мелким железнодорожным чиновником, да и сам он служил на английской железной дороге[66] Сан-Пауло – Сантос), с ними он разбогател, но в дальнейшем сумел понять, что влияние английского капитала в Бразилии падает, и во многих предприятиях вступил в компанию с американцами. Теперь он старался угадать, за кем будущее: в Европе он почувствовал атмосферу приближения войны, наблюдал немецкие военные парады, читал статьи и исследования о германском могуществе и, возвращаясь в Бразилию, чуть было не решил еще раз переменить корабль. Недавняя поездка в Рио заставила его, однако, задуматься. Уверенность янки, их деловая надежность, сама географическая близость Соединенных Штатов – все это заставляло его теперь колебаться. После завтрака в американском посольстве он беседовал с их торговым советником. Коста-Вале заговорил с ним о долине реки Салгадо и заметил в голубых глазах янки жадный интерес. Он пошел на несколько большую откровенность и в общих чертах рассказал о своем проекте… И вот послышались имена, названные так тихо, что они не донеслись даже до тяжелых бархатных занавесей зала: Рокфеллер, Даллес и ряд других. Торговый советник сказал, что он пригласит банкира в ближайшие дни для более конкретного разговора. Коста-Вале решил все-таки начать действовать и предать гласности первые наметки своего плана. Понемногу его колебания (на кого опереться – на американцев или на немцев?) прошли: он решил начать дело один, с тем чтобы иметь возможность выбрать капитал в долларах или марках, когда международное положение станет более ясным. Играя на государственном перевороте, он ставил на верную карту. Министр дал это понять, когда, выражая ему благодарность за его политическую позицию, спросил, чего он желал бы для себя в ближайшем будущем. Он ответил, что чувствует удовлетворение, поддерживая подлинно патриотическое правительство, под чьим руководством Бразилия становится великой мировой державой. Его желание – помочь правительству. Он убежден, что в этой грандиозной работе и у правительства есть кое-какие планы, касающиеся неосвоенных районов страны, которые с применением национальных капиталов могли бы превратиться в настоящие райские уголки, как, например, долина реки Салгадо в штате Мато-Гроссо. Министр выпустил клуб дыма из баиянской сигары и после минутного молчания спросил: – А откуда поступят эти национальные капиталы для долины реки Салгадо, сеньор Коста-Вале, из Сити-бэнк оф Нью-Йорк или из Дейтше-банк? Тот и другой усиленно на меня нажимают[67]… Банкир посмотрел на него своими пустыми холодными глазами… – Еще не знаю… Думаю, лучше начать одному, организовать предприятие и немного выждать… А потом можно будет выбрать лучшее предложение… И заодно посмотреть, как сложится международная обстановка. Министр снова выпустил большой клуб дыма из сигары и, отдав этим должное таланту Коста-Вале, признал, что это хорошая идея. Банкир добавил, что он подумывает о создании группы капиталистов и инженеров, для того чтобы приступить к работам в долине. Он назвал несколько имен и среди них одно – близкое и дорогое сердцу министра. Тот рассмеялся, услышав парадный перечень фамилий, спросил, кстати, что нового у этой забавной комендадоры да Toppe, так хорошо рассказывающей анекдоты… Затем министр поговорил с ним о Европе, о скандале Пауло в Боготе и на прощанье сказал банкиру: – Возвращайтесь после десятого ноября… Мы сможем тогда подробнее обсудить этот вопрос… Думаю, что это действительно патриотическое начинание с большим размахом. И вот наступило десятое ноября; на улицах – солдаты, установлена диктатура. Газеты теперь уже не смогут требовать кучу денег за молчаливое сообщничество; депутаты оппозиции уже не будут иметь трибуны, чтобы учинять парламентские скандалы, – все становится теперь на свое место. Коста-Вале с балкона верхнего этажа здания своего банка одобрительно поглядывал на солдат с примкнутыми штыками, патрулирующих по центральным улицам. Когда акционерное общество будет организовано, американцы и немцы сами придут к нему со своими предложениями и заплатят за марганец, скрытый среди рек, лесов и лихорадки, то, что он потребует. А почему бы не те и другие – американцы и немцы вместе, – если они наверняка будут совместно воевать против СССР и марганец пригодится им, чтобы уничтожить большевиков? Воинственные звуки фанфар прервали его мысли. Зазвучала команда, послышались шаги марширующих людей – и на улице появилась колонна интегралистов, направлявшаяся в сторону площади да Сэ. Они шли сомкнутыми рядами, одетые в зеленые рубашки, неся бразильский флаг и знамя «Интегралистского действия». Через каждый десяток метров они неистово орали: «Анауэ!»[68]. Холодные глаза банкира пробежали по сомкнутым рядам, как бы оценивая длину колонны. Людей было много – интегрализм, несомненно, стал немалой силой. Коста-Вале вспомнил немецких промышленников, склонившихся над небольшой картой долины реки Салгадо, – некоторые из них были демонстративно одеты в нацистские коричневые рубашки. Эти немцы рассчитывали на приход интегралистов к власти, чтобы получить возможность вложить в Бразилии крупные капиталы и вступить в конкуренцию с янки. Они были в курсе местных политических проблем, и один из них, видный промышленник и в то же время влиятельный лидер национал-социалистской партии, в достаточно ясной форме намекнул ему, какое блестящее будущее ожидает Бразилию, если она экономически и политически свяжет себя с Германией. Ибо после окончания войны, сказал он, когда Германия расширит свою великую империю за счет плодородных земель Украины и Поволжья, будет управлять порабощенной Францией и станет союзником и покровителем Испании, Португалии и Италии, настанет черед отстранить от влияния на судьбы планеты американских претендентов на мировое господство. Бразилия могла бы явиться рычагом, на который может опереться Германия, чтобы устранить это последнее препятствие с победного пути Гитлера… Он вспомнил и об американцах из посольства, об их оптимизме, об анекдотах по поводу союза Жетулио с интегралистами. Сейчас, когда он стоял на балконе своего банка, ему стало казаться, что час немцев еще не пробил. В тех редких случаях, когда Коста-Вале пускался на откровенность, он охотно рассказывал, что своей карьерой обязан только проницательности, с которой умел строить расчеты на будущее. Когда еще до переворота 1930 года он порвал с англичанами, чтобы сойтись с американцами, многие капиталисты жалели его, предсказывая, что песенка банкира спета. А сейчас он сильнее, чем кто-либо другой. Не пришла ли пора сделать снова ставку на будущее, на этот раз на то будущее, которое он увидел в Берлине, на парады германской армии, на переговоры с промышленниками, на этот чудовищно многолюдный нацистский митинг? И в то же время он чувствовал, что американские доллары ему ближе, что ему ближе Соединенные Штаты, которые не уступят своего места никакому конкуренту. Здесь у него под ногами была твердая почва. «Кто будет управлять завтра этой фазендой?» – спрашивал он себя, еще раз глядя на интегралистское шествие. Лучше начинать одному, облачившись в националистическую тогу, вызывающую симпатии, и подождать, пока время подскажет окончательный выбор. Он подумал о том, что надо бы дать указание финансируемым им газетам: для видимости начать кампанию за необходимость развития национальных капиталов, за создание бразильских акционерных обществ для эксплуатации естественных богатств страны. Здесь все должно быть хорошо сбалансировано: немного насчет патриотизма, немного насчет независимости и прогресса, а в целом это была бы хорошая реклама для нового «Акционерного общества долины реки Салгадо», и это тоже в известной мере повысило бы его цену в глазах американцев и немцев… «Каждый торгует, чем может, а у меня есть – я наверняка их буду иметь – эти огромные земли с лесами и реками, зверями и людьми, плантациями и минералами, с марганцем, которого все так жадно домогаются…» С высоты балкона он, кажется, узнал одного из командиров шествия интегралистов. Напряг зрение – да, это был он, его врач, профессор медицинского факультета доктор Алсебиадес де Мораис. Одетый в зеленую рубашку с нашивками, он, видимо, был, по меньшей мере, бригадиром или полковником; маскируя свою озабоченность свирепым выражением лица, он производил почти комическое впечатление. Банкир не засмеялся только потому, что как раз в этот момент профессор поднял взор и, увидев его на балконе здания банка, энергично что-то скомандовал своим людям. Отряд поднял руки в интегралистском приветствии и дважды проревел «Анауэ!» в честь Коста-Вале. Профессор Алсебиадес в воинственной позе повернулся к зданию с вытянутой рукой. Банкир какой-то миг поколебался, но затем тоже поднял руку, и голос его был подобен благословению: – Анауэ! Врач скомандовал еще раз, после чего его колонна проследовала на соединение с другими отрядами, уже строившимися на площади да Сэ. На улице собрались прохожие, которые теперь, когда шествие уже прошло, показывали на банкира, в одиночестве стоявшего на своем балконе. Воцарилось грозное молчание. Эта враждебность исходила от людей, остановившихся на тротуарах, она все нарастала и, казалось, поднималась к балкону банка. Коста-Вале начал ощущать ее и невольно поискал глазами солдат патруля. Но ничего не случилось, если не считать этого тягостного молчания, этих немых взглядов. Банкир пожал плечами, как бы отгоняя этим пренебрежительным жестом охвативший его страх, показавшийся ему сейчас смешным, и вернулся в свой кабинет, где опять остановился у карты. Он стал размышлять о странах и о людях: о Германии и Соединенных Штатах, об Англии и Испании, о Рузвельте, Гитлере, Муссолини и Франко. Лишь на мгновение он вспомнил о Бразилии. Это было, когда его холодный взгляд остановился на красных кружочках, указывающих на карте, где сертанежо[69] и кабокло[70] обработали участки, немного расчистив лесную чащу. «Больные и невежественные люди, – подумал он, – нужно будет прогнать их оттуда как можно скорее и заменить хорошими немецкими или японскими колонистами…» А что, если включить в свои планы профессора Алсебиадеса де Мораиса? Это неплохая мысль – крупный врач для руководства работами по оздоровлению района. «Подлинно патриотическое дело», – улыбнулся он, подумав о статьях, которые появятся в газетах; в результате этих работ весь район станет пригодным для приема будущих рабочих и колонистов. Теперь его устремленные на карту глаза видели на ней будущее этого района: дома немцев или японцев, заменившие хижины крестьян, расчистивших в свое время участки; действующие рудники; пароходы на реке, перевозящие руду; аэродромы с приземляющимися самолетами. И на этой земле на высоком флагштоке развевается флаг владельца территории. Но чей флаг? Соединенных Штатов с полосами и звездами или Германии со свастикой? На лице банкира промелькнула улыбка, он провел рукой по лысине; решать это будет он, в его власти принять то или иное решение. На здании напротив развевался по ветру бразильский флаг. Коста-Вале, охваченный пылкими мечтами перед сложной картой рек и лесов – своих будущих владений, – даже не заметил национального флага. 5
Мануэла принесла чашку кофе и поставила ее на стол; она ступала на цыпочках, чтобы не побеспокоить своего занятого брата. Но Лукас почувствовал, что она подошла, и поднял голову от стола, за которым работал. – Трудно, но получается… Мануэла нежно улыбнулась и с сердечной лаской провела тонкими фарфоровыми пальчиками по волосам брата. – Для тебя нет ничего трудного… Лукас протянул руку, обнял ее за талию, привлек к себе. – Ну, как твое увлечение? – Глупости… Богатый молодой человек, аристократ, дипломат… Ничего из этого не получится… Будет он интересоваться какой-то бедной девушкой… Не отпуская Мануэлу, Лукас взял чашку кофе и стал пить его, смакуя, маленькими глотками. Мануэла разглядывала носки своих туфель. – Он такой благовоспитанный, так отличается от всех других… – И, когда она упомянула о других, то вспомнила о мужчинах с их улицы, о приказчиках, о распутном старике, обо всем окружающем ее мире. – Я даже не знаю, как с ним разговаривать… Мы как-то завели беседу о танцах; оказалось, что он и в этом прекрасно разбирается. Он вообще так умен и образован… – Мануэла заколебалась, как бы не решаясь открыть брату большой секрет. – Он мне сказал, что, если я захочу, он сможет меня представить самой Марии Яновой… – Кто это? – спросил Лукас, ставя чашку на стол. – Преподавательница танцев, у нее своя студия. Знаешь, мне все это кажется просто невероятным… Столько перемен за последние дни, Лукас… я даже боюсь… – Чего ты боишься? – У тебя теперь хорошая работа в министерстве, мы переезжаем на новую квартиру; появился этот молодой человек, он знаком со всей театральной публикой, советует мне серьезно заняться танцами… И все это произошло так быстро… Для Лукаса теперь все казалось слишком медленным. Получив первый импульс, он ринулся вперед и всеми средствами стал пробивать себе дорогу. – Тебе в самом деле хочется стать балериной? – Я боюсь, у меня ничего не получится. Ведь этому надо учиться с детства, а я никогда не занималась. Но Пауло утверждает, что важно иметь призвание и что мое будущее либо в балете, либо в мюзик-холле… Прямо даже не знаю… – Мы вскоре сможем взять прислугу для присмотра за ребятами, тогда ты будешь иметь возможность заниматься… – Я думаю, можно начать и раньше. Заниматься хотя бы несколько часов, раза три в неделю, а тетя Эрнестина присмотрит за детьми… Ты согласен? Лукас подумал. – Ну что ж! Если ты этого так хочешь. Только не мюзик-хол. Это не карьера для порядочной девушки. Балет – другое дело… А этот юноша, какие у него по отношению к тебе намерения? – Какие намерения?.. Мы встречались всего несколько раз… Он держит себя совершенно иначе, чем другие, даже еще ни о чем со мной не говорил… – Ничего о любви? – Ни слова. Иной раз лишь скажет мне комплимент по поводу моих волос, рук, глаз – только и всего. – И не пытался тебя поцеловать? Мануэла улыбнулась. – Нет… Нет еще… – Будь осторожна, Мануэла. Он тебе, возможно, что-то даст, постарается быть полезным, но что потребует взамен? Бери то, что он тебе предложит, но не давай ему того, чего он попросит… – Но ведь не от нас зависит, отдать или не отдать свое сердце… – Конечно, но я же не о сердце толкую… Иди пока, дай мне закончить работу, в другой раз поговорим. Она вышла, и Лукас выкинул из головы все, что рассказала ему сестра. Он сочинял свою первую речь. Всего только неделю, как он поступил на работу в министерство труда, а ему уже поручили выступить в этот вечер по радио от имени торговых служащих. Его друг Эузебио Лима, приверженец Жетулио, был им очень доволен. – Перед тобой будущее, парень. С такими идеями ты далеко пойдешь. Работая с 1930 года в министерстве и развернув свою деятельность в профсоюзах, Эузебио стал «опытным специалистом по трабальистской политике», как выражались в правительственных кругах. Он прибыл в Сан-Пауло с важной миссией: подготовить почву к посещению Варгасом центра оппозиции. Оно должно было состояться якобы по приглашению трудящихся и завершиться грандиозной рабочей манифестацией в честь диктатора, который произнесет при этом речь, намечающую пути социальной политики нового режима, режима «примирения классов», гармонии между капиталом и трудом. Эта манифестация послужила бы предупреждением политическим деятелям, настроенным враждебно по отношению к новому режиму, помогла бы расширению социальной основы, на которую опирается правительство, и этим нанесла бы удар коммунистической партии. Еще до переворота Эузебио развил лихорадочную деятельность: он вступил в переговоры с полицейским начальством, с интегралистами, с агентами министерства в профсоюзах, поддерживая связь с владельцами фабрик и с американцами из «Лайт энд пауэр». В первый же вечер после установления нового режима радио агитировало за организацию такой манифестации. Уже готовились выступления «представителей» трудящихся классов, которые должны были заявить о своей поддержке «нового государства» и пригласить Жетулио посетить Сан-Пауло, чтобы он мог воочию убедиться в поддержке нового режима всем населением. Лукас должен был выступить от имени торговых работников; бывший служащий текстильной фабрики, который во время забастовки был шпиком, а теперь служил полицейским агентом, произнесет речь от текстильщиков; агенты министерства должны были представлять другие отрасли промышленности. Лукас сумел за эти немногие дни сделаться незаменимым для Эузебио Лимы. Не он ли разрешил трудности с устройством этой манифестации? Эузебио очень опасался, что рабочие не придут. С американцами и хозяевами различных предприятий он уже договорился, что в день манифестации работа будет прекращена раньше обычного. Он рассчитывал также на интегралистов, на полицейских агентов, наконец, даже на сотрудников министерства – они пойдут в колоннах, будут подобно клакерам вызывать аплодисменты, кричать: «Да здравствует Жетулио!» Но что, если рабочие, неожиданно освободившись раньше срока, не пойдут на манифестацию, а отправятся по домам? От такой манифестации получилось бы мало толку, политический результат ее без участия рабочих будет невелик. И вот Лукас предложил: – А что если мы организуем это на футбольном стадионе, причем после речей устроим хороший матч между двумя популярными командами? Будет полным-полно, все придут посмотреть на футбол… – Это идея! Одна команда из Рио, другая – из Сан-Пауло… Ты подал хорошую мысль, Лукас… – Эузебио Лима воодушевился: – Я тебя представлю лично доктору Жетулио. Ты далеко пойдешь… Когда Лукас завершил, наконец, сочинение своей речи, он прочел ее вслух. Мануэла вернулась и, сидя на стуле, слушала брата с восхищением и любовью. По окончании чтения она спросила: – Он на самом деле так хорош, этот Жетулио Варгас? Заслуживает он такой похвалы? – Хорош или плох, откуда мне знать… Но я знаю, что с ним пойду в гору. Он правит один, делает все, что хочет и что считает нужным, понимаешь? Эузебио обещал представить меня президенту… Или ты думаешь, что я собираюсь остаться навсегда в министерстве за конто в месяц? – Мне иной раз страшно… – Ты трусиха. Ну, хорошо, можешь пойти с этим юношей к преподавательнице танцев, если только это будет не слишком дорого… Можешь пойти с ним в кино, если он тебя пригласит… Когда я буду богат, пошлю тебя учиться в Европу… В этот вечер в Сан-Пауло впервые прозвучало имя Лукаса. После завершившегося аплодисментами выступления по радио профессора медицинского факультета Алсебиадеса де Мораиса диктор объявил: – А теперь вы услышите выдающегося лидера паулистских торговых служащих сеньора Лукаса Пуччини, который выступит с приветствием достопочтенному главе правительства, создателю Нового государства Жетулио Варгасу. Большинство слушателей не обратило внимания на это неизвестное имя. Лишь Мануэла, склонившись у соседей над радиоприемником, с гордостью слушала звучный голос диктора, произносящий имя ее брата. 6
Речь Лукаса, переданная крупной радиостанцией среди выступлений профессоров и политических деятелей, была для Мануэлы вознаграждением за тоскливый характер этого смутного дня государственного переворота, помешавшего Пауло приехать для очередной вечерней беседы, составлявшей теперь лучшую часть ее жизни (Пауло приезжал всегда на такси; вероятно, на это он должен тратить целое состояние). В конце дня Мануэла получила от него телеграмму: «Приехать сегодня не могу. Ожидаю тебя завтра ровно три кондитерской «Идеал» улица Маркони. Хочу представить тебе одного друга. Очень люблю тебя. Пауло». Впервые он признался ей в любви и сделал это телеграммой. Но даже и так Мануэла почувствовала, что ее охватило какое-то блаженное волнение. Для нее наступили дни грез. Этот красивый и благовоспитанный юноша, знаток поэзии и живописи, с надменным и иной раз каким-то отсутствующим видом рассказывавший ей о стольких незнакомых, прекрасных вещах, захватил ее полностью, и она даже не понимала, как можно было жить столько лет, не зная его, – возможно, потому и была раньше так печальна ее жизнь. Для нее достаточно было вечернего посещения Пауло – часа, который он проводил с ней, либо гуляя по улице, либо беседуя на скамейке в маленьком сквере, – чтобы сделать ее счастливой. Мануэла сказала Пауло, что брат ищет небольшую квартирку в центре и уже присмотрел подходящую на площади маршала Деодоро. Пауло мечтал, что, когда она переедет, они вместе будут совершать прогулки, посещать выставки, концерты. И больше всего Мануэлу волновало то, что он хотел помочь в самом главном, в ее страстном желании танцевать. Он был со всеми знаком, знал всех этих таинственных и далеких людей, имеющих отношение к театру и литературе, – людей, портреты которых Мануэла встречала в журналах. – Я открыл тебя, – заявлял он, – и сделаю из тебя звезду. Я буду твоим Пигмалионом… Она не знала, кто такой Пигмалион, но разрешала убаюкивать себя словами, которые юноша нашептывал, гладя руку Мануэлы и смотря на нее, как на редкостную фарфоровую статуэтку. – Знаешь, ты очень, очень красива! Одна из немногих по-настоящему красивых женщин, которых я когда-либо видел… Ему нравилось ласкать ее волосы, перебирать руками пряди их. Однако ни слов любви, ни ожидаемого классического признания, ни попыток поцеловать ее… Это было так странно, что начинало ее пугать. А что если он ее не любит, если он просто ценит ее как друга? Ведь она почувствовала, что уже полюбила его со всем пылом своего юного сердца. И она грезила о нем: перед ней возникало благородное лицо с аристократическим профилем; ей слышался спокойный, размеренный голос. На улице уже начали сплетничать о ней, даже тетя Эрнестина смотрела на нее осуждающими глазами. Мануэла боялась только одного – как посмотрит на все это Лукас. Но тот сегодня сказал, что не возражает. Тетя Эрнестина, ворча, передала ей телеграмму. Сколько раз Мануэла ее перечитывала! Дошло до того, что она выучила весь текст наизусть, без конца повторяя простые и страшные слова: «Очень люблю тебя…» Она спрятала телеграмму на груди и, когда Лукас кончил говорить и по радио послышались аплодисменты, снова перечла ее. 7
Одеваясь, чтобы ехать на обед к Коста-Вале, поэт Шопел слушал признания Пауло. Он потребовал, чтобы тот рассказал по порядку – так он мог лучше во всем разобраться и получить большее удовольствие от рассказа. – Начинай с начала, Паулиньо. Начни с Боготы, цвет фамилии Маседо-да-Роша, начни с этого нашумевшего скандала, с этой олимпийской забавы, с этой вольной американской борьбы с супругой чилийского посла в целомудренно-провинциальнейшей Боготе… Рассказывай не торопясь и методически, дружище, чтобы мне все стало ясно… А уже потом перейди к этой безумной романтической страсти в итальянских кварталах Сан-Пауло… Пойдем от пола к сердцу… Пауло еще раз рассказал о своей попойке, о вызывающем поведении сеньоры Аделы, о драке с другими гостями. Поэт слушал, улыбаясь, у него чуть не текли слюнки от удовольствия при каждой пикантной подробности этого потрясающего скандала. – Так вот что, дружище! По-моему, Жетулио должен дать тебе повышение. Во-первых, за выдающийся спортивный успех в борьбе: один бразилец против десяти с лишним колумбийцев, да еще против чилийского супруга… – Нет, муж не вмешивался, он был еще более пьян, чем я, – не мог даже встать со стула… – Во-вторых, за ту пользу, которую этот скандал принес гениальной политике Жетулио. Он его всячески использовал против армандистов. Ты больше недели не сходил со страниц газет как символ коррупции, упадка, несостоятельности политических деятелей Сан-Пауло. Твое имя стало синонимом разврата, порока, отсутствия патриотизма. Это была замечательная дымовая завеса для переворота. Бедный Артурзиньо вертелся, ходил сам не свой от всего того, что писали газеты… – Что ж, если так, пусть Варгас даст мне повышение… как минимум – консульство в Париже… Может быть, ты посоветуешь ему… – А как же с твоей романтической любовью? – Ну… Париж безусловно стоит искупительной мессы… А это любовное увлечение, Шопел, относится к числу тех, которые, будучи очень глубокими, однако, скоро проходят. Ты знаешь, полевые цветы очень красивы, но, когда их сорвешь, держатся недолго… – А ты уже сорвал? – Нет, до этого еще далеко. Самое приятное заключается именно в том, чтобы постепенно завоевывать эту невинность, добиваться изо дня в день все большего доверия и видеть, как девушка преображается. Но у меня дело лишь в самом начале… Он рассказал о встрече в луна-парке, о беседах на улице в пригороде и предложил Шопелу встретиться на другой день втроем, чтобы поэт познакомился с девушкой и оценил по достоинству ее красоту. – Она удивительно хороша. Она напоминает увековеченных в живописи красавиц эпохи Возрождения. Просто совершенство! И к тому же какое призвание к балету! Хочет танцевать, это для нее все. – У нее на самом деле есть призвание? – Я еще не видел, как она танцует, но говорит она об этом с такой страстностью, что, возможно, у нее действительно есть способности… Я думал показать ее Яновой; может быть, она ею заинтересуется… Поэт уселся на кровати, которая заколыхалась под его тяжестью, и поднял толстый палец. – Что такое Янова? Это чепуха, Паулиньо. Мы придумаем кое-что получше. Сделаем из твоей божественной красотки крупную театральную сенсацию. Может быть, Янова научит ее некоторым па, но гораздо важнее раздуть вокруг ее имени широкую рекламу. Поместить несколько статей и заметок в журналах и литературных приложениях, показать ее здесь и в Рио, создать соответствующую атмосферу… А дальше успех обеспечен. – Сфабриковать звезду? – А что ты думаешь? Это замечательный план, мы посмеемся до упаду… Наша Бразилия, Пауло, – страна дикарей и шарлатанов. Если кто-нибудь утверждает, что он что-то умеет, как бы это ни было трудно, всегда найдется кто-нибудь, кто этому поверит. Важно только утверждать смело и цинично. Вообрази, если это сделаем мы, избранные люди страны, девочка будет иметь огромный успех! Пауло почувствовал искушение. – Да, это соблазнительно… Но как же с девочкой? Она, бедная, примет все всерьез… – Она не должна знать, что это шутка. А потом кто знает, как все обернется? Может быть, она и на самом деле будет иметь успех. Худшее, что может случиться: она кончит статисткой в одном из мюзик-холлов Рио или хористкой на подмостках театра. А судя по тому, что ты рассказываешь о ее жизни, это все-таки для нее будет прогресс. И представь себе, как мы развлечемся… – Как в случае с Сибилой… – Да, ты помнишь?.. Эта слабоумная была кассиршей в книжной лавке. Кому тогда пришла в голову идея? Ведь тебе, не так ли? Я сейчас просто подражаю тебе… Они стали вспоминать историю Сибилы, сорокалетней полуидиотки, служившей кассиршей в магазине католической книги, где Шопел был управляющим. У несчастной возникло стремление к какой-то особой, возвышенной интеллектуальной деятельности, и Пауло убедил ее заняться живописью. Сибила не могла сделать ни одного штриха, но накинулась на полотна и краски, тогда как Пауло, Шопел и их друзья подняли в художественных и литературных кругах шум о только что открытом крупном даровании художницы, о таланте Сибилы – «самоучки, которая оставит далеко позади всех современных художников страны». Кассирша устроила выставку своих картин, бросила работу, начала подвизаться в художественных кругах, расхаживать в наводящих ужас одеяниях. – Но было ведь немало критиков, которые расхваливали ее всерьез… Это пропащая страна, Паулиньо. Знаешь, всего каких-нибудь две недели тому назад появилась огромная статья нашего выдающегося художественного критика Силвы Нето по поводу живописи Сибилы. Он сравнивает ее мазню с русской иконописью… Шопел продолжал с воодушевлением: – Это невероятно… Мы думали, что на выставке Сибилы все умрут со смеху, а услышали хор похвал… В смысле невежества, Паулиньо, эта страна оставляет далеко позади даже Золотой Берег или Анголу… Я предвижу потрясающий успех твоей балерины. Но мы должны обдумать это дело спокойно, разработать его во всех деталях… Эх, и позабавимся же мы! Все, что нам сейчас остается, Паулиньо, – постараться получше развлечься. Жетулио у власти; теперь на долгие времена удовольствие станет всеобщим лозунгом. Последуем же примеру президента… Он поднялся, чтобы переодеться. Пауло, собиравшийся ехать в дом Коста-Вале только после обеда, растянулся на кровати. – А как ты думаешь, не выступить ли ей с негритянскими плясками? – Нет, дружище, никаких негров сейчас не надо: при фашистском правительстве это окажется не в моде. Пока будут командовать интегралисты, мы все должны быть немного расистами. Лучше подумать об индейских танцах. Это носит вполне националистический характер, а национализм при Новом государстве в почете. Надо придумать ей хорошее имя… Да, кстати, как ее зовут? – Мануэла… – Не годится, слишком португальское имя. – Не португальское, а итальянское. – Нет, нужно что-нибудь чисто бразильское, туземное. Ирасема?.. – Шопел сделал недовольный жест. – Нет, слишком избито… Старина Аленкар[71] дискредитировал его… Жандира… Что ты думаешь насчет Жандиры?[72] Вот, послушай: «Жандира, богиня девственных лесов, выступит с религиозными танцами индейцев…» Каких индейцев? – Айморес, быть может… – Нет, лучше шавантес: они людоеды, еще недавно пожирала английских исследователей и миссионеров[73]… Это произведет большее впечатление… – Он закончил переодевание. – Ты подумай со своей стороны, я – со своей, а по возвращении от Коста-Вале обсудим все подробно. Да, Паулиньо, ты имеешь какое-либо представление, что нужно от меня Коста-Вале? Я просто сгораю от любопытства. Его телефонный звонок – прямой приказ: вылетай первым самолетом, чтобы сегодня со мной пообедать. Что ему, чорт возьми, нужно? Пауло жестом показал, что он понятия не имеет. – Я сейчас вообще ничего не знаю, кроме того, что по уши влюблен. Страсть немного глупая, но очаровательная… – Да, мой мальчик, эти мещаночки восхитительны. И потом они отличаются такой верностью, такой привязанностью… – Это уже пошлость… Поэт вздохнул: – А вот у меня все иначе: я люблю – меня не любят, я хочу – меня не хотят. – Все еще Алзира? – Все еще она. И всегда будет она. И кончится тем, что она выйдет за меня замуж, но никогда не перестанет обманывать. Я вижу перед собой опасность, но не могу избежать ее… Я знаю, что меня ждет печальная участь, но что поделаешь? – Может быть, я тоже женюсь… – Ты? Это невозможно… – Вполне возможно: меня женят… Мариэта лелеет план, – ты ведь знаешь, что она всегда была для меня вроде матери. Она теперь вбила себе в голову, что я должен жениться на одной из племянниц комендадоры да Toppe… Только сегодня она больше получаса обрабатывала меня… – Но, друг мой, ты понимаешь, что это значит? Это же миллионы, это одно из крупнейших состояний в Бразилии… – Ослепленный завистью, поэт вытаращил глаза. – Вот что значит родиться аристократом… Мальчик, не спорь, хватай эти миллионы, поезжай в кругосветное путешествие и возьми меня секретарем… – Шопел стал перечислять выгоды, которые тот получит от его предложения: – Когда ты очень устанешь от жены, я буду возить ее в театр, к портнихе, в кафе… – Я предпочту взять в качестве секретаря Манузду… Это удобнее и менее угрожало бы моей безопасности как супруга… Мне еще не удалось оценить удовольствие быть обманутым… Поэт закатил свои огромные глаза, прищелкнул языком. – Ах, это – утонченное наслаждение, для избранных… Больно, но приятно… Я говорю потому, что знаю… – И он вышел, продекламировав на прощанье стихи из своей последней поэмы: Я унижением хотел бы насладиться. Плача, искать тебя на ложе грязном, Простить твои грехи, прекрасно сознавая, что ты опять уйдешь, И снова на коленях твоей любви молить… 8
Интимная вечеринка в доме Коста-Вале закончилась очень поздно. Только банкир рано ушел к себе, захватив принесенные из банка бумаги и отчеты: он, видимо, решил поработать перед сном. После обеда, оживленного разговорами о перевороте и, в частности, новостями, привезенными Шопелом из Рио, банкир отправился со своим гостем в кабинет, тогда как Мариэта и Энрикета остались с Пауло и Сузаной Виейра. Беседа между капиталистом и поэтом длилась недолго. Но когда они снова появились в зале, лицо Шопела было преисполнено озабоченности и достоинства, он сразу потерял легкомысленный вид человека, не обремененного серьезными обязанностями. Энрикета сказала: – Похоже, что вы получили нахлобучку, сеньор Шопел… – Серьезный деловой разговор, – сказал Коста-Вале. – У нашего поэта есть интересный план, но это пока секрет. Немного погодя банкир удалился, оставив гостей с женой слушать музыку и пить виски. Они лениво продолжали беседу, потягивая виски и слушая пластинки, которые Пауло менял на радиоле. Растянувшаяся в шезлонге Мариэта была довольна интимным характером вечера: она могла спокойно любоваться Пауло, поскольку, за исключением маленькой лампы с абажуром, огни были погашены. Испытывая счастье оттого, что она предоставлена самой себе, Мариэта вполголоса напевала песенки. Энрикета и Сузана спорили о самбе и румбе. Поэт Шопел после совещания с Коста-Вале утратил свою обычную веселость. Погруженный в глубокие размышления, он без всякого интереса поддерживал разговор, кое-как отвечая на вопросы, и воодушевился лишь тогда, когда Энрикета, возбужденная спором и виски, решила показать Сузане, как танцуется настоящая самба – танец негров и мулатов, самба столичных трущоб Фавелы и Мангейры. Они разошлись на рассвете, причем Мариэта за все время даже не тронулась с места. Пауло довольно долго сидел на полу у ее ног, и она ласково гладила его волосы. Энрикета дремала на диване, вернее, опьянев, просто спала. Сузана Виейра, на автомобиле которой Пауло и Шопел отправились домой, была тоже изрядно навеселе, и поэт шумно протестовал против того, как она рулила: она вела машину по улицам зигзагами, едва не задевая за столбы. Пришлось остановиться и передать управление Пауло. Сузана пересела на заднее сиденье рядом с поэтом и начала ему рассказывать историю без начала и конца, сложную любовную авантюру с неизвестным художником-пейзажистом, с которым она познакомилась на пляже в Сантосе. Несмотря на то, что история содержала некоторые живописные подробности, она не заинтересовала поэта; он рассеянно поглядывал на пустынную улицу, мысли его витали далеко: он думал о поразительно заманчивом предложении Коста-Вале. Внезапно Пауло остановил автомобиль, обернулся и сказал им: – Смотрите! Смотрите! – Что? – На стенах… Сузана протяжным, пьяным голосом прочитала по складам написанные черной краской буквы: – До-лой «но-во-е го-су-дар-ство»! В пьяном возбуждении она начала выкрикивать: – Да здравствует Сан-Пауло! Да здравствует доктор Армандо! Видите – паулисты уже действуют… Это начало… Но Шопел продолжал читать дальше: – Да здравствует Престес! Да здравствует Коммунистическая партия Бразилии! – Это коммунисты… Пауло покачал головой. – Вот черти, а? Ведь надо же обладать мужеством, чтобы в первую ночь после переворота делать такие надписи на стенах! Поэт пробурчал вполголоса: – Нужно уничтожить эту свору. Пока они существуют, никто не может быть спокоен… Пауло засмеялся и нажал педаль; машина тронулась. – Ты рассуждаешь как богатый буржуа, а не как католический поэт, долг которого прощать врагам… Поэт не ответил, его глаза шарили по стенам, стремясь разобрать повторявшиеся на каждом шагу пугающие надписи; он читал только половину написанного, догадываясь о конце фразы: – Смерть интегралистам! Его охватывал страх, гнетущий страх перед этими преследуемыми и сопротивляющимися людьми, действующими из глубины подполья, угрожая устойчивости солидных состояний; страх перед опасностью, нависшей над обществом, а стало быть, и над проектами Коста-Вале – этими замечательными планами, которые должны были превратить поэта Шопела из мелкого книгоиздателя, интеллигента с вечно пустыми карманами, в делового человека, во внушающего боязнь и уважение капиталиста, перед которым все бы стали заискивать… Ох, эти коммунисты! В первую же ночь после государственного переворота они уже борются против только что установленного режима, как будто их не пугает новая конституция, составленная по фашистскому образцу, как будто они не читали экстренных выпусков газет, почти ничего не сообщавших о деталях переворота, но единодушных в том, что создавшееся в стране положение выявило настоятельную необходимость положить конец коммунистической агитации, «красной опасности», подпольной деятельности «экстремистских элементов». Генералы и политические деятели, помещики и фабриканты, кардинал и начальник полиции Рио-де-Жанейро употребляли почти одинаковые слова, чтобы прославить Новое государство, утверждая, что оно бесповоротно покончит с коммунистами в Бразилии. Начальник полиции резюмировал все в резкой угрозе, напечатанной крупным шрифтом на всю страницу в одной из вечерних газет: «Я не оставлю на свободе ни единого коммуниста. Новое государство навсегда очистит Бразилию от красной чумы». Однако даже в эту первую ночь их присутствие ощущалось в надписях, сделанных огромными неровными буквами на стенах города. Так же они действовали и в других городах – в Рио, Баие, Порто-Алегре, Бело-Оризонте, Ресифе и Белеме, – действовали, несмотря на бесчинства интегралистов, творящих насилия на улицах, несмотря на постоянное патрулирование городов вооруженными солдатами и политической полицией. Если бы их схватили и арестовали во время этой опасной работы, им бы ничто не могло помочь; несмотря на это, они продолжали действовать. Надписи повергли поэта в ужас перед сплоченностью «банды»: чего только ни замышляли коммунисты, пробираясь на фабрики, агитируя на улицах, отравляя сознание тысяч людей? Сузана Виейра мирно похрапывала, но трусливое сердце поэта сжалось от испуга. Голос Пауло отвлек его от мрачных мыслей: – Смотри-ка, Шопел, они развесили красные флажки на электрических проводах. Ну и дьяволы!.. Шопел напряг зрение и вытянул шею, чтобы лучше видеть, как на электрических проводах раскачиваются эти маленькие красные флажки, заброшенные при помощи обвязанных шпагатом камней. Агенты политической полиции с револьверами в руках бежали по площади, подъезжали все новые полицейские машины, спугивая своими гудками тишину ночи. Над агентами и автомобилями, сиренами и револьверами, над толстым, трясущимся от страха поэтом на предрассветном ветру весело развевались красные флажки. 9
Много надписей на стенах сделала Мариана за четыре года своей партийной работы, в особенности в период деятельности Национально-освободительного альянса. Она любила эту работу; маленькой группой отправлялись они по ночам, неся банки с краской и кисти; часть товарищей становилась на страже в обоих концах улицы; быстро писались надписи, двумя штрихами изображался серп и молот – символ борьбы, которую они вели против буржуазного общества. Казалось, то была самая простая работа, подобная азбуке для членов партии, но она требовала спокойствия и присутствия духа, мужества и призвания к этому опасному делу: нередко группа «живописцев» попадала в руки полиции, и их обычно избивали еще до начала следствия. Полицейские агенты ненавидели этих своеобразных представителей «стенной живописи», и, когда им удавалось кого-нибудь поймать за работой, они вымещали на нем всю свою ярость. Не один товарищ из числа захваченных «на месте преступления» был убит при попытке к бегству. Так погиб молодой текстильщик, товарищ Марианы по работе на фабрике комендадоры. Ей, однако, всегда очень везло. Она, правда, пережила несколько тревожных моментов, однажды чуть было не попала в руки полиции. Она вместе с товарищами писала лозунги на центральных улицах, и их случайно увидел сторож банка, который сразу же позвонил в полицию. Не подозревая об этом, они спокойно продолжали работу. Полицейские оцепили соседние улицы и, если бы не случайно окончившийся в это время дополнительный ночной сеанс в кино (агенты думали, что кинотеатр уже закрыт: было больше часа ночи), их бы, конечно, арестовали. Однако Мариана и ее товарищи смешались с выходящими из кино людьми, и полиция не сумела разыскать их в шумной толпе. В другой раз Мариану спасло только присутствие духа. Они пошли маленькой бригадой из трех человек – Мариана и еще двое товарищей, – один из них остался сторожить, расхаживая по улице от угла до угла. Случилось так, что углы эти были довольно далеко друг от друга, и когда полиция появилась на одном углу, то стороживший товарищ оказался на другом конце улицы. Полицейские медленно ехали на патрульном автомобиле. Мариана бросила кисти, швырнула банку с краской в подворотню, взяла товарища под руку, и они пошли по улице навстречу полиции в романтической позе влюбленных. Другой товарищ успел скрыться, завернув на соседнюю улицу. Много раз работа прерывалась из-за предупреждающего свиста товарищей, стоявших на страже: они начинали насвистывать заранее условленную арию; тогда писавшие лозунги прятали краску и кисти и исчезали в темноте. Поэтому иногда эти надписи оставались незаконченными, но и они вдохновляли на борьбу, придавали народу силу для оказания сопротивления интегралистам, для борьбы с нищетой. Мариане было приятно видеть, когда она ехала в трамвае на работу, эти надписи на стенах, возникшие во мраке ночи, несмотря на постоянную угрозу со стороны полиции. Она наблюдала, с каким любопытством пассажиры трамвая и прохожие читали лозунги: «Свободу Престесу! Требуем амнистии!» В эту ночь с десятого на одиннадцатое ноября 1937 года Мариана снова писала лозунги на стенах. Когда она вернулась домой из этой опасной экскурсии, то почувствовала себя встревоженной: что-то скажут товарищи из руководства, как будет реагировать Руйво, когда он узнает? И как воспримет товарищ Жоан такое нарушение дисциплины? Да, это было нарушение, и серьезное нарушение. Не отстранят ли ее, чего доброго, от всех поручений партии, не будет ли ей даже запрещено встречаться со старыми товарищами из низовых организаций, участвовать в собраниях? Разве у нее не было гораздо более важного и сложного поручения? Разве она не знала, что ее арест представлял бы опасность для всей партийной организации Сан-Пауло? Обо всем этом она думала уже по возвращении, растянувшись на своей заржавленной, узкой девичьей койке. Но как она могла устоять? Она надеялась, что товарищи поймут ее и не слишком сурово отнесутся к ее проступку, что на устах Руйво не погаснет его обычная сердечная улыбка и товарищ Жоан не встретит ее одной из резких неодобрительных фраз, которых больше всего боялась Мариана. Теперь она была связана с ними обоими и, несмотря на возвращение Руйво из Рио-де-Жанейро, встречалась иногда и с товарищем Жоаном для получения бумаг или передачи записок. Она даже сегодня виделась с ним и по его поручению разыскивала партийных работников, которые нужны были для принятия срочных мер в связи с новым положением, создавшимся в стране. То был напряженный день – она успела наспех пробежать страницы газет во время поездок на трамвае; ненависть при виде интегралистских шествий в городе, солдатских патрулей, быстро мчащихся полицейских автомобилей сжимала ей горло. В этот вечер Мариана побывала во всех районах Сан-Пауло, передавая распоряжения. Товарищ Жоан, которого она утром застала в его убогом домишке за чтением экстренных выпусков газет, напутствуя ее, сказал: – Будь как можно осторожнее, Мариана. В первые дни они способны на все. Важно сейчас объединить все демократические силы, чтобы воспрепятствовать дальнейшей фашизации страны. Рабочие должны показать, что они отвергают новую конституцию, создают единый фронт, чтобы помешать ее проведению в жизнь. Реакция должна почувствовать оппозицию трудящихся перевороту. Надо сегодня же написать лозунги на улицах, развесить красные флажки на проводах и начать подготовку к всеобщей забастовке. Иначе мы не воздействуем на этих политиков, именующих себя демократами, считающих, что все уже потеряно. Она слушала, и голос Жоана наполнял ее уверенностью. В этот день, более чем когда-либо, он казался ей человеком несгибаемой воли и силы. На его лице не было заметно никаких признаков усталости, хотя он наверняка за всю предыдущую ночь ни на минуту не сомкнул глаз. Мариана взяла себя в руки, чтобы держаться спокойно и не высказать тревоги за безопасность товарищей, в особенности Жоана, который как ответственный партийный руководитель неоднократно бывал в низовых организациях, вел переговоры с политическими деятелями из различных партий, причем многие знали его в лицо. За время, прошедшее после вечеринки в день ее рождения, она почувствовала, что в ней растет, несмотря на все ее усилия овладеть этим чувством, горячая нежность к товарищу Жоану, внешняя суровость которого не могла скрыть гуманности его души. Иногда она ощущала и в нем особый интерес к ней, будто и им владели подобные чувства и он отгонял от себя те же любовные мысли, которые заполняли сны Марианы. Спрятав на груди бумаги и повторяя про себя то, что она должна передать Руйво, Мариана на прощанье протянула Жоану руку. – Осторожность и осторожность, – наставлял он. – Прежде чем войти в какой-нибудь явочный пункт, убедись, что за тобой не было слежки, что там нет полиции… Помни, на карту поставлена не только твоя свобода, но и судьба руководства партии. – Я буду осторожна. Он взглянул на нее так, как изредка эго делал, со скромной ласковостью. – Ты так же мужественна, как твой покойный отец. Он хотел сказать ей и многое другое; он ведь мысленно сопровождал Мариану в ее опасных переходах по городу. Жоан был совершенно неопытен в любовных делах, он даже не представлял себе, что Мариана способна заинтересоваться им. И как хороший коммунист, он боялся смутить или обидеть ее, дав почувствовать любовь, которая нарастала у него в душе. А кроме того, в эти напряженные дни и нельзя было думать о подобных вещах. Когда-нибудь, когда политические дела станут лучше, он сумеет сказать ей, что хотел бы жениться на такой, как она… А кроме того, за это время Мариана к нему привыкнет; он на это рассчитывал. Лежа в постели, Мариана припомнила, как за фразой Жоана последовала минута молчания, полная ласки, не произнесенных нежных слов, оставшихся в глубине сердца. Она почувствовала в этот момент, что не безразлична ему, поняла, что и она его любит. Именно поэтому Мариана еще больше страшилась его осуждения: словно на ней и не лежало никакой серьезной ответственности, она легкомысленно согласилась на предложение товарища – секретаря ячейки той фабрики, где раньше работала, – писать вместе лозунги. Но как она могла отказаться? У нее не нашлось для этого слов, как она не находила их, встречая ласковый взгляд товарища Жоана. Секретарь ячейки зашел к ней домой к вечеру. Даже после того, как Мариана потеряла связь с ячейкой, он иногда заглядывал к ней поговорить, рассказать, как поживают товарищи и как идут дела; это был хороший и верный друг. Ему было неизвестно, в какой организации работает сейчас Мариана, но он знал, что она продолжает пользоваться доверием партии. В этот вечер он был озабочен, нервно жевал сигарету. Он, как, впрочем, и все секретари низовых организаций, получил задание написать ряд лозунгов на стенах; его ячейке было поручено сделать надписи на нескольких улицах. Однако он получил это указание очень поздно и не успел предупредить всех товарищей (ячейка насчитывала только шесть членов); двое заявили, что не смогут прийти – один из них действительно не мог, хотя и хотел, другой же попросту струсил, третий был в отпуске и его не смогли найти. Таким образом, в его бригаде оказалось только трое. А работа требовала, по меньшей мере, четверых: двух – на то, чтобы писать, двух, чтобы сторожить на углах, – нельзя было писать лозунги на этих тщательно охраняемых улицах без двух надежных товарищей на страже. Он изложил все это Мариане, надеясь, что она, как испытанный товарищ, который никогда не отказывается от партийных поручений, предложит пойти с ним. Но так как девушка молчала, у него не было другого выхода, как начать разговор самому: – Ты согласна пойти с нами? Мы отправимся после часу ночи, опасности не будет… Не знаю и не хочу знать, что ты сейчас делаешь, но надеюсь, эта просьба низовой организации не причинит тебе вреда… Распоряжения были вполне определенные: ей запрещалась всякая деятельность, где она могла быть замечена. Ей не следовало бы идти. Конечно, задача, поставленная перед секретарем ячейки, взволновала ее; она знала, что лишний человек обеспечит бригаде большую безопасность. Но она не могла открыть товарищу подлинные мотивы своего отказа. – Нет, не пойду, – сказала Мариана. – Сегодня я не могу… Он не скрыл своего разочарования. Он так рассчитывал на нее, пришел, будучи уверен в том, что Мариана согласится. – Не хочешь подвергать себя опасности? – недовольно проворчал он. – Когда человек идет в гору, ему уже не хочется рисковать… – Это неправда. Ты ведь знаешь, что писать лозунги на улицах – не самое опасное дело. К чему такое несправедливое обвинение? Кроме того, я на такой же низовой работе, как и ты, или даже еще более скромной… Эти попреки недостойны коммуниста. Товарищ, смущенный и раскаявшийся в своих резких и несправедливых словах, извинился: – Ты права, но я просто бешусь от злости! Мне бы хотелось перестрелять весь этот интегралистский сброд, этих «зеленых кур», расхаживающих по улицам! А тут еще мне не удалось собрать сегодня хорошую бригаду… Если ты говоришь, что не можешь пойти – значит, действительно не можешь. А я вот горячусь, говорю иной раз глупости… Надо мне от этого избавиться… Она дружески улыбнулась ему. – Я понимаю тебя… Я ощущала сегодня то же самое, видя шествие интегралистов. Теперь нужно, чтобы каждый из нас стоил двух. – Хотя бы потому, что оппортунисты нас покинут. Вроде Салу, который весь побелел от страха, когда я вызвал его для выполнения этого поручения; выдумал какую-то больную сестру, еще чего-то там… Это один из тех, кто свернет с дороги. – К сожалению, он не одинок: многие из тех, которые еще не отдают себе отчета в существующем положении, последуют за ним. Зато придут другие – лучшие, способные в тяжелые дни оказать сопротивление. – Хорошо бы так. Ну, надо идти. Как бы там ни было, втроем или вчетвером, мы должны выполнить нашу задачу. Если попадемся, надо набираться терпения – значит, пришел наш час. Он взял свою старую, всю в пятнах от дождя шляпу. Мариана не выдержала: ей показалось, что она видит товарищей, захваченных полицией только потому, что нехватило человека, который бы сторожил на углу. – Подожди, я пойду с тобой… К счастью, ничего плохого не случилось. Улицы были пустынны, только один раз им пришлось прервать работу – внезапно появился автомобиль, но это оказалась частная машина. И Мариана вернулась домой пешком, пробираясь малолюдными улицами, избегая встреч с пьяными и с запоздалыми искателями приключений. Придя домой, она вздохнула свободно. Впервые при выполнении этой работы она испытывала тревогу. Но это был не страх, а сознание того, что она совершила ошибку и, уступив личному чувству, поставила этим на карту безопасность надежной связи руководства. Лежа в кровати, она размышляла: снова видела надписи на стенах богатых домов; имя Престеса, поднятое подобно знамени; серп и молот, которые должны нарушить сытый сон тех, кто явился соучастником переворота. Это было прекрасное дело, из-за него стоило тысячу раз подвергаться риску. Но в то же время она представляла себе, как гаснет улыбка на губах Руйво, увидела лишенную всякой нежности суровость на усталом лице товарища Жоана. Да, то, что она сделала, было ошибкой, и лучше всего, если она при первой же встрече с ними обоими честно расскажет об этом. Сон смежил ее усталые веки. Все смешалось перед глазами: дефилирующие интегралисты, солдатские патрули, секретарь ячейки, надевающий перед уходом свою старую шляпу, буквы, вырастающие на стенах, улыбка товарища Руйво, лицо Жоана, его голос, произносящий слова, о которых она лишь догадывалась в моменты молчания, – как тогда, когда она расставалась с ним. Засыпая, она увидела его, и ее губы раскрылись в улыбке. Да, лучше будет признаться ему в совершенном проступке. «Товарищ Жоан, я еще недисциплинированный член партии, поддаюсь минутным порывам. Я сделала глупость: отправилась писать на стенах, рискуя быть арестованной. Вот какая я… Мне нужно исправиться, заняться как партийному работнику самовоспитанием; может быть, если я стану настоящей коммунисткой, то буду достойна любви, которую я к тебе испытываю. А это такая большая любовь, что ты никогда себе даже не сможешь представить…» 10
Несколько дней спустя она встретилась с ними обоими в большом богатом доме, в центре города. По всей видимости, здесь жил один из сочувствующих партии. Жоан дал ей эту новую явку, и, когда Мариана пришла, он уже находился там вместе с Руйво. Это была хорошо меблированная комната с картинами на стенах. Руйво погрузился в широкое кожаное кресло. Он плохо выглядел, очень осунулся за эти месяцы напряженней работы, все время кашлял. Иногда он сплевывал мокроту, и Мариана замечала на платке красные пятна крови. Жоан расхаживал по комнате, разглядывая картины. Он покачал головой, глядя на написанное маслом полотно художника-сюрреалиста, представлявшее неразборчивую мешанину линий и цветов. Руйво хрипло сказал: – Садись, Мариана! Жоан отошел от картины и, остановившись перед креслом, где она уселась, тихо спросил: – Как поживаете, сеньора художница стенной живописи? – А! Вы уже знаете? Я как раз хотела поговорить об этом. Я понимаю, что это была одна из глупостей, которые мы совершаем, даже не отдавая себе отчета. Мне стало жалко, что безопасность товарищей под угрозой, ну я и пошла. Когда я спохватилась, оказалось, я уже была с кистью и краской в руках. – Это была не просто глупость, – сказал Жоан, присаживаясь на край стула. – Это больше, чем глупость: это – серьезное нарушение партийной дисциплины. Ты поставила на карту безопасность всего руководства. Коммунист, сознающий свою ответственность перед партией, не может совершать такие поступки, не отдавая себе в них отчета. Коммунист должен знать, что он делает и почему он это делает. – Одно только я могу сказать, товарищ Жоан: если бы меня арестовали, я бы ничего не сказала… – Да, но связанные с тобой товарищи, не зная о твоем аресте, могли прийти к тебе в дом и навести полицию на след. А о работе, которую ты выполняешь, ты подумала? Или ты воображаешь, что сотни людей могут иметь в своих руках адреса членов секретариата? Кто дал тебе право рисковать свободой связного при руководстве? Или ты забыла о своей ответственности? Мариана подняла глаза. – Это верно. Я только сейчас поняла, какую совершила ошибку. Гораздо большую, чем я думала. Я не оправдала доверия партии… – Теперь она была уже уверена, что ее снимут с этой работы и вернут в низовую организацию, и находила это справедливым. Она только сейчас с ужасом осознала опасность, которая могла явиться результатом ее порыва. – В одном хочу вас заверить: я сделала это из хороших побуждений; но я понимаю, что это нисколько не умаляет серьезности моего проступка. Теперь я осознала это и впредь постараюсь быть дисциплинированной и думать прежде всего об интересах партии. Я поступила легкомысленно. Руйво улыбнулся и заговорил отрывисто – у него было затруднено дыхание: – Ошибка в том, что ты не подумала… Рискуя своей свободой, ты рисковала свободой связного при руководстве. Научись думать о себе в третьем лице, Мариана; это хороший метод, я его всегда употребляю. Когда у меня появляется желание совершить что-либо подобное, я думаю: а как бы поступил я, если бы это сделал другой? Жоан продолжал: – Руководство решило сделать тебе серьезное предупреждение. Мы надеемся, что больше это не повторится. – Не повторится. Я считаю, что предупреждение вполне заслуженно. Руйво снова улыбнулся. – Теперь надо сделать выводы из этой ошибки. Так вот и становятся хорошими коммунистами: учась не только на успехах, но и на ошибках. – Значит, я продолжаю оставаться связной? – Конечно, – сказал Жоан. – Разве ты думаешь, что мы должны послать тебя на низовую работу и найти другого, кто завтра совершит подобную ошибку? Ты уже ее допустила, больше не повторишь. Положительная сторона этой ошибки состоит в том, что она заставила тебя осознать всю ответственность твоей работы. – Да, это верно. Теперь я убеждена, что буду гораздо осторожнее, я тоже буду думать о себе в третьем лице. – Отлично… А теперь к делу. Руйво начал говорить. Мариана пододвинулась, чтобы лучше расслышать его; Руйво дышал часто и прерывисто, болезнь разъедала его грудь. Кашель то и дело прерывал его слова, он вытирал рот платком, и Мариана опять заметила на нем пятна крови. Ей поручили подготовить заседание секретариата. Она должна была сообщить Зе-Педро и Карлосу, когда и где собраться. Она же должна открыть пустующий домик, неподалеку от Сан-Пауло, предоставленный в распоряжение партии одним сочувствующим, и подождать там их прихода. – Если ты приготовишь немного кофе, это будет неплохо. – И Жоан улыбнулся. Руйво передал ей ключ. – Этот домик расположен на дороге в Санто-Амаро. Возможно, что нам удастся снять его и использовать под типографию. – Он обратился к Жоану, тот кивнул головой. Улыбаясь, они попрощались с ней. – До свидания, дона художница стенной живописи… Жоан указал на стену, где висела сюрреалистская картина. – Буквы на стенах ты писать можешь, а вот сложную картину, вроде этой, думаю, не осилишь. Мариана подошла к картине в широкой раме из полированного дерева. – Я ничего не понимаю в живописи. Но я бы только хотела знать, что художник хотел здесь изобразить этим хаосом… Жоан еще раз посмотрел на картину. – Прежде всего, он не хотел показать действительность. Это один из способов сделать искусство антинародным. У Руйво начался сильный приступ кашля, его худая грудь содрогалась. Мариана, подойдя, положила руку ему на спину. – Уже прошло. Спасибо. – Почему вы не идете к врачу? Он меня уже спрашивал про вас. Говорит, что так он не может отвечать за ваше здоровье… – У меня не было времени… Уж очень много дел. – А вы подумайте о себе в третьем лице, товарищ Руйво. Партийный руководитель не имеет права кончать жизнь самоубийством… – Вот-вот, – сказал Жоан. – Это как раз то, что я ему все время говорю… Мариана вышла с чувством гордости за то, что она член партии и товарищ по борьбе таких людей, как Руйво и Жоан. Но нужно следить за здоровьем Руйво: если он будет работать, не имея даже времени показаться врачу, то долго не протянет. Оба руководителя, оставшись в комнате, переглянулись. – Хорошая девушка, – сказал Руйво. – Отлично восприняла критику. – Да, очень хорошая. – Жоан уселся против товарища; лицо его оживилось улыбкой. – Настолько хорошая, что если бы я решил жениться, то попросил бы ее руки… – А почему не решаешься? – Сложно. Не такое время, чтобы думать о женитьбе. – А почему бы и нет? Если хочешь знать, меня поддерживает то, что я женат, иначе я бы уже давно отправился к праотцам… Ведь это Олга следит за моим питанием: когда бы я ни пришел, всегда меня ждет еда; это жена заставляет меня ходить к врачу… – Все это так, но для того, чтобы двое связали свою судьбу, нужно, чтобы они оба этого хотели… Недостаточно, если один… Руйво возмутился: – Да ты что, неужели до сих пор не заметил еще, что Мариана больше ни на кого, кроме тебя, не смотрит? И ты еще смеешь называть себя наблюдательным!.. – Ты так думаешь? Беседа, однако, прервалась, так как в этот момент позвонили; Жоан встал с кресла и, как бы предупреждая товарища, сказал: – Вот и он… Жоан открыл дверь. Вошел Сакила, длинный, плешивый, с трубкой во рту, в очках без оправы, скрывавших бегающие глаза. Он пожал руку Руйво. Тем временем, заперев дверь, вернулся Жоан. Сакила, все еще стоя, вытащил кисет с табаком, начал чистить и набивать трубку. Руйво заговорил: – Сакила, вот ты разбираешься в литературе и искусстве, объясни Жоану, что означает эта картина… Он вне себя от восхищения, но ничего не понимает. Сакила устремил взгляд на картину, большим пальцем уминая табак в трубке. – Это картина одного английского сюрреалиста. Сисеро в прошлом году привез ее из Европы. У нее большие пластические достоинства и оригинальный колорит. С технической стороны это очень сильный художник. – Но что, собственно, он хотел выразить в своей картине? – повторил Жоан вопрос Марианы. – А! Речь идет о реакции художника на религиозный праздник. Это смешение хороших и дурных эмоций, возникающих у него при виде набожных мещан… – Религиозный праздник… реакция художника… набожные мещане… Сложно, старина. То, что я здесь вижу, это какие-то пятна и линии, и сколько я ни стараюсь, больше ничего разглядеть не могу. – Но ведь это же и есть эмоции художника, отраженные в игре красок и линий, как будто лишенных гармонии. Разве ты не ощущаешь тоску, одиночество, первобытные инстинкты, страх вселенной и стремление к освобождению, перемешанные в этой картине? – Ничего этого я не чувствую и не ощущаю, абсолютно ничего; больше того: я не верю, чтобы кто-нибудь это чувствовал – ни ты, ни Сисеро, ни сам художник…. – Ну, видишь ли, это надо научиться понимать… – Нет, старина, нужно окончательно выжить из ума, чтобы подобная штука могла понравиться. Это просто мода, вы держитесь за нее, чтобы не показаться отсталыми… Руйво указал на другую картину. – А вон та, что похожа на рисунок восьмилетнего ребенка? Улица с закорючками, изображающими людей… Сакила вынул трубку изо рта. – Это же одна из лучших картин известной бразильской художницы-самоучки Сибилы. Это изумительно, это – выражение необычайного поэтического чувства… – Старина, это может быть всем, чем угодно, но это не живопись. По крайней мере, не живопись для глаз рабочего… – Ты, мой дорогой, реакционер в искусстве, у тебя нет вкуса и ты не чувствуешь революционную силу новейшего искусства. – Может быть. Но я лично думаю иначе. Мне кажется, ты путаешь новейшее с революционным и таким образом хочешь выдать за революционную такую живопись, которая отражает вкусы разлагающейся буржуазии. Никогда рабочий класс не одобрит таких картин. Пролетариат – здоровый класс, а эти картины носят патологический характер; рабочий класс устремлен к жизни, а эти картины олицетворяют бегство от нее; у пролетариев чистые чувства, а эти картины – плоды грязных чувств. – Эти примитивные утверждения… – начал было Сакила тоном презрения, который вызвали у него слова Жоана, но Руйво оборвал его: – Вот что, Сакила, оставим пока дискуссию о живописи: есть темы посерьезнее. К сожалению, у нас имеются расхождения не только в области живописи… Жоан заметил: – Корни наших расхождений – одни и те же… – Что ж, поговорим о расхождениях. Я давно уже стремился к такому разговору. Теперь же, после государственного переворота, он мне кажется существенно необходимым. – И нам также… Руйво начал говорить. Его хриплый, несколько протяжный голос вскоре стал страстным. Руйво обвинял Сакилу в раскольнической деятельности, заявил, что тот действовал антипартийными методами, подняв в первичных организациях кампанию против руководства, создавая трудности, а зачастую саботируя выполнение заданий партии, что вызывало замешательство среди товарищей. Политическая линия партии в избирательной кампании, поднятая Национальным комитетом[74], подверглась широкому свободному обсуждению. Но после того, как она была принята, члены партии должны неукоснительно проводить ее в жизнь. И если у кого-нибудь возникали сомнения, следовало обсудить их в низовых организациях, а не заниматься групповщиной и не вербовать оппозиционеров втихомолку, на частных собраниях, где даже личная жизнь товарищей становилась объектом интриг и подвергалась оскорблениям. Теперь же, в первые дни после переворота, чувствуется усиление деятельности этой группы. Вместо того чтобы развернуть борьбу против «нового государства», они клеветнически утверждают, что переворот – результат ложной политической линии партии, чем затрудняют и без того тяжелую разъяснительную работу руководства и порождают опасный пессимизм в низовых партийных организациях. Всё говорит за то, что центр всей этой группы, ее руководящая фигура – Сакила. Он – член комитета штата Сан-Пауло, на нем лежит серьезная ответственность, к его словам прислушиваются в низовых организациях. Как он может объяснить свою деятельность, носящую явно троцкистский характер? Сакила все отрицал. Действительно, он не был согласен с политической линией партии в избирательной кампании, сказал он. Он был за компромисс со сторонниками Армандо Салеса, полагая, что при наличии такого союза можно было бы не допустить переворота. Группа этих паулистских политиков была, по его мнению, самой демократической в стране, у нее сложились определенные либеральные традиции, к которым не следовало относиться с пренебрежением; поддержка коммунистов усилила бы эту группировку, и она могла бы противостоять Жетулио. Так он полагал, но с тех пор, как руководство Национального комитета приняло политическую линию, явившуюся результатом дискуссии во всей партии, он якобы больше против нее не боролся. Никакой оппозиционной работы в партийных организациях он не проводил, а если и говорил случайно с другими товарищами, разделявшими его точку зрения, то речь шла только о незначительных вопросах и носила характер случайных комментариев. Он согласен, чтобы его деятельность была обсуждена на первом же заседании районного комитета и даже готов выступить с самокритикой, если ему укажут, какую конкретную ошибку он допустил. Но он знал, что ему не за что себя критиковать, и с возмущением отверг характеристику его как троцкиста. Слова у него лились гладко, ровным потоком, фразы строились даже с известным блеском; в то же время он, искоса поглядывая то на Жоана, то на Руйво, снова начал чистить трубку. В заключение он повторил, что готов обсудить вопрос, но не так, как сейчас – в беседе лишь с двумя членами секретариата. Он хотел бы, чтобы этот вопрос был рассмотрен на пленарном заседании районного комитета или, по крайней мере, секретариата в полном составе, с участием членов районного комитета, находящихся в Сан-Пауло. Он опять вынул из кармана табак и стал набивать трубку. Жоан и Руйво переглянулись. Сакила добавил: – Мне кажется, нам следует срочно обсудить позицию, которую мы сейчас должны занять. За этим я и пришел. Я должен сообщить партии кое-что конкретное: армандисты готовят восстание, дело это серьезное, в нем участвуют многие военные. Они собираются покончить с «новым государством» и снова назначить выборы… Зондировали у меня почву, желая выяснить, что думает на этот счет партия… Мне кажется… – Национальный комитет уже в курсе дела, он рассмотрел этот вопрос и принял решение. – Когда? – Материалы прибыли только сегодня. Завтра начнем информировать о них первичные организации. – И что говорится в решении? – Руководство предостерегает партию, чтобы она не позволила втянуть себя в авантюру, результатом которой явилось бы только усиление фашизма. Оно намечает путь, по которому нужно идти в борьбе против «нового государства»: это агитация, забастовки, разоблачение Жетулио в профсоюзах и среди рабочих, переговоры о создании демократического фронта, который воспрепятствовал бы установлению фашистского режима. – Но ведь фашистский режим уже установлен… – Есть фашистская конституция, но проведение ее в жизнь будет зависеть от борьбы народа против этой конституции. Пока у нас типичная южноамериканская диктатура, полная противоречий; иные из них, как, например, разногласия между Жетулио и интегралистами, уже серьезно обострились. Кроме общих, межимпериалистических противоречий, возникли разногласия между национальными политическими группами. Вместо того чтобы впутываться в этот армандистский переворот, в случае успеха которого, возможно, будет сохранена конституция Жетулио, нам нужно постараться объединить все демократические элементы на основе небольшой программы-минимум: ликвидация фашистской конституции, возврат к конституции 1934 года[75], амнистия, борьба против интегрализма. Этот фронт может быть создан только в ходе развития и усиления борьбы масс против диктатуры. – Жоан умолк. – Все это мне представляется неопределенным и неправильным. Демократический фронт, но с кем? Ведь Зе-Америко поддерживали только несознательные элементы. Большинство из них теперь за Жетулио. Остаются армандисты. С этими можно выступать заодно. Но они смотрят на вещи гораздо реальнее, чем наша партия: они готовят единственное, что может свергнуть Жетулио, – военный переворот. И если мы не примем в нем участия – значит, мы хотим вообще уйти из политической жизни страны… Возможность эта единственная. И снова повторяю: люди эти хорошо организованы, их поддерживают генералы, недовольные Жетулио и возмущенные позицией армии в связи с переворотом… Активно действует Жураси Магальяэнс[76], Флорес-да-Кунья ворвется через границу Рио-Гранде… Их заговор имеет под собой твердую основу, и в результате – быстрый и решительный удар! Не то, что вся эта история с борьбой народных масс, забастовками, тем более сейчас, когда по новой конституции забастовка рассматривается как преступление. Все это хорошо для пропагандистских листовок, для статей в «Классе операриа», но не имеет никаких перспектив… Руйво пристально посмотрел на журналиста. – Давно уже я не слышал столько чепухи: правильным, видите ли, является путч, а не борьба народных масс; лучше плестись в хвосте буржуазии, но не вручать руководство борьбой рабочему классу; лучше заменить шахтеров и гаушо Флорес-да-Куньей, рабочих Сан-Пауло – Армандо Салесом и так далее. Ты, Сакила, человек, знакомый с Марксом и Энгельсом, прочитавший весь «Капитал», труды Ленина и Сталина – все, что мог собрать по марксизму в книжных лавках у нас и за границей. Но ты все прочел и ничего не понял, ничего не усвоил. Это ваша беда – беда интеллигентов, отгораживающихся от жизни в своих кабинетах, изучающих марксизм в отрыве от масс. Вместо того чтобы впитывать теорию, с тем чтобы лучше действовать на практике, вы только скользите по поверхности, а потом делаете глупости… Решение руководства правильно: армандистский переворот ничего не даст; от него Жетулио только выиграет. Мы должны сделать все, чтобы предотвратить его. Потолкуй с замешанными в это дело честными людьми – таких должно быть немного – и убеди их, что эта политика ошибочна и опасна… – Мой дорогой, своей иронией ты меня не убедишь. Я оставляю в стороне все твои узкосектантские взгляды против интеллигенции и попрошу лишь одного: дать мне возможность поехать в Рио, чтобы переговорить с руководством Национального комитета об отношении к армандистам. Согласны вы на это? – Сначала нужно посоветоваться с руководством. Узнать, захочет ли оно обсуждать с тобой этот вопрос. Мы это выясним. – Я прошу только сделать это как можно скорее… – Теперь последнее, – сказал Жоан. – Это вопрос о типографии. Ты отвечаешь за нее. Секретариат решил перевести типографию. – Почему? – Это в интересах дела. Типография сейчас расположена в опасном месте. У нас есть на примете один дом… Ты должен дать указание разобрать печатный станок и упаковать шрифты… – Хорошо, я позабочусь об этом. А куда переводится типография? – Это еще окончательно не решено. Потом узнаешь. И типографа мы тоже сменим. Мы уже подыскиваем другого товарища. Этот уже больше года как погребен со своей машиной. Он, должно быть, позеленел от отсутствия солнца… – Я могу подыскать человека. – Что ж, ищи, и мы поищем. Потом посмотрим, кого выбрать. После того как он ушел, Жоан снова подошел к сюрреалистской картине. – Ты понимаешь, Руйво, путч, а не массовая работа, руководство буржуазии, а не пролетариата… Нет разницы между тем, что он думает о политике, и тем, что он думает об искусстве. Наоборот, здесь полная гармония: троцкизм и сюрреализм – это формы борьбы, которую буржуазия ведет в различных областях. Его стремление поставить искусство выше критики рабочего класса абсурдно. Я не разбираюсь в живописи, но я рабочий, и марксизм для меня не догма, а руководство к действию… Руйво кивнул головой. – Важно, чтобы рабочие активисты учились, тогда их не опутают подобные интеллигентки, вносящие в нашу партию чуждую идеологию. – Когда найдется время, я обязательно ознакомлюсь с литературой по поводу этого модернистского искусства. Это необходимо, если мы хотим помочь нашей честной, но дезориентированной молодежи… Разговор с журналистом помог Руйво полностью осознать опасность, которую группа Сакилы представляла для самого существования партии в Сан-Пауло. – Необходимо срочно ликвидировать троцкистский очаг. Иначе эта публика доставит нам неприятности… Сакила, пойдя по такому пути, способен на все. – Первым делом надо перевести типографию… – Да, ты прав. Ну, мне надо идти. Может быть, еще застану врача. Хорошая девушка эта Мариана. Поздравляю… – Послушай, брось ты эти шутки! Жоан остался выждать время, чтобы не выходить одному за другим. Он перешел от сюрреалистского произведения, выглядевшего еще более странно в сумерках, к картине художницы, которую нашли Шопел и Пауло. – И они имеют еще наглость называть это искусством!.. Сумерки медленно надвигались, словно повинуясь колоколам, призывающим к вечерне. На улице зажглись огни. Сейчас, подумал Жоан, Мариана уже, наверно, добралась до отдаленного пригорода, где живет Зе-Педро, возможно, уже обедает там, прежде чем пойти на розыски Карлоса. Он улыбнулся при воспоминании о девушке, при воспоминании о том, каким серьезным было ее лицо во время их беседы… А ведь в ночь переворота даже ему, Жоану, пришлось бороться с собой, чтобы не пойти писать лозунги на стенах. Хорошая девушка, отважное сердце! 11
В этом зарубежном городе, с которым Аполинарио мог познакомиться пока только из окна отеля, он жадно набросился на газеты. Государственный переворот в Бразилии уже не занимал главного места на первых полосах: он уступил место истории знаменитого футбольного вратаря, бежавшего на самолете, чтобы играть в команде Венесуэлы. Аполинарио с огромным интересом прочел телеграммы. Бывший сенатор Венансио Флоривал обратился к Варгасу с верноподданническими заверениями о поддержке нового режима, а в интервью заявил корреспондентам газет, что главной задачей для страны является борьба с коммунизмом. Аполинарио сморщился от отвращения, прочитав имя этого крупного плантатора, воля которого была законом на огромных земельных пространствах: рассказы о его зверствах, насилии и убийствах распространялись в Мато-Гроссо и Гойаз. В другой телеграмме говорилось о разногласиях между Жетулио и интегралистами. «Интегралистское действие», как и другие партии, было распущено, и генерал Ньютон Кавалканти, связи которого с фашистской партией были широко известны, ушел с поста военного коменданта Рио-де-Жанейро. Тем не менее, добавлял корреспондент одного американского агентства, новый министр юстиции еще пытается найти формулу для примирения Варгаса с интегралистами. По словам этого корреспондента, Плинио Салгадо было предложено министерство просвещения, а «Интегралистское действие», исчезнув как политическая партия, должно превратиться в сильную милитаристскую организацию под вывеской спортивного общества. Следующая телеграмма сообщала об освобождении некоторых политических деятелей, арестованных в день переворота, и о прибытии в Рио для возвращения в ряды армии бывшего губернатора штата Баия. Маленькая телеграмма, напечатанная петитом в углу страницы, рассказывала об аресте коммунистов в Рио, когда они писали лозунги на стенах домов. Против них был возбужден процесс, первый процесс на основе новой конституции. На трех колонках была напечатана жирным шрифтом бросающаяся в глаза сенсационная телеграмма: в интервью, данном корреспонденту Юнайтед Пресс, Варгас наметил свою линию международной политики. Он говорил о неустойчивости международного положения и заверял, что его правительство останется верным традиционной дружбе между Бразилией и Соединенными Штатами, представляющей гарантию безопасности континента в эти дни, когда в Европе угрожает вспыхнуть война. Он в восторженных выражениях восхвалял Рузвельта и упоминал о том, сколь многим обязана Бразилия американским капиталам и американским специалистам – важным факторам бразильского прогресса. В заключение он охарактеризовал новый режим как демократию высшего типа, где, мол, царствует дух сотрудничества между предпринимателями и трудящимися и где ликвидирована опасная для благополучия страны агитация экстремистов. В комментариях к интервью телеграфное агентство указывало на то, что слова Варгаса являются убедительным ответом на сомнения государственного департамента США и финансовых кругов Уолл-Стрита, опасавшихся предсказанного кое-кем присоединения Бразилии к антикоминтерновскому пакту[77], еще более тесной связи ее с политикой Германии и сотрудничества с нацистскими капиталами. Интервью Варгаса опровергло эти слухи, и с минуты на минуту ожидалось, что Соединенные Штаты признают новый бразильский режим, несмотря на его авторитарный и антидемократический характер. В местной католической газете Аполинарио прочел редакционную статью, комментирующую переворот. Журналист анализировал новую бразильскую конституцию и хотя признавал, что некоторые ее статьи и параграфы могут шокировать демократический образ мыслей уругвайского народа, однако не мог удержаться от похвалы, ибо дело касалось защиты «духовной, экономической и политической целостности Бразилии от пагубной деятельности коммунистов». Мир, говорилось в статье, дошел до такого состояния, когда во имя отжившего демократического либерализма нельзя уже больше предоставлять «адептам Москвы возможность осуществлять свои дьявольские козни по разложению общества». Статья указывала на новый бразильский режим как на пример, которому должны следовать и остальные страны континента, если они действительно хотят спасти христианскую цивилизацию от большевистской угрозы. Автор статьи указывал на события в Испании и призывал вдуматься в них, чтобы понять грозящую опасность. Статья провозглашала Варгаса великим человеком, образцом для латиноамериканских правителей и гарантировала ему благословение бога: «Сеньор Варгас хочет спасти своей новой конституцией величественное творение Верховного Создателя Вселенной». Закончив чтение статьи и проворчав: «Циники!», – Аполинарио выглянул из окна на оживленную вечернюю улицу. Непрерывно моросил мелкий дождик. Кто же из товарищей арестован в Рио? Как будут развиваться события в Бразилии, чем закончится глухая борьба между Жетулио и интегралистами? Как ответит партия на переворот, какие новые действия она предпримет? Он отошел от окна и углубился в чтение телеграмм о войне в Испании. Он читал о сражениях, о бесстрашной обороне Мадрида. Франко, по-видимому, наступал. Однако республиканцы стойко оборонялись, несмотря на наличие у противника немецких и итальянских офицеров и солдат, а также вооружения, полученного от Гитлера и Муссолини. Эх, поскорей бы добраться до Испании, оказаться в обстановке войны, в пороховом дыму, среди солдат! Здесь в первый вечер пребывания в Монтевидео он еще ни с кем не установил контакта и чувствовал себя одиноко и тревожно. Он покинул Бразилию, но еще не прибыл в Испанию. События в Рио и Сан-Пауло уже не касались его непосредственно, а события в Мадриде и Барселоне были еще далеки от него. «Коммунист, – думал он, – может выполнять свой долг революционера в любой части света». Но здесь он находился только проездом, в пути с одного поля сражения на другое. Положение повсюду было столь напряженным – в особенности в Бразилии и Испании, – что пребывание в Монтевидео Аполинарио рассматривал как потерянное время и бесполезную трату сил. Он рвался в бой, вынужденное бездействие тяготило его. Как мог он довольствоваться ролью наблюдателя, когда в Бразилии арестовывают его товарищей, когда в Испании под нацистскими пулями погибают его друзья? Завтра он выяснит, когда отправляется пароход. Завтра он перестанет быть бразильским лжежурналистом, у него будет новое имя и новая профессия. Но сегодня, в этот дождливый вечер, его мысли возвращались к Бразилии, к жестокой реакции, усилившейся после переворота, к еще большим трудностям, возникшим теперь перед партией. Ему хотелось иметь друга, с которым он мог бы поговорить, с кем он мог бы походить по городу, обмениваясь впечатлениями о положении в Бразилии, о перспективах войны в Испании. Он почувствовал глубокое одиночество, попав в этот незнакомый город, в эту безвестную комнату отеля. Он пообедал в скромном ресторане. За соседним столиком возбужденно спорили испанцы. Он прислушался, улыбнулся в знак одобрения низенькому человеку в берете, который назвал Франко «гнусным предателем». Спор был настолько резким, что мог закончиться дракой. Толстый франкист потрясал кулаками перед лицом своего коренастого собеседника, и Аполинарио подумал: «Если только он тронет этого республиканца, я ему покажу, как обращаются с фашистами, начну здесь же борьбу за Испанию!» Но тут же он дал себе отчет в полной невозможности вмешаться в спор или драку: ничто не должно было прервать его путешествие. Если бы в ресторане действительно началась драка между испанцами-республиканцами и франкистами, то первое, что ему следовало бы сделать, – быстро удалиться, не дожидаясь прибытия полиции. Однако никакой схватки не произошло, только ругань усилилась. А низенький испанец в берете все время страстно и убежденно повторял слова Пасионарии: – Они не пройдут! Фалангисты не пройдут! Аполинарио мог поддержать его только ободряющей улыбкой. Он заплатил по счету и вышел под дождь на ярко освещенные улицы. По дороге рассматривал витрины, прохожих, укрывавшихся под зонтиками, трамваи и автобусы. Где же находится Центральный комитет уругвайской компартии? Ему захотелось пройти хотя бы мимо него, ощутить солидарность уругвайских товарищей именно в этот вечер, когда он чувствовал себя таким одиноким. Но он не знал, где находится ЦК партии, не знал, кто из спешащих под дождем людей был его товарищем, соратником по совместной борьбе за освобождение человечества. Бразилия, на которую обрушился переворот, звала его. Страдания народа, опасность, нависшая над товарищами, голоса из тюрем, заполненных героями 1935 года, из темницы, где томился Престес, – все звало его на родину. Вот почему он чувствовал себя таким одиноким. Свобода здесь, на улицах Монтевидео, тяготила его как бесполезное тяжелое бремя. Не поможет ли ему рассеяться какой-нибудь фильм? Идя в ресторан, он обратил внимание на заманчивую рекламу одной французской картины. И он направился на широкую улицу, где находилось кино, но по дороге остановился у газетного киоска, где были выставлены почтовые открытки с видами города. Некоторое время он перебирал открытки в поисках наиболее красивых. Наконец выбрал две, купил марки, тут же надписал адреса и несколько сдержанных слов привета сестре и Мариане. Он подписался неразборчивыми каракулями – сестра и Мариана легко догадаются, от кого эти ласковые слова. Сестра обрадуется, узнав, что он за границей, далеко от тюрем Рио-де-Жанейро, что он свободен от полицейской слежки, недостижим для суда над коммунистами, который скоро должен состояться. Эта девушка из Сан-Пауло тоже обрадуется, когда узнает, что он уже по ту сторону границы, на пути в Испанию. Для нее в эти трудные дни, последовавшие за государственным переворотом, открытка тоже явится ободряющим рукопожатием друга в обстановке тяжелой борьбы. У него уже пропала охота идти в кино. Он поискал почтовый ящик, чтобы бросить открытки. Капли воды стекали по его лицу. Он пошел по главной улице и заметил любопытный взгляд, брошенный на него какой-то женщиной, но продолжал идти наедине со своими мыслями, наедине со своей далекой, страдающей Бразилией, один среди оживленного движения, не обращая внимания на моросящий дождь. Так, задумавшись, он не сразу услышал неясный гул, доносившийся с площади, по направлению к которой он шел, шум аплодисментов и приветственных возгласов. Он ускорил шаги, ему показалось, что в шуме громких голосов слышится знакомое имя. Аполинарио вышел на площадь, где, по видимому, происходил митинг. С балкона какого-то здания выступал оратор; он говорил о Бразилии. Аполинарио проложил себе дорогу в толпе, стоявшей под зонтиками, подошел ближе. Несмотря на непрекращающийся дождь, здесь собрались тысячи людей, чтобы выразить свою солидарность с бразильскими антифашистами в этот тяжелый для них момент, когда страна оказалась под пятой фашистской диктатуры. Ораторы сменяли друг друга: рабочие и интеллигенты, представители партий и массовых организаций говорили о значении жетулистского переворота, об опасности, которую он представляет для всех демократических сил латиноамериканского континента. Они выражали веру уругвайского народа в бразильский народ, в его антифашистских лидеров и, в особенности, в Луиса Карлоса Престеса. Когда произносилось славное имя узника, вспыхивали нескончаемые аплодисменты, и толпа начинала скандировать: – Пре-стес – да!.. Вар-гае – нет!.. Аполинарио застыл на месте, ноги его как будто налились свинцом и приросли к земле. Слова ораторов, прерывавшие их аплодисменты, возгласы одобрения и поддержки и имя Престеса, повторяемое тысячами голосов, – все это рассеяло его недавнюю тревогу, чувство одиночества и заброшенности. Нет, никогда он не оставался и не мог остаться в одиночестве: где бы он ни находился, с ним всегда будут сотни и тысячи людей, всегда будет рука друга, товарища… И, следуя общему порыву, он повторял вместе с другими: – Пре-стес – да!.. Вар-гае – нет!.. Никто из коммунистов не оставался один ни в бою, ни в пути с одного участка фронта на другой. Никто из них не был заброшен и покинут, даже находясь в самой суровой тюрьме, в самой грязной камере, изолированный от людей подобно опасному зверю. С ними всегда были миллионы и миллионы людей на земле, готовые защищать их и помочь им. При этих мыслях Аполинарио ощутил радость выздоровления, подымавшуюся в его груди и освобождавшую его от боли и тревог. Мелкий дождик пронизывал его, но он не чувствовал холода: весеннее тепло поднималось в нем и затуманивало волнением глаза. Стоявший рядом рабочий сделал ему знак, приглашая укрыться под его зонтиком. Аполинарио с благодарностью улыбнулся, стал рядом с незнакомым товарищем, снова произнес имя горячо любимого Престеса и смахнул навернувшуюся против воли слезу. Он увидел затем, как эта сильная единой волей толпа покидала площадь и под дождем постепенно расходилась по улицам. Перед ним мелькнули лозунги – «Долой «новое государство»!», «Амнистию Престесу!», «Свободу Бразилии!», – плакаты, портреты лидеров; на одном из них Престес был с бородой, как во времена похода Колонны[78]. Аполинарио долго еще оставался на площади, под балконом, откуда только что говорили ораторы. Через несколько дней он окажется по ту сторону океана, в Испании, и там будет защищать бразильский народ, своих заключенных товарищей, свою коммунистическую партию. Где бы он ни вел борьбу против фашизма, он выполнит свой долг коммуниста и патриота; он это понял сейчас, когда у него в ушах еще звучали слова народа Уругвая, обращенные к народу Бразилии: – Престес – да! Варгас – нет! Аполинарио направился в отель; встречая прохожих на тротуарах, он смотрел на них с симпатией, разглядывал освещенные витрины, переполненные трамваи и чувствовал желание с благодарностью сказать этим простым людям «Братья, братья!..» Он не был одинок, он был одним из них, одним из многих. Глава третья  1
Река неудержимо несла свои мутные воды сквозь заросли тропического леса; хищные рыбы-пираньи бороздили ее глубины. Стволы деревьев, гниющие трупы животных, сухие листья и пестрые перья птиц неслись в сторону моря. Птицы яркого оперения пели в густых кронах деревьев, ловкие обезьяны прыгали с ветки на ветку под резкие крики арара, маленьких перикито и других попугаев. Редкой красоты цветы, орхидеи невиданных оттенков, распускались среди стеблей паразитических растений, обвивших стволы деревьев, и пестрели в сырой тени непроходимых зарослей красными, синими, желтыми пятнами. Чудовищные грибы рождались и росли здесь со сказочной быстротой, а над ними летали разноцветные бабочки, одни – темно-синие, почти черные, другие – ярко-голубые, как безоблачное небо. Разные звери выходили из селвы[79] к реке на водопой: дикобразы, тапиры, пугливые свинки пака, легконогие олени; выползали серебристые змеи с острым ядовитым жалом, неожиданно появлялся ягуар с огромными смертоносными когтями, внезапным прыжком кидающийся на свою жертву. В устьях мелких притоков грелись на солнышке крокодилы, разевая свою громадную пасть, подстерегая неосторожных рыбешек. Под горячим солнцем, окруженная непроходимой чащей деревьев, перевитых лианами, почти не населенная людьми, долина реки Салгадо жила первобытной жизнью начала мира. Редко-редко когда примитивная лодка-каноэ, выдолбленная из древесного ствола, поднималась вверх по течению, распугивая зверей и птиц, будя ленивых крокодилов, вызывая неудержимое любопытство обезьян, устремлявшихся тогда в бешеный бег по деревьям, одинаково похожий и на погоню и на беспорядочное отступление. Обезьяны забрасывали дерзкую лодку кокосовыми орехами, словно предостерегая ее от намерения когда-нибудь снова вернуться в эти опасные места. Смолкало мелодичное пение птиц, скрывались под водой кайманы, погружались в омут жабы, терялись в густой чаще испуганные олени, змеи сворачивались клубком, готовясь к смертельной схватке. Только бесчисленные стайки кровожадных рыб-пираний бесстрашно вились вокруг лодки, словно стараясь выпрыгнуть из воды. Угрюмый кабокло, управлявший веслом, обычно даже не поднимал головы, чтоб взглянуть на это зрелище, столь привычное его глазу. Он ловко вел лодку среди плывущих по течению древесных стволов, стараясь избежать опасных встреч с крокодилами. Но как-то раз, в конце 1936 года, в лодке, поднимавшейся вверх по реке, сидел человек, для которого все, что его здесь окружало, было полно новизны и захватывающего интереса. Он не мог отвести глаз от таинственной чащи, от великолепных цветов, от темных чешуйчатых голов крокодилов. Даже теперь, через год после того, как он впервые увидел эти места, Гонсалан все еще находился под впечатлением необъятности и непобедимой мощи этой тропической природы. Его быстрая лодка не раз уже прошла по многим извивам этой реки, выстрел его охотничьего ружья не раз уже раздавался в глубине селвы, поражая тапиров и оленей. Его глаза уже научились отличать ядовитых змей от безвредных, уши его издалека слышали мягкую поступь ягуара. И все-таки каждый день открывал ему в этом незнакомом мире, где он скрывался от полиции, что-нибудь новое: или прекрасное, или внушающее ужас. Здесь, близ реки, он разбил маленькую плантацию, отвоевав небольшой участок земли у селвы, где посадил маниок и маис. О далеком мире на океанском побережье[80] он уже давно ничего не знал. Отсюда, из глубин девственного леса, не слышно биения пульса жизни. Хорошее убежище для человека, осужденного на сорок лет тюрьмы: десять – как «экстремисту и руководителю повстанцев», тридцать – как «убийце». Правда, в перестрелке несколько солдат военной полиции было убито, но Гонсалан не уверен, попала ли в кого-нибудь из них именно его пуля. Однако его осудили, будто он убил их всех, будто они погибли в засаде, а не в борьбе с беззащитными бедняками индейцами. Этот эпитет «убийца», которым наградило его правосудие, не испугал его. Если бы кто-нибудь, следуя от хижины к хижине, среди маленьких, затерянных в чаще плантаций вдоль берега реки, спросил у пожелтевших от малярии кабокло, не прячется ли здесь страшный преступник, человек гигантского роста, с мозолистыми руками, крепкими, как ветви деревьев, с медным оттенком кожи, – ему бы ответили: да, здесь живет один такой великан, у него есть маленькая плантация маиса и маниока. Он умеет лечить людей и ухаживать за больными, знает грамоту, понимает толк в целебных корнях и листьях, а добр настолько, что неспособен причинить зло даже муравью, не то чтобы убить человека. Нет, конечно, это не тот, кого ищут. Все называли его Жозе, никто никогда не интересовался его фамилией. А в разговорах между соседями, жившими далеко друг от друга и встречавшимися только на охоте, он именовался «Дружище», потому что сам Гонсалан на каждом шагу употреблял это слово, обращаясь к знакомым и незнакомым. Если кто-нибудь говорил «Дружище», все знали, что речь идет о человеке, живущем одиноко в глубине долины реки Салгадо. И если бы полиция случайно напала на его след и явилась сюда, то все кабокло, живущие в этих местах, наверняка объединились бы, чтоб защитить его. За год, что он скрывался в лесной глуши, Гонсалан завоевал всеобщую любовь и уважение. Он никогда подолгу не оставался дома. Брал лодку и ехал от плантации к плантации, посещая больных, объясняя, как варить снадобья из корней и листьев (о которых сам узнал от индейцев), обучая кабокло рубить деревья и строить хижины. Он охотился вместе с ними, учил их читать, рассказывал им о другом мире, где люди, обрабатывающие землю, жили совсем по-иному. Когда он появлялся вдали на своей лодке, обитатели плантаций встречали его громкими приветственными криками; мужчины и женщины, опухшие дети со вздутыми животами собирались на берегу, ожидая приближения лодки. Кабокло, у которых были взрослые дочери, ревниво следили друг за другом: каждый надеялся, что Гонсалан окажет честь именно его дочери. Но на пальце левой руки он носил обручальное кольцо, а в сердце сохранял память о милом смуглом лице и, казалось, совсем не собирался ввести женщину в свою хижину на берегу реки. Гонсалан знал, что по ту сторону долины, за горой, тянутся пастбища скотоводческих фазенд, плантации, дома колонистов и рабочих. Несколько раз, несмотря на грозящую ему опасность, он все же отваживался приблизиться к этим землям, принадлежащим знаменитому сенатору Венансио Флоривалу, имя которого вызывало трепет на много миль вокруг. Так он начал партийную работу среди крестьян фазенды, несмотря на то, что, живя здесь, в лесу, оторванный от всех, не был связан ни с какой организацией. Таково было решение товарищей: он должен исчезнуть бесследно, долгое время скрываться в каком-нибудь глухом краю. Ни в одном городе ему нельзя было оставаться – полиция всех штатов разыскивала его и действовал приказ: как только найдут, убить его! Поэтому партия не могла дать ему никакого поручения, и в данный момент Гонсалан был для нее только обузой. Он понимал это и прошел трудный путь сквозь сертаны[81] и горы, через реки и девственные леса, чтобы достичь долины реки Салгадо, где никакой полиции не пришло бы в голову искать его. Время от времени какая-нибудь газета столицы штата Баия упоминала о нем как о человеке, ответственном за последние политические события. Некоторые уверяли, что он присоединился к банде Лампиана[82], другие клялись, что видели его на улицах маленьких городов во внутренних районах страны. Всякий раз, когда прессе нехватало сенсационных новостей, редакторы вспоминали о Гонсалане и в газетных заголовках появлялся запрос начальнику полиции: «Куда девался Жозе Гонсало?» Начальник полиции в очередном интервью разъяснял: поиски продолжаются не только в Баии, но и по всей стране; днем раньше или позже арест «бандита» – дело решенное. Лишь один человек во всей Бразилии знал, где находится Гонсалан, – это был товарищ Витор из северо-восточного комитета, партийный руководитель по району Баии. Это Витор указал ему на карте затерянную в лесах долину. – Этот край почти необитаем, – сказал он. – Богатейший край! Я недавно прочел о нем в статье, опубликованной одним американским журналом. Американцы, наверно, скоро дотянутся до него своими жадными щупальцами. Там марганца – хоть завались. Почему бы тебе не отправиться подождать их там, покуда они не нагрянут? Они или немцы; немцы тоже очень интересуются этим районом. Гонсалан отмерил пальцем расстояние на карте. – Да, прогулочка… – И добрый великан улыбался: – Завтра же я отправлюсь туда… Суд над ним уже закончился, приговор был опубликован: сорок лет тюрьмы. Он засмеялся и сказал с притворным ужасом: – Мне тридцать два; если я сорок лет просижу в тюрьме, то выйду на волю дряхлым старикашкой… – Если тебя поймают, то убьют в назидание другим. Это восстание индейцев было первым в Бразилии серьезным выступлением против латифундистов[83], и они боятся, как бы оно не повторилось. Иногда, находясь среди кабокло долины реки Салгадо, Гонсалан вспоминал индейцев Ильеуса. Они тоже верили ему и смотрели на него тем же теплым, дружеским взглядом. Остатки племени, спасшиеся от бойни, тянувшейся долгие годы со времен колонизации, – они обрабатывали землю, доставшуюся им от предков. При колонии существовало маленькое отделение «Службы покровительства индейцам»[84]. Гонсалан служил фельдшером в колонии, ему нравилось работать среди индейцев, он учил их грамоте и одновременно пробовал приобщить к политической жизни. Товарищи устроили его на место после того, когда он оказался на подозрении у полиции как руководитель стачки на фабрике растительных масел. Профессией фельдшера он овладел еще на военной службе. Коммунистом он стал в госпитале, куда поступил после демобилизации. Один из врачей снабдил его популярной литературой, и вскоре он стал деятельнейшим активистом. Из госпиталя он перешел на фабрику. Стачка была для него полезной школой. Но после нее он не мог уже жить спокойно: полиция считала его опасным, и в любой момент ему грозил арест. Вот тогда-то через врача, который способствовал его сближению с партией, ему и удалось устроиться фельдшером в колонию Парагуассу. С прибытием Гонсалана партийная работа оживилась не только среди индейцев колонии. Он находил время и на то, чтобы помочь партийным организациям Ильеуса и Итабуны, Пиранжи и Агуа Преты, побеседовать с батраками, работающими на фазендах какао. Вскоре уже на сотни миль вокруг все знали этого великана, а индейцы колонии просто обожали его; им нравилось раскрывать ему секреты приготовления лекарств из целебных трав и корней, приносить ему в подарок болтливых попугаев и прирученных черных птиц с блестящим опереньем. Он ходил с индейцами на плантации с топором и серпом в руках, рубил деревья и собирал плоды, рыл мотыгой землю – он знал, что это лучший способ завоевать их доверие. Старый сержант, управлявший колонией, был тихий человек и ни во что не вмешивался. Его единственной страстью было удить рыбу в окрестных водах, и жизнью маленькой общины фактически руководил коммунист Гонсалан. Благодаря усердной работе индейцев урожайность этих плодородных земель все время повышалась. Как-то один ловкий политик обнаружил, что юридически эти земли никогда не передавались кабокло, – это были «ничьи земли». При дружественной поддержке губернатора штата этот ловкий политик потребовал, чтобы в нотариальной конторе, регистрировавшей землевладения, на его имя был записан участок «ничьей земли», который он уже обмерил. Обитатели колонии Парагуассу и индейцы узнали об этом, только когда однажды перед ними появился политик со свидетельством о праве на землю в руках, чтобы вступить во владение участком «путем дружественного соглашения с туземцами». Гонсалан заставил старого сержанта поехать в Рио-де-Жанейро, чтобы довести дело до сведения дирекции Службы покровительства индейцам, главой которой был армейский генерал. Служба покровительства индейцам зашевелилась, дело попало в суд. Процесс длился довольно долго; генерал, глава общества, казалось, принимал интересы индейцев близко к сердцу. Когда сержант вернулся, Гонсалан поехал в Баию посоветоваться с руководством партии. Витор, теребя кончики длинных пышных усов, сказал ему, как всегда резко и напрямик: – Не надо строить иллюзий по поводу решения суда. Это суд классовый, суд латифундистов. И несмотря на то, что дело скандальное, что здесь явная кража земли, Верховный суд не решит его в пользу индейцев. Питать такого рода иллюзии значило бы разоружать бедных землевладельцев и колонистов… – Индейцы готовы защищать свою землю с оружием в руках, – возразил Гонсалан. – Они храбрые люди, эта земля – единственное, что у них есть, и они ни за что на свете не отдадут ее, будут сражаться за нее насмерть… – Мы обсудим этот вопрос с руководством партии. Надо немедленно принять решение. В ожидании решения суда Гонсалан занялся подготовкой к сопротивлению. Он собрал все оружие, которое сумел достать, добросовестно изучил все дороги, ведущие к этому участку земли, долго советовался с индейцами. Сержант по-прежнему увлекался рыбной ловлей и всем говорил, что уверен в благоприятном решении суда: генерал ему гарантировал, что правосудие не отнесется с одобрением к такому скандальному делу, а поэтому индейцы могут продолжать спокойно обрабатывать свою землю, унаследованную от предков. Но, как и предвидел Витор, дело в Верховном суде решилось не в пользу индейцев. Новый владелец приехал вместе с полицейским инспектором и наемной охраной из уголовных элементов. Сержант опустил голову – он был опечален и обманут в своих надеждах, но раз так решено – значит, земли по праву принадлежат новому владельцу. Политик был великодушен: он склонен не только оставить на своей земле индейцев в качестве издольщиков, но и сохранить пост Службы покровительства индейцам в Парагуассу и помогать ему. Дело, казалось, разрешилось к общему благополучию, но внезапно индейцы куда-то исчезли, а с ними исчез и Гонсалан. Никто из них не верил словам ловкого политика. Новый хозяин в сопровождении инспектора полиции, сержанта и нескольких охранников отправился осматривать свои владения. Он был встречен градом пуль. Так началось восстание индейцев колонии Парагуассу, длившееся больше месяца, на подавление которого были брошены все силы военной полиции штата. Во время первого столкновения был ранен новый владелец и убит один из охранников. Несмотря на это, индейцам пришлось отступить. Разговор между сержантом и Гонсаланом после этой первой стычки был невеселым. Старый рыболов пытался убедить Гонсалана в бесполезности сопротивления: – В нашем краю бедняк – ничто. Чего могут добиться индейцы своим сопротивлением, если даже генерал, со всеми своими звездами, ничего не мог сделать? Восстание – это самоубийство… Он не понял доводов Гонсалана и ушел поутру, унеся с собой свои удочки и беспредельную тоску по этим землям и этим кротким индейцам, бедным божьим созданиям. По прибытии в Ильеус он был арестован и провел восемь дней в тюрьме, до тех пор пока не была выяснена его полная непричастность к восстанию. А тем временем новый хозяин, лежа в больнице, где ему вынули пулю из бедра, вел переговоры с местными властями, организовывал карательную экспедицию. Многочисленным друзьям, приходившим навестить его, он смеясь говорил: – Я последний бандейрант[85] Бразилии. Карательная экспедиция, составленная из солдат военной полиции, расквартированных в Ильеусе и Итабуне, а также из наемных бандитов, набранных по фазендам, провалилась. Вооруженные индейцы стойко сопротивлялись, они были меткими стрелками. Прибыло подкрепление из Баии во главе с полковником военной полиции и в сопровождении журналистов. Имя Жозе Гонсало вскоре завоевало громкую и грозную известность во всей стране. Так как журналисты почти ничего не знали о его прошлом, они выдумывали разные темные истории, связав его имя с бандитизмом, господствовавшим в штате в течение последних лет, и изображали его закоренелым преступником, состоящим на службе у коммунистов. Только один из корреспондентов, молодой писатель мулат, доказывал в своих статьях, что правда на стороне борющихся индейцев. Он был вскоре вызван в редакцию газеты, а когда приехал в Баию, полицейские агенты ночью напали на него и избили до полусмерти. Какое право он имел, обманув доверие своей газеты, рассказывать о пытках, которым полковник и его подчиненные подвергли взятого в плен индейца? Об ужасных пытках, вызывавших в памяти времена колонизации, когда португальские дворяне вместе с отцами-иезуитами сжигали живьем индейцев, встречавшихся на пути продвижения «бандейрас» – вооруженных отрядов, завоевывавших новые земли. В то же время по всей округе, среди тысяч сельскохозяйственных рабочих ширилось движение солидарности с восставшими индейцами. По ночам, рискуя жизнью, люди пробирались через плантации, охраняемые дозорными, чтобы принести провиант и боеприпасы в пост Парагуассу, а некоторые оставались там, решив предоставить свой меткий глаз и твердую руку в распоряжение повстанцев. Индейцы, руководимые Гонсаланом, держались больше месяца. Из Баии приходили все новые подкрепления. Земли колонии были окружены, газеты с каждым днем уделяли все больше и больше места восстанию, индейцы гибли один за другим, но не складывали оружия. Каждое продвижение латифундистов вперед стоило крови. Работники окрестных фазенд слышали перестрелку и учились. Учились на примере этих индейцев. Для них имя Гонсалана приобрело совсем другое значение, чем для богатых плантаторов этих мест. А кольцо осады все сужалось и сужалось, территория, занятая повстанцами, уже почти не выходила за пределы поста Пара-гуассу, и людей у них осталось совсем мало. В этот день Гонсалан во время вылазки был ранен, и индейцы, знающие лесные тропинки, как свои пять пальцев, проявив отчаянную храбрость, совершили чудо, которое было под силу только им: они перенесли Гонсалана в отдаленный дом, где жили друзья. Следуя его советам, они уже раньше предали огню плантации и хижины. И когда на следующий день новый хозяин вступил в свои владения, перед ним расстилалась голая выжженная земля, пропитанная человеческой кровью. Через сертаны Гонсалана доставили в Баию. Шли короткими переходами, скрываясь под покровом ночной темноты, потому что полиция, брошенная на преследование вождя восстания, обшаривала все дороги. Его прятали батраки фазенд, колонисты, мелкие земледельцы. Приветливо улыбаясь, они давали ему пищу. Гонсалан отрастил бороду и теперь казался этим людям одним из тех святых пророков, которые время от времени, порожденные голодом и нищетой, внезапно появлялись в северо-восточной каатинге[86]. Только этот святой не говорил о конце мира, о смерти, о каре божьей. Он говорил о борьбе и о жизни, о счастливом будущем, которое нужно завоевать. В Баие товарищи прятали его, пока длился процесс. Некоторые индейцы были арестованы, большинство пало в бою, оставшиеся исчезли, скрываясь в хижинах батраков на фазендах. Полиции удалось установить, что Гонсалан – это опасный коммунист Жозе Гонсало, зачинщик забастовки на фабрике растительных масел, гигант, который однажды во время митинга ударом кулака сбил с ног представителя охраны политического и социального порядка. Служба покровительства индейцам зашевелилась (чего она не делала за все время борьбы) и во всем происшедшем обвинила Гонсало. Индейцы, после того как их жестоко избили в тюрьме, были выпущены на свободу, а Жозе Гонсало приговорен к сорока годам тюрьмы. Когда приговор был оглашен, один из арестованных индейцев сказал адвокату, члену партии: – Если на свете есть хороший человек, так это Гонсалан. Посадить его в тюрьму – это все равно, что захватить в плен землю, которая кормит людей… Но я знаю, что его все равно не удастся взять. Он сильней, чем вся полиция вместе взятая. Да, партия была сильней, чем вся полиция вместе взятая. Землевладельцы не были удовлетворены: приговор – это еще мало; им нужна была голова мятежника, этого дерзкого храбреца, восставшего против власти латифундистов. Баиянская полиция была занята только поисками вождя восстания индейцев колонии Парагуассу. Для этого была мобилизована и полиция других штатов; газеты утверждали, что арест мятежника – дело нескольких дней, что на след его уже напали. Гонсалан переходил из дома в дом. Квартиры коммунистов и сочувствующих находились под наблюдением полиции, ее агенты наводнили пристани, вокзалы, автобусные станции и устроили засады на дорогах. Полицейским был дан приказ – стрелять, как только мятежник будет обнаружен, а потом можно будет распространить слух, что он сопротивлялся и убит при попытке к бегству. Как-то раз Гонсалан сказал Витору: – Я становлюсь обузой для партии. Тогда-то руководитель и указал ему на карте этот глухой уголок Бразилии, рассказав, что американцы и немцы обращают жадные взоры к долине реки Салгадо. – Если бы только мне удалось выбраться из города! Дорога меня не страшит. Всюду в сертанах у меня друзья, а когда кончатся сертаны, я найду новых друзей. Он уехал не на корабле, не на поезде, не на автобусе и не на автомобиле. Он уехал на рыбачьей шхуне, спрятавшись на ее дне, между кирпичами, под брезентом. Около полуночи она отчалила от маленькой рыбачьей пристани напротив элеватора, и капитан шхуны Мануэл, взявшийся по просьбе его друга, негра-докера, Антонио Балдуино, довезти Гонсало до места назначения, в момент отплытия запел песню моряков: Человек умирает лишь в тот день, Который назначит ему Еманжа[87], А раньше ни пуле, ни волнам морей Не одолеть храбреца… Под белыми парусами, вздымающимися к звездам, шхуна рассекала воды баиянской бухты и взяла направление к Кашоэйре, как будто ведомая огоньком, сверкавшим в глиняной трубке капитана Мануэла. А с берега, словно вторя песне рыбака, послышался низкий голос негра Антонио Балдуино, которому было поручено проводить беглеца. Этот голос словно напутствовал уходящую шхуну и пел «абесе»[88] о Гонсалане, сложенный каким-то безвестным певцом и распространившийся на набережных и рынках среди рабочих, докеров и крестьян, среди негров и мулатов: Он полковник бедняков, Он индейцев капитан, Он всех смелых генерал, Гонсало – Гонсалан Как мятежник осужден И к тюрьме приговорен, Но свободен от оков, Гонсало – Гонсалан Хоть всю Баию обойдут, Его ищейки не найдут! Он должен был добраться до долины реки Салгадо, и он добрался до нее. Он сказал Витору, что у него в сертанах много друзей, но друзей оказалось гораздо больше, чем он думал. Он путешествовал самыми различными способами; один крестьянин отсылал его к другому; большую часть пути он прошел бок о бок с гнавшими стада пастухами, одетыми в кожаные куртки. Несколько дней ехал в одной из повозок цыганского табора, слушая песни на незнакомом языке, паял котелки и кастрюли. Как-то ночью в заброшенном ранчо встретился с разбойниками, слушал рассказы об их подвигах, о налетах на фазенды, поселки и города. Шел по тем дорогам, где когда-то, в 1925–1926 годах, проследовала Колонна Престеса, и узнал, что крестьяне этих мест еще хранят память о революционере, которого видели своими глазами. Пробыл несколько дней в алмазных копях, в мире авантюристов всех рас и цветов кожи. Он шел все дальше и дальше и вскоре услышал разговоры о таинственной долине реки Салгадо, затерянной в непроходимой чаще леса. Говорили, что это место – надежное убежище для индейцев-дикарей из бродячего племени шавантес и других племен, еще более невежественных и примитивных. Рассказывали, что там господствует малярия и какая-то неизвестная смертоносная лихорадка, что комары и москиты разносят таинственные и неизлечимые болезни. О редких маленьких поселках, разбросанных по берегам реки, мало что было известно: ходили смутные слухи о том, что в этих затерянных, неисследованных местах живут кабокло. Поселки встречались все реже и реже, только случайные люди попадались Гонсалану на пути через бесконечные сертаны. Он шел через леса и болота, иногда по целым дням не видя живой души. Ему казалось, что он заблудился в этом зеленом лабиринте, лицо его распухло от укусов москитов, руки были исцарапаны, ноги в язвах. Но непреклонная воля заставляла его продолжать путь, и он прошел весь лес, от края до края. Когда он дошел до берега реки, вид его был страшен: грязный, оборванный, усталый, больной человек с карабином на плече и пистолетом за поясом. Вскоре он уже знал всех, живущих на побережье. Здесь никого не спрашивали – откуда он пришел, какое темное прошлое привело его в этот лесной мир, где жизнь человека почти ничем не отличалась от жизни диких животных. Здесь встречались люди из сертанов, изгнанные из своих родных мест засухой или помещиками. Жил здесь один уроженец Сеары[89], низенький и очень говорливый; его гитара была единственным музыкальным инструментом на всю округу. Гонсалан любил говорить, что этот уроженец Сеары, знаток народных песен и сказаний, – представитель литературы и искусства в долине реки Салгадо, а сам он, Гонсалан, с его скромными познаниями фельдшера и умением лечить травами, которое он перенял у индейцев, – представитель науки. Отвязывая свою лодку, чтобы отправиться вниз по реке навестить уроженца Сеары, он в шутку говорил самому себе: – Наука едет в гости к искусству… Здесь жили, главным образом, пожелтевшие от малярии кабокло, бежавшие из феодального рабства фазенд; у некоторых из них были огромные семьи. Все они были довольны тем, что возделывают свою собственную землю. Центром этого примитивного мира являлся сириец с татуированной грудью, – это была торговля. Сириец имел жалкую лавчонку, где он продавал сахар, кашасу, спички и табак, отрезы дешевой ткани, изюм, топоры, серпы, удочки, а главным образом – карабины и пули. Сириец не сидел в лавке: большую часть времени он проводил в лодке, подплывая то к одной, то к другой плантации, меняя свои товары на маис, кофе и маниоковую муку у земледельцев. Каждые два-три месяца он, погоняя ослов, отправлялся в далекий путь покупать и продавать. Он возвращался с запасом сахара, спичек, кашасы и табака, пуль и изюма, иногда привозил какую-нибудь шляпу кустарного производства или зеркальце, которое какой-нибудь из кабокло покупал для своей жены. Сириец был молчаливый, мрачный человек и говорил на ломаном португальском языке с арабским акцентом, часто вставляя французские слова. Как-то раз, когда был пьян, он рассказал Гонсалану кое-что о своей жизни: из-за тяжкого преступления, совершенного в минуту страсти, он был приговорен к пожизненному тюремному заключению и отправлен из Марселя, где тогда жил, во Французскую Гвиану. Ему удалось бежать из Кайенны и через амазонскую селву добраться до Манауса. Там он прожил несколько лет, с коробом бродячего торговца долго плавал по Амазонке, но в один прекрасный день его инкогнито было раскрыто, и по требованию французского суда он был снова арестован. Пока шел процесс о выдаче преступника иностранным властям, он, при содействии тюремного сторожа, которого ему удалось подкупить, снова бежал и отправился в долину реки Салгадо. Здесь он и собирался провести остаток своей жизни. Он рассказывал свою историю ровным голосом с застывшим лицом, сложив неподвижные руки на коленях, совершенно спокойно. Взволновался только, когда заговорил о женщине, которую убил из ревности той далекой ночью: – Она была blonde[90] и звали ее Жинетт, но для меня она была Жино, так я ее всегда называл, – он расстегнул ситцевую рубашку и показал татуировку на груди: сердце, пронзенное стрелой и под ним – имя, которое он только что произнес. – C'est зa[91] … Почему она говорила, что любит меня, а уходила спать с другим, в то время когда я работал? – Он замолчал, сжав голову руками, потом добавил: – Иногда я думаю, что она так поступала не со зла, такова уж была ее природа. C'est зa… Но когда я открыл ее измену, я ни о чем не мог думать, я ее зарезал rasoir[92] … Она была blonde, дружище. Я каждую ночь вижу ее во сне. – Он опрокинул себе в рот стопку кашасы и повторил: – C'est зa… Когда Гонсалан внезапно слег, заболев малярией, сириец сразу же приехал к нему. От лихорадки смуглое лицо гиганта приняло зеленоватый оттенок и осунулось. Сириец заставил больного принять лошадиную дозу принесенного им с собой хинина и сказал: – Нашелся еще один покупатель на хинин… За первую порцию я никогда не беру денег. C'est зa… У него самого никогда не было малярии, объяснил сириец Гонсалану; он вообще никогда не болел. Когда река обмелела, малярия свалила с ног добрую половину земледельцев. Сириец ездил в своей лодке от плантации к плантации и развозил хинин, за который требовал много кофе и много маиса. Когда Гонсалан поправился, он стал сопровождать торговца в этих поездках, объясняя больным правила гигиены, леча их целебными травами и корнями. Часто они появлялись слишком поздно: больной уже был мертв, и тело его покоилось в лесу под одним из деревьев или, если у покойного не было родственников, которые вырыли бы для него могилу, просто лежало на дне реки. В начале 1938 года, когда происходили эти события, сириец снова отправился со своими ослами через горы, в далекий цивилизованный край, продавать кофе, маис и маниоковую муку. Он возвратился, как всегда, с грузом спичек и табака, кашасы и сахара, рыболовных крючков и пуль. И привез старые газеты. Каждый раз, когда он уезжал, Гонсалан просил его достать газеты. Только тогда он, а с ним и другие обитатели долины, узнал о государственном перевороте, происшедшем десятого ноября 1937 года, более трех месяцев назад. Жителей долины, за исключением Гонсалана, не слишком взволновала эта новость. Им было не так уж важно, кто сидит во дворце Катете в Рио-де-Жанейро и какой режим господствует в стране. Но другая новость, о которой сообщали газеты, привезенные сирийцем, взбудоражила спокойную жизнь долины. В одной из газет сообщалось, что некий Сезар Гильерме Шопел, поэт и издатель из Рио-де-Жанейро, получил от правительства в концессию земли долины реки Салгадо и собирается провести ряд мероприятий для оздоровления этого района, проложить там дороги, протянуть телеграфные провода, построить фабрики, вырыть шахты. Все это газета характеризовала как благородное проявление патриотизма. Гонсалан читал и перечитывал это сообщение; он был один – сириец уехал на своей лодке, оставив табак и сахар, кашасу и пули. Он вышел на берег реки, взглянул на лес, на полноводную реку, на маленькие плантации соседей-кабокло и тихо сказал самому себе: – Витор был прав. Они придут сюда. Но кто они такие, американцы или немцы? Он расправил свои богатырские плечи, решительно сжал кулаки, и легкая улыбка скользнула по его лицу. «Неважно, кто они такие: я здесь, чтобы дождаться их, и я сумею их достойно встретить, слишком я устал от долгого бездействия…» Река текла перед ним, равнодушная ко всему, увлекая в своем течении древесные стволы, сухие сучья, трупы животных; дремал под лучами тропического солнца лес, полный диких зверей, змей и тайн. 2
Лукас Пуччини слышал ворчанье тети Эрнестины; в ушах упрямо звучали ее слова. Старая дева, казалось, была недовольна новым жилищем, словно скучая по сырому, темному домику в предместье города, по запаху плесени, исходившему от его стен; она никак не могла привыкнуть к лучам солнца, проникавшим сквозь большие окна и заливавшим ярким светом квартиру в стиле «модерн» на площади маршала Деодоро. Она словно не доверяла всему этому внезапному благополучию, исподлобья глядела на племянника, одетого в новый, сшитый по заказу костюм с жилетом, и хмурилась, когда Мануэле, проходя по комнате, танцевала и пела, веселая, как птичка весной. Дедушка и бабушка ходили гулять с детьми в соседний сад. Вот они действительно были довольны переездом! Долгими часами сидели они рядышком на скамейке в саду и с удовольствием наблюдали оживленную жизнь главной улицы города. Лукас написал шурину о перемене в своей жизни, о новой службе, о перспективах на будущее и советовался с ним, как устроить старшего мальчика в колледж. Тетя Эрнестина молила пресвятую матерь божию, чтобы все это неожиданное (и казавшееся ей необъяснимым) благополучие не окончилось какой-нибудь бедой. И, прячась в темных уголках от раздражающего солнечного света, она тихонько ворчала, браня племянницу и племянника, весь человеческий род вообще и веселье, царящее в доме. Особенно она ненавидела все относящееся к любви; в этом сказывалось отвращение человека, который никогда не был любим, никогда не чувствовал на себе нежного взгляда, не слышал теплого, ласкового слова. Поэтому большая часть ее неодобрительных, резких слов относилась к Мануэле, по радостному настроению которой Эрнестина угадала, что племянница влюблена. Когда Мануэла в конце дня или вечером, уходя на свидание с Пауло, прихорашивалась перед зеркалом, чтобы казаться еще красивее, тетка цедила сквозь зубы: – Иди, глупышка! Шляйся с этим мешком костей; на него и смотреть тошно… Раз у него есть автомобиль и деньги, раз он тебе дарит духи и говорит всякие глупости, ты уж думаешь, что он на тебе женится! Он выбросит тебя на улицу, как последнюю бродяжку, вот тогда-то я посмеюсь… Беги за ним, как собачонка, обнимайся с ним!.. Так она бродила по дому, скользя вдоль стен, стараясь испортить настроение окружающим, зная, что слова ее могут дойти до слуха Лукаса. – А брат, – ворчала она, – вместо того чтобы последить за сестрой, только и думает, как бы нажить побольше денег; вот увидим, чем он кончит, еще и нас всех упечет на каторгу… Где он возьмет столько денег, чтобы платить за эту квартиру да еще за уроки танцев для сестры? Сдается мне, что тут дело нечисто. Защити меня, матерь божия, а то меня просто страх берет… Сначала Лукас смеялся и отвечал на слова тетки шутками, но постепенно эти пророчества начали его раздражать. И не столько косые взгляды, намеки и ворчанье на его счет, как нападки на Мануэлу, поведение которой иногда беспокоило и его самого. С тех пор как сестра начала посещать уроки балета и по мере того, как она все больше и больше влюблялась в молодого дипломата, она становилась совершенно другим человеком. От ее меланхолии не осталось и следа, она приобрела независимый характер и была полна всяких планов на будущее еще больше, чем сам Лукас. Она познакомилась со многими людьми из литературной и артистической среды, ходила вместе с Пауло на вечеринки в ателье художников и на литературные вечера, позировала какому-то художнику-модернисту, рисовавшему ее портрет, употребляла в разговоре изысканные слова и выражения – словно, переехав на новую квартиру, она превратилась в нового человека. Она была совсем не похожа на прежнюю Мануэлу – робкую девушку, обитательницу сырого дома в предместье города. Однако Лукаса беспокоило не то, что сестра вращается в другом кругу. Он понимал, что, если она всерьез хочет стать балериной, ей необходимо проникнуть в среду литераторов и артистов. Но его заботила страсть Мануэли к Пауло; временами это омрачало приподнятое настроение, в котором он находился в течение последних месяцев. Он чувствовал, что сестра всем своим существом отдалась любви и не хотела бороться со своим чувством; молодой человек был для нее богом, она клялась его именем, она готова была исполнить любое его желание, Лукас колебался, следует ли ему вмешаться, запретить Мануэле видеться с Пауло, познакомить ее со своими новыми друзьями из министерства – молодыми людьми с обеспеченным будущим, желающими обзавестись семьей. Он немного опасался, чтобы мрачные и злобные пророчества тетки в самом деле не сбылись. Он боялся, что уже поздно вмешиваться в это дело, не зная, как далеко зашли отношения сестры с ее поклонником. Мануэла целые дни проводила вне дома, иногда возвращалась за полночь, с усталыми глазами. Но Лукасу было как-то неловко спрашивать ее о чем-нибудь. Он молча слушал рассказы о ее предполагаемом выступлении в Рио-де-Жанейро. Некто Шопел, поэт (о котором, кстати, ему говорил Эузебио Лима как о человеке, достойном всяческих похвал, с большим литературным и общественным будущим, друге министра юстиции и одном из приближенных банкира Коста-Вале), близкий знакомый Пауло, обещал помочь ей в этом деле. Мануэла обучалась характерным туземным танцам и должна была быть представлена публике как «подлинная бразильская балерина», которую якобы отыскали среди индейцев долины реки Салгадо (поэт очень интересовался этим районом, так как там намечалась постройка большого предприятия); ее прочили в соперницы известной артистке Эрос Волюсия, она считалась явлением необычайным и невиданным. В прессе начинали появляться осторожные заметки, и сам банкир Коста-Вале заинтересовался карьерой Мануэлы, считая, что эта история с танцами будет хорошей рекламой для его нового предприятия. Лукас видел, что сестру, как и его самого, ждет блестящее будущее. И раздумывал, заплатила ли она уже Пауло ту цену, которую обязательно должна будет заплатить за свое будущее. Или, может быть, он ошибается… Лукас колебался между некоторым цинизмом, к которому приучился во времена бедности и честолюбивых мечтаний (он называл эту свою черту «реализмом»), и предрассудками, унаследованными от семьи, религиозной и придерживающейся строгих моральных принципов. Днем, слыша ворчание тетки Эрнестины, он давал себе слово, что вечером поговорит с Мануэлей: обсудит с ней всё, даст ряд советов и примет все меры, чтобы помешать падению сестры. Но вечером Лукас ничего ей не говорил: он не мог победить в себе интерес, возбужденный в нем самом проектами этого поэта и Пауло. Иногда он и сам под влиянием этих проектов увлекался неожиданными и смелыми фантазиями. Когда Мануэла, немного напуганная открывающимися перед ней блестящими перспективами, рассказывала о кампании, которая должна начаться за месяц до ее дебюта (а дебют предполагался зимой в Рио-де-Жанейро), о приготовлениях к ее прибытию в столицу на самолете якобы прямо из долины реки Салгадо, Лукасу казалось, что честь сестры – совсем не такая большая цена за все эти успехи. Но, несмотря ни на что, ему все-таки трудно было расстаться с тем представлением о будущем Мануэлы, которое он создал себе в далекие дни своих прежних мечтаний: брак с серьезным, хорошо обеспеченным человеком, с которым Мануэла могла бы прожить спокойно и безбедно. Так он всегда представлял себе будущее этой девочки, единственного существа, к которому чувствовал настоящую привязанность. А теперь она попала в водоворот событий, вращалась среди людей, занимающихся литературой и искусством, безусловно блестящих и талантливых, но с сомнительными моральными устоями, без всякого уважения к общепринятым условностям. Что с ней будет? Имеет ли он право вмешаться в ее жизнь, помешать ее карьере, запретить ей танцевать, воспрепятствовать тому, чтобы она создала себе имя и купалась в деньгах? А кроме того, – думал Лукас, – превратившись в известную артистку, она сможет быть полезной и ему; ведь его карьера тоже только начинается. Эта мысль заставляла Лукаса в разговорах с Мануэлей не касаться ее отношений с Пауло. Мануэла даже познакомила брата с Шопелом в один из приездов поэта в Сан-Пауло, куда он теперь часто наведывался. Что касается Пауло, то Лукас не поддерживал с ним дружеских отношений. Встречая его иногда около их дома ожидающим Мануэлу, Лукас пожимал ему руку, обменивался несколькими обычными любезностями и уходил. Он чувствовал себя неловко в присутствии этого элегантного молодого человека с аристократическими манерами. Но зато Шопел нравился Лукасу: поэт как-то больше подходил к его кругу, несмотря на громкое имя, восхваляемое в газетах, на печатные произведения и важные знакомства. Шопел подолгу беседовал с Лукасом о работе в министерстве, показывая тонкое знание многих секретов высшей администрации; он понимал толк в выгодных делах, знал, как умело употребить высчитанные из заработной платы трудящихся деньги пенсионной кассы. Лукасу казалось, что и Шопел хорошо к нему относится; поэт обещал представить Лукаса, когда тот поедет в Рио, некоторым влиятельным лицам, которые смогут впоследствии быть ему полезными. Он много говорил о будущем Мануэлы, сказал, что у нее большие способности к танцам, что преподавательница просто поражена ее успехами и что, без сомнения, девушка сделает головокружительную карьеру. Многое зависело от дебюта, но тут он сможет помочь, ему нравится открывать новые таланты и помогать им, он по собственному опыту знает, как трудны для писателя или артиста первые шаги. Мануэле повезло, что она встретилась с Пауло: молодой человек имеет большой вес в литературной среде. Даже знаменитый социолог Эрмес Резенде интересуется ею. Да к тому же одним из ее больших преимуществ является чудесная девственная красота, ее лицо с классически совершенными чертами. Лукас опускал голову и задумывался: он понимал весь явный и тайный смысл слов Шопела. «Надо быть реалистом», – повторял он самому себе. Поэт рассказывал также о новом предприятии, крупном патриотическом начинании, о котором все газеты (подчиненные теперь правительственной цензуре через департамент печати и пропаганды[93], являющийся, пожалуй, самым мощным министерством нового режима; директором департамента был друг Шопела) отзывались с одинаковым одобрением, как о смелом шаге, предпринятом в интересах нации. Лукас не раз читал в газетах о «замечательных мероприятиях по оздоровлению долины реки Салгадо, осуществляемых исключительно при помощи национального капитала, – мероприятиях, которые будут способствовать цивилизации и прогрессу всего огромного необитаемого района страны и одновременно откроют новый путь перед бразильской экономикой, освободив ее от иностранного влияния, что соответствует духу национального патриотизма, свойственного Новому государству». Эузебио Лима как-то в разговоре с Лукасом о Шопеле сказал по поводу предприятия в долине реки Салгадо: – За спиной этого толстяка стоит Коста-Вале. Он сам и вся его компания: комендадора да Toppe, графы Калепи, семья Мендонса… А вот кто стоит за спиной Коста-Вале, этого я уже не знаю… это тайна. Кто говорит – американцы, а кто – немцы… Я думаю – американцы… Шопел только орудие, но он на этом деле разбогатеет. Пожалуй, он даже способен бросить свою глупую поэзию… В конце концов, поэт предложил Лукасу хорошее место в новом предприятии. В этих сертанах и лесах нужны будут смелые, отважные люди, и он угадывал в Лукасе именного такого человека. Пуччини поблагодарил и отказался. Он не хотел ни от кого зависеть. Служба в министерстве труда его как раз тем и устраивала, что там он был сам себе хозяин. Поэт его подзадоривал, ударяя по плечу толстой потной рукой, пообещал представить кое-кому в Рио-де-Жанейро. На прощанье он предложил Лукасу сигару и сказал: – О Мануэле не беспокойтесь. Я позабочусь о ней и, возможно, вскоре она будет вам очень полезной… Так думал и сам Лукас, когда, сердясь на ворчание тетки Эрнестины, чувствовал угрызения совести за то, что забросил сестру, предоставив ее самой себе в этом чужом для нее мире. Здесь ей так легко было споткнуться, особенно теперь, когда она ничего не видела, кроме красоты и доброты этого молодого человека, который казался Лукасу таким холодным, не способным ни на какое глубокое чувство, ни на какую длительную привязанность. Да к тому же как порицать сестру, если он сам не может служить для нее примером? Правда, в своих моральных принципах он почти полностью придерживался семейных устоев, но считал, что деловой мир – нечто совсем особое и там действуют другие законы, подчиняющие даже мораль целям наживы. Уже сейчас, меньше чем через три месяца после поступления на службу в министерство, он сумел увеличить свое жалование в три-четыре раза благодаря услугам, которые оказывал предпринимателям, имеющим дела в управлении охраны труда, наживая на конфликтах предпринимателей с рабочими, экономя на оплате отпусков рабочим и операциях с профсоюзными фондами. Эузебио Лима научил его этим хитростям, которыми пользовались многие из его коллег, связанные с политической полицией, с кабинетом президента республики и наместником штата. Эти люди называли себя профсоюзными лидерами, а на самом деле были чем-то вроде личной охраны политических деятелей и одновременно темными дельцами . Лукас, подобно другим, старался извлечь из своей службы как можно больше выгоды, но считал, что это недостаточное поле деятельности для осуществления его честолюбивых надежд, и с удобного наблюдательного пункта, каким являлось для него министерство труда, высматривал, не подвернется ли крупное доходное дело, о котором давно мечтал. Такая перспектива казалась ему возможной. Другие, служившие в министерстве до него, сделали большую карьеру. А в ожидании лучших времен он пока поживится от дружбы с Эузебио Лимой легко добываемыми деньгами, которые так и льются в карман. Обо всем этом он ничего не говорил Мануэле. Если в отношении личной жизни Мануэла сохранила целый ряд предрассудков, которые он сам в ней поддерживал, то в денежных вопросах она была еще более щепетильна. Если Лукас ей расскажет, что часть своего месячного дохода он получает благодаря мелким сделкам, одолжениям, оказываемым владельцам фабрик, нуждающимся в поддержке министерства против рабочих, Мануэла будет считать, что он ее обманывал, потеряет веру в него. Она способна наделать ошибок, думал Лукас, но только потому, что многого не понимает; она никогда не будет считать честными и справедливыми его сделки с управлением охраны труда, проценты, полученные за предоставление посредникам ссуд из пенсионной кассы за счет фондов, предназначенных для пенсии старым рабочим, уже не способным к труду, и рабочим, пострадавшим от несчастных случаев. Если бы Мануэла узнала об этом, она смотрела бы на него с ужасом, с отвращением. Он сам иногда ощущал отвращение к себе, чувствовал себя так, словно у него руки в грязи. Но это ощущение объяснялось тем, что из всех своих махинаций он пока что извлек мало выгоды. Он согласился бы покрыть себя с ног до головы грязью, если бы на этом можно было хорошо заработать. Деньги не пахнут – такова была его теория. Но эти два конто – два конто пятьсот в месяц, которые он добывал всеми честными и нечестными способами, – это было так мало по сравнению с тем, чего он хотел, в чем он нуждался для того, чтобы чувствовать себя сильным. Лукас был гораздо более честолюбив, чем Эузебио Лима, который счастлив своими маленькими спекуляциями, распоряжениями, получаемыми от президента и министра, лестью мелких служащих; Лукас превосходил в честолюбии даже Шопела, надеявшегося разбогатеть в качестве подставного лица Коста-Вале, он хотел быть наверху, как сам Коста-Вале, командовать политиками и литераторами, повелевать такими людьми, как Эузебио Лима и Шопел. Чтобы достигнуть этого, он готов был на все: готов был прибегнуть к любым средствам, использовать все, что может принести выгоду, даже Мануэлу, ее талант и красоту. И словно для того, чтобы успокоить его совесть, Пауло уехал в Рио: его отпуск окончился, и теперь он должен был каждый день ходить на несколько часов в министерство иностранных дел, где его включили в какую-то неопределенную комиссию по установлению каких-то границ. Он приезжал только в конце недели, и фактически Мануэла проводила с ним лишь субботу и воскресенье. Но Лукас даже не раздумывал об этом; у него не было времени: он целыми днями был занят приготовлениями к приему диктатора, собиравшегося посетить Сан-Пауло в связи с рабочей демонстрацией, которая столько раз откладывалась, а теперь была окончательно назначена через неделю. Эузебио Лима поручил ему сформировать личную охрану главы правительства из самых лояльных сотрудников министерства и профсоюзного руководства, потому что в полиции было много ставленников армандистов и интегралистов, которым нельзя было вполне доверять. Лукас принялся за эту работу в надежде, что будет замечен президентом и сможет установить отличный контакт с человеком, который отныне бесспорно являлся абсолютным властителем страны и повелевал ею, как король. Ворчанье тети Эрнестины раздражало Лукаса. Проклятая старая дева, ханжа, истеричка! Живет на его счет, а даже не может содержать в чистоте дом, вечно жалуется на какие-то приступы боли. Должна бы чувствовать благодарность за то, что у нее есть угол и кусок хлеба, а она еще считает себя вправе критиковать поступки его и Мануэлы, грозить им всякими напастями и проклинать! С ней можно потерять всякое терпение. Он старался сдерживаться: все-таки эта тетка была сестрой матери, бедной больной матери, о которой так хорошо и тепло вспоминал Лукас, – матери, портрет которой он видел в Мануэле – та же красота, та же хрупкость, та же тихая доброта и беспредельная страстность натуры. Как его мать была не похожа на свою сестру!.. Вся семья, за исключением Мануэлы, мешала ему и раздражала его: совсем состарившиеся дед и бабка, бродившие словно тени по дому, и дети, присланные сюда шурином, считавшим, что его отцовские обязанности ограничиваются присылкой пятисот милрейсов ежемесячно. Все эти люди не имеют с ним ничего общего: они, как цепи, приковывающие его к этому миру посредственности, откуда он хочет бежать; они связывают и Мануэлу, которая должна заботиться обо всех, даже об этой неблагодарной тете Эрнестине… Почему не поместить деда с бабкой в приют для престарелых, не отправить детей к шурину, а тетку не поселить в каком-нибудь пансионе. Мануэла собирается в Рио, Шопел уже подготовил ее дебют. Он, Лукас, просто не выдержит здесь один, без сестры, в этой семье, к которой не чувствует никакой привязанности. Надо что-нибудь придумать. Мануэла никогда не согласится поместить стариков в приют и не захочет послать детей в фазенду к шурину, работающему надсмотрщиком. Может быть, через некоторое время, когда он заработает больше денег, нанять гувернантку? Какую-нибудь женщину, которой можно заплатить за то, чтобы она сносила капризы детей и стариков и ухаживала за ними… Но с этим придется еще повременить. Однако нужно немедля покончить с ворчанием тетки, с этим злобным карканьем старой девы. И Лукас сказал ей: – Выслушайте меня, тетя Эрнестина, и слушайте внимательно, потому что я не собираюсь повторять то, что сейчас скажу: либо вы прекратите ворчать и бормотать злобные слова по адресу Мануэлы и моему, либо я вас прогоню отсюда прямо к чертям в пекло, и вы там лопнете со злости… Чтоб никогда больше в этом доме я не слышал вашего ворчанья! – Ты мне угрожаешь! Угрожаешь своей тетке, сестре твоей матери, только потому, что мне негде жить и я принуждена есть твой хлеб!.. Я всю жизнь за вас молилась и сейчас молю божью матерь, чтобы Мануэла не погибла и не стала уличной девкой и чтоб ты не угодил на каторгу, а ты мне угрожаешь!.. – И она истерически заплакала, разразившись отчаянными криками, словно Лукас избивал или душил ее. Он в бешенстве сжал зубы. Ему стоило огромных усилий сдержаться; он повысил голос, чтобы перекричать тетку. – Не беспокойтесь обо мне и о Мануэле, с нами ничего не случится. Вместо того чтобы плакать и проклинать меня, вы бы лучше позаботились о детях и о стариках родителях, вы о них совсем забыли… Вместо ответа она завопила еще громче. «Сейчас она забьется в припадке», – подумал Лукас. Но он сделал над собой усилие и закончил: – Я больше с вами на эту тему говорить не буду. Но если еще раз услышу, что вы говорите гадости про меня и Мануэлу, я выброшу ваш чемодан за дверь, а вас – вслед за ним!.. Он не заметил, как вошла Мануэла. Девушка остановилась в дверях, с удивлением слушая глухой от ненависти голос брата. Она вернулась из балетной студии в самом радужном настроении. Сегодня приедет Пауло, вечером он будет у нее. Увидев Мануэлу, тетка стала рвать на себе волосы и завопила еще громче: – Бессердечный! Гадкий человек!.. – Что случилось? – спросила Мануэла. Лукас обернулся к сестре, не особенно довольный ее появлением. Он уже не мог сдерживать себя, как ему бы хотелось. – Эта старая ведьма только и делает, что поносит нас; каких только пакостей ни говорит про нас с тобой. Я ей сказал, что если она этого не прекратит, я ее выгоню! И так будет… Мануэла взглянула на брата с дружеским упреком. – Но, Лукас, ведь бедная тетя Эрнестина больна. Это у нее не со зла получается, такой уж у нее характер, она всегда была такая… Не ссорься с ней, прошу тебя. У Эрнестины был такой вид, словно она сейчас упадет на пол и забьется в истерическом припадке. Она уже не плакала, а истошно кричала. Мануэла подошла к ней, чтобы проводить в комнату. Но старая дева, заметив, что племянница направляется к ней, отпрянула к стене. – Не трогай меня, бесстыдница! Не трогай! Я еще не знаю, к чему ты прикасалась своими руками. Я не хочу, чтобы ты меня пачкала своей грязью… – И она закричала еще громче, а лицо ее исказилось от ненависти. Мануэла мертвенно побледнела и отступила, а Лукас, ударив кулаком по стене, взревел: – Сейчас же убирайся вон, гадина!.. Он был ослеплен гневом и схватил тетку за руку, готовый немедленно вышвырнуть ее из дому. Мануэла тронула его за плечо. – Оставь ее, Лукас, оставь… Ей некуда идти… Заклинаю тебя памятью мамы… Лукас выпустил старуху и, еле сдерживая гнев, сказал сестре: – Ты слишком добра… Тетя Эрнестина, внезапно стихнув, почти бегом направилась в свою комнату. Мануэла сказала брату: – Я так счастлива, Лукас, что она не может испортить мне настроение. Лукас погладил ее длинные светлые волосы. – Я голову потерял с этой чортовой старухой… Слишком уж она разошлась. Надеюсь, этот урок послужит ей на пользу… Ну, я пошел, у меня дела… Мануэла подала ему шляпу. – Для меня вся жизнь – ты и Пауло. Когда я была маленькой, я любила танцевать для папы и мамы, а теперь я буду по-настоящему танцевать только для тебя и Пауло. Даже если в день дебюта в зале будет много народа, а вы оба не придете, я все равно буду танцевать только для вас… Он поцеловал ее в щеку, она закрыла за ним дверь и, прислонившись к косяку, задумалась. Почему Пауло ни разу не сказал, что хочет жениться на ней? Он говорил ей о любви, и какие чудесные слова он умел находить, чтобы выразить свою страсть! Много раз он ее целовал, ласкал, и она каждый день ждала, что он, наконец, предложит ей стать его женой. Однако Пауло, казалось, не торопился произнести те слова, которых она ждала с таким нетерпением. Всюду, где бы они ни появлялись, ее считали невестой Пауло. Только он один не говорил ни о помолвке, ни о браке. Он предпочитал говорить о балете, о скором отъезде Мануэлы в Рио, водил ее к себе домой, где они проводили интимные вечера на уютных мягких диванах, как жених и невеста, которые скоро станут мужем и женой. Чего же он ждет? Почему не покупает своей нареченной обручальное кольцо, чтобы разом заткнуть рот тете Эрнестине и рассеять страхи, одолевавшие Мануэлу по ночам, когда она была одна в своей комнате. Если он любит ее, если он свободен и у него есть на что жить, почему он не женится на ней? Мануэла отошла от двери, она не хотела думать об этом. Разве не достаточно того, что он ее любит, что он так много делает для нее, каждую неделю приходит к ней, говорит нежные прекрасные слова, гладит ее волосы, берет за руки, целует в губы? Когда-нибудь он обязательно заговорит о свадьбе; это она сама слишком торопится – в конце концов, еще нет и трех месяцев, как они полюбили друг друга. Конечно, думает Мануэла, он ждет дебюта, чтобы сделать ей предложение, это будет лучший подарок в день ее триумфа. Конечно, все дело в этом. Мануэла улыбается и спешит в комнату к тете Эрнестине: «Бедная старушка, у нее нет никаких радостей». 3
В элегантном салоне Коста-Вале за вечерним чаем происходила оживленная беседа между бывшим депутатом Артуром Карнейро-Маседо-да-Роша, доной Энрикетой Алвес-Нето, Сузаной Виейра и бывшим сенатором Венансио Флоривалом по поводу предстоящего приезда диктатора в Сан-Пауло. Только Мариэта Вале не принимала участия в беседе: лицо ее было бледно, как у больной, она сидела неподвижно, невнимательная к гостям, безразличная к разговору, забыв о своих обязанностях хозяйки дома. Известие о том, что комендадора да Toppe собирается открыть для встречи диктатора салоны своего роскошного дворца, спрятанного в тенистом парке, полного ценных произведений искусства, вызвало взрыв негодования со стороны Энрикеты Алвес-Нето. Ее муж надеялся заместить Армандо Салеса на посту губернатора Сан-Пауло, но государственный переворот нанес удар его политической карьере. Дона Энрикета сердито таращила глаза: она была шокирована поведением комендадоры да Toppe, оно уязвляло ее самолюбие представительницы паулистов с четырехсотлетней родословной. – Двери паулистского дома открываются для того, кто унизил Сан-Пауло! Совершенно очевидно, что комендадора не имеет никаких традиций, никто не знает, кем были ее предки… – повторяла дона Энрикета слова, слышанные от мужа, который принимал самое активное участие в заговоре против правительства. Бывший сенатор Венансио Флоривал обратил на нее свой ничего не выражающий взгляд: гнев экзальтированной сеньоры его забавлял. Сузана Виейра, откусив кусочек бисквита, намоченного в портвейне, попробовала утихомирить ее: – Энрикета, деточка, не волнуйся… Лучше поступи, как я: закажи себе новое вечернее платье… Я отдала свое в ателье мадам Берты. Она просто чудеса творит… Жетулио приезжает, чтобы помириться с Сан-Пауло. Так все говорят. – Нет, Сузанинья, подожди… Я, например, не собираюсь его встречать. Комендадора может думать, что хочет, но за все время пока этот… – она подыскивала резкое выражение для характеристики диктатора – …проклятый будет находиться в Сан-Пауло, я не открою ни одного окна в своем доме. Флоривал грубо расхохотался, и этот смех нарушил изысканный тон светской беседы. – Нечего смеяться, сенатор… – Я уже больше не сенатор, дона Энрикета: Жетулио распустил сенат, я теперь не у дел… – И он снова расхохотался. – Мы кое-что придумаем, – сказала Энрикета. – Пока здесь будет диктатор, самые элегантные женщины Сан-Пауло оденутся в траур. Строгий траур… На нашей стороне все высшее общество… Семьи Мендонса, Серкейра, Модесто, Прадо – все присоединились к нам. Мы уже и костюмы заказали. Кто настоящий патриот-паулист, тот в эти дни оденется в черное… Сузана Виейра испугалась. – А я-то ничего не знала… В черное, говоришь? Это будет считаться шиком, да? Почему же меня не предупредили? – Ваша семья на стороне диктатора… Разве твой отец не назначен генеральным прокурором штата? – Ах, это же ничего не значит, дорогая. Папа может встречать его, а я оденусь в черное… Теперь даже в моде, когда у членов одной семьи разные политические взгляды. Взять хотя бы семью д'Алмейда: старик «демократ», голову отдаст за Армандо Салеса; брат, доктор Амброзио – интегралист; старший сын, Мундиньо – сторонник Жетулио, а Сисеро – коммунист… – Мундиньо – вовсе не сторонник Жетулио, – вступилась Энрикета (Раймундо Алмейда в настоящее время был ее любовником). Сузана сказала лукаво: – Конечно, ты знаешь это лучше меня, но я слышала, что его выдвигают наместником в Сан-Пауло… – Сплетни… Он тверд в своих взглядах, и когда придет час… – Какой час, дона Энрикета? – спросил плантатор. Энрикета с таинственным видом ответила: – Я ничего не знаю, лучше спросите у Артурзиньо. Я только знаю одно: Сан-Пауло не позволит так унизить себя… Бывший сенатор обратился к бывшему депутату: – Конспирация, сеньор Артур? Это что еще за глупость? – Я тоже ничего не знаю. После переворота я безвыездно живу в своей фазенде и никого не принимаю. Всем известно, что я против нынешнего режима. Я человек либеральных принципов, не признаю тоталитаризма, откуда бы он ни исходил… Но заниматься теперь конспирацией, по-моему, тоже не патриотично. Международная обстановка крайне осложнилась, и Бразилии нужен мир, чтобы не оказаться чьей-либо добычей… – Что такое, Артурзиньо? – испугалась Энрикета. – Даже вы отступаете от своих позиций? – Я стою на тех же позициях, что и раньше, Энрикета. Я всегда последователен. Я против правительства, но и против какой бы то ни было подпольной деятельности… – И он закончил уже мягче: – Если оппозиции не удастся нанести удар, это только усилит правительство… Лучше всего предоставить новый режим самому себе, пусть гниет на корню… А это случится скоро: слишком много скандалов следуют один за другим, слишком много друзей Жетулио, словно стервятники, рвущие когтями падаль, стараются растерзать Бразилию на части. – Скоро? Что скоро? Падение Жетулио? – Венансио Флоривал в этом сомневался. – Послушайте, я живу в глуши, среди лесов Мато-Гроссо, но я не верю в это. Скандалы всегда были и будут… Те, кто наверху, хотят съесть тех, кто внизу, – таков закон политики, сеньор Артурзиньо… Да, кроме того, кто знает об этих скандалах теперь, когда все проходит через цензуру? Газеты пишут то, что им приказывает департамент печати и пропаганды, а народ ничего не знает… Я считаю, что Жетулио будет править страной до конца своей жизни. У него есть генералы, он может противостоять любому удару, человек он хитрый. Что касается меня, мне не стыдно признаться: я на его стороне. Здесь, в бумажнике, я храню телеграмму, в которой он благодарит за предложенную помощь. Я специально приехал с фазенды встречать его… – О! – взволновалась Энрикета. – Вы тоже хотите примкнуть к новому режиму, сеньор сенатор? Но ведь это предательство… Бывший сенатор уже собирался ответить по своему обыкновению какой-нибудь грубостью, но тут в разговор вступила Мариэта: она хотела предотвратить неприятную сцену. – Значит, Энрикета, вы придумали новую моду: одеваться летом в черное… Меня это тоже интересует, хотя Жозе предпочитает не вмешиваться в политику… Слова Мариэты заставили Флоривала сдержаться, он только рассмеялся. – Коста-Вале не вмешивается в политику… Вот это здорово, дона Мариэта!.. Энрикета, довольная своим патриотическим поведением, начала подробно рассказывать, какого фасона платья она себе заказала, описывала чудеса моды, творимые дорогими портнихами. И тут же разболтала чужие секреты: – В тот день, когда будет прием у комендадоры, Мариусия Соарес-де-Маседо задумала устроить у себя бал – все в черном-черном, строгом трауре… Это будет оригинально – танцы под звуки похоронного марша; Бертиньо Соарес подготовляет программу… Плантатор продолжал смеяться: – Ну, дона Энрикета, давайте мириться… Пока вы организуете вечера и одеваетесь в траур – все прекрасно, это никого не беспокоит. Не надо только заниматься конспирацией и устраивать заговоры. Это уже опасно. Сузана Виейра заинтересовалась: – А разве существует какой-то заговор? – Ведутся разговоры среди армандистов и интегралистов. А кто этим пользуется? Коммунисты… Только они выигрывают от разногласий между нами… Я постоянно твержу: надо поддержать Жетулио против коммунистов… Энрикета подробно рассказала Мариэте о предстоящем празднике: мужчины будут в белом, с траурным значком в петлицах, женщины – под черными вуалями. Бертиньо Соарес, один из наиболее известных представителей золотой молодежи Сан-Пауло, выискивал где только мог пластинки с похоронными маршами и заупокойной церковной музыкой, которые должны были служить аккомпанементом к танцам; архитектор Маркос де Соуза одолжил «Грегорианские песнопения» в прекрасной записи. – Но это же святотатство… – заметил Артур. Сузана Виейра колебалась, что ей выбрать: бал с элегантными черными туалетами или прием у комендадоры. – Я, кажется, предпочту прием у комендадоры, – сказала она. – Вашему отцу это будет приятно… Слуга доложил о прибытии комендадоры да Toppe. Старуха появилась крикливо одетая, увешанная с головы до ног драгоценностями; все поднялись, приветствуя ее. Она жаловалась на жару, на этот «жестокий африканский климат Бразилии, который могут выдержать только негры и мулаты». Такая удушающая жара всегда предшествует ливням и бурям, они наверно разразятся как раз тогда, когда приедет Варгас, и, чего доброго, митинг будет испорчен. – Митинг… – Энрикета презрительно скривила губы. – Если бы не футбол, никто бы не пошел на этот митинг. А еще говорят о популярности диктатора… Сузана Виейра легкомысленно разболтала антиправительственные планы обанкротившихся политиков Сан-Пауло. – Вы разве не знаете, комендадора? Не только дождь угрожает сорвать ваш прием и митинг… Многое готовится, чтобы испортить торжества в связи с приездом Жежэ…[94] Говорят, студенты-юристы собираются объявить забастовку и в день, когда Жетулио прибудет в Сан-Пауло, устроить его символические похороны. А вот только сейчас Энрикета рассказывала, что она и многие другие светские женщины на все время пребывания диктатора в городе оденутся в черное, будут носить строгий траур. Комендадора да Toppe взглянула своими хитрыми глазками на Энрикету. – Осторожнее, Энрикета, черный цвет в вашем возрасте очень старит… Прибавляет, по меньшей мере, лет пять… Вы будете выглядеть пятидесятилетней старухой… Энрикета покраснела. – Мне ведь только тридцать два… Но комендадора была жестока. – Вы вышли замуж совсем ребенком, да? Вашему сыну сколько лет? Двадцать, не так ли? – Двадцать? Боже мой, какой ужас! Ему только пятнадцать… И я вышла замуж совсем юной… Вот Мариэта знает. Правда, Мариэта? Этот вопрос вывел Мариэту из меланхолической задумчивости. – Вы были девочкой, когда вышли замуж… – отозвалась она. – Мой отец даже не давал разрешения… – Теперь Энрикета обозлилась и приняла высокомерный вид. – А если я и буду казаться старой, неважно. Я оденусь в траур, чтобы выразить протест против оскорбления, нанесенного Сан-Пауло… – Она искала поддержки Артура. – Вы не согласны со мной, Артурзиньо? – Да, Энрикета, я согласен. Приезд Жетулио через три месяца после переворота глубоко оскорбителен для Сан-Пауло. Я вернусь к себе в фазенду… Комендадора да Toppe проворчала: – Ни похоронная процессия, ни забастовка не будут иметь никакого значения… Вы просто упрямцы… Что вам не нравится в Жетулио? Только то, что он действовал более быстро и решительно, чем Армандо. – Вот именно… – поддержал ее Венансио Флоривал. – О! – воскликнула Энрикета. – Я не паулистка с четырехсотлетней родословной, деточка, и я не зовусь ни Маседо-да-Роша, ни Алвес-Нето. Для меня он – хороший президент; рано или поздно и ваш муж и Артурзиньо будут думать то же самое, – продолжала комендадора. Артур встал и сказал с достоинством: – Дорогая комендадора, будьте справедливы… Я думаю о достоинстве Сан-Пауло, которому этот человек, не имеющий прошлого и захвативший теперь власть[95], нанес оскорбление… Я признаю, что он обладает качествами, необходимыми для государственного деятеля, я никогда их в нем не отрицал, даже говорил об этом в своих парламентских речах. Но одно дело – иметь определенные качества, а другое – управлять страной вразрез с интересами Сан-Пауло… Возьмите хотя бы цены на кофе; никогда еще они не падали так низко. Культура кофе на пороге полной гибели, а правительство… Что делает правительство? Венансио Флоривал ответил: – Не будьте несправедливы, Артур. Правительство все прекрасно видит, смею вас уверить. Оно намеревается закупить весь остаток урожая… Эта новость возбудила гораздо больший интерес, чем весь предыдущий спор. У всех присутствующих были фазенды и часть урожая осталась непроданной. Все начали расспрашивать Венансио Флоривала, просили рассказать подробности, которые подтвердили бы то, что он только что сказал. Но бывший сенатор не хотел раскрывать секретов, уверяя, что детали ему неизвестны; он знал только, что такой проект в настоящее время разрабатывается и вскоре будет проведен в жизнь Сузана Виейра, наконец, решилась: она выбрала прием у комендадоры. – Он приезжает, чтобы помириться с Сан-Пауло. Я это говорила и говорю… Я пойду на прием, который устраивает комендадора… И оденусь во все белое, без единого черного пятнышка… Вскоре все собрались уходить. Первой заторопилась Энрикета, которую раздражало присутствие этой невоспитанной комендадоры. Вслед за ней – плантатор и Сузана Виейра. Мариэта осталась с Артуром и со старухой, которая отпускала язвительные замечания по адресу Энрикеты. – Воображает, что она аристократка. Дочь мелкого торговца, владельца бакалейной лавки… Если она так ратует за честь паулистской знати, зачем же она треплет имя своего мужа, изменяя ему с каждым новым молодцом в Сан-Пауло? В постели своих любовников она, небось, не вспоминает о семейных гербах… Артур улыбался, умоляюще протягивая руки. – Милосердие, комендадора! Будьте снисходительны к бедной Энрикете. Она наша Мария-Магдалина, и Христос уже заранее простил все ее прегрешения… Комендадора повернулась к нему. – А вы тоже хороши… Что с вашим сыном, которого вы обещали привести ко мне обедать? Уже забыли? – Во всем виноват государственный переворот: он спутал все карты, комендадора. Я три месяца не выезжал из фазенды и теперь снова возвращаюсь туда… Кроме того, Пауло сейчас в Рио, в министерстве… – Но он всегда к концу недели приезжает в Сан-Пауло, увивается здесь за одной белокурой вертушкой. Я ведь все знаю, Шопел мне рассказывал… Даю вам восемь дней сроку: или вы приводите ко мне вашего сына, или я больше им не интересуюсь… Мариэта вмешалась в разговор: – Комендадора права, Артур. Пауло нужно жениться. Он сумасбродничает: связался с какой-то авантюристкой, еще женится на ней, а вы и знать не будете. Девушка бедна, брат ее – мелкий служащий в министерстве труда, немногим важнее швейцара, а она, насколько мне известно, что-то вроде «girl»[96] в дешевом кабарэ или собирается стать ею. А Пауло настолько ослеплен девушкой, что сюда даже и не показывается… Артур был озабочен. – Я ничего не знал… Я думал, это так, забава… Но если это серьезно, тогда другое дело… Я с ним поговорю. И ты поговори с ним, Мариэта, он тебя послушается. – Да, но я его совсем не вижу… Если он и заходит, то на несколько минут и говорит только об этой балерине, строит планы по поводу ее выступления в Рио. Нелепость, безумие… Мариэта говорила с трудом, слова застревали у нее в горле. Она чувствовала себя глубоко несчастной: ей казалось, что Пауло безвозвратно потерян. Комендадора собралась уходить. – Приведите его ко мне, мы выбьем у него из головы эту блондинку… Моя старшая племянница – тоже блондинка. Она не балерина, но хорошо играет на рояле. Артур проводил ее, наметив днем визита будущее воскресенье. Мариэта осталась одна; она сидела за столом с пустыми чайными чашками и рюмками. Пауло был уже в городе, она это знала, он прилетал на самолете обычно в два часа дня. Мог бы зайти на чашку чаю – раньше он всегда так делал. Но теперь он только забегал мимоходом и мучил ее рассказами об этой Мануэле, о ее красоте, преданности, нежности и страсти, которые его так восхищали. Мариэта старалась уловить из этих слов, насколько сильно его чувство к девушке. Иногда она с радостью убеждалась, что это – только приключение, привлекающее молодого человека своей новизной, чистотой девичьего чувства, которого до сих пор никто к нему не испытывал. Тогда у нее становилось спокойнее на душе. Но когда Пауло начинал в поэтических выражениях описывать красоту Мануэлы, Мариэта снова терзалась сомнениями. Она боялась, не окажется ли эта возлюбленная из бедной семьи какой-нибудь опытной авантюристкой, нет ли у нее хорошо продуманного, тщательно разработанного плана: обмануть Пауло своими фальшивыми чувствами, чтобы заставить его жениться, полностью подчинить себе. Мариэта знала, что Пауло не может всецело принадлежать ей. Желание заставить молодого человека любить ее было само по себе смутным и мало определенным. Мариэта знала только одно, что сама любит Пауло всей душой. Неважно, если он женится. Она даже хотела, чтобы он женился без любви на богатой невесте, например на одной из племянниц комендадоры да Toppe. Такой брак не противоречил ее намерениям, наоборот: если жена будет раздражать Пауло, это только приблизит его к Мариэте. Опасность таится в браке по любви, который вызовет всеобщее осуждение и тем самым еще больше сблизит Пауло с женой, а значит, удалит от его прежнего круга, удалит от Мариэты. В противоположность Мануэле, она и не идеализировала и не обожествляла Пауло, зная, как он боится бедности, как опасается, что может нехватить денег на все его прихоти. Мариэта любила его таким, как он есть; может быть, она даже любила его еще сильнее за то, что у него столько недостатков, за то, что он холоден, равнодушен, труслив и циничен. Они были похожи друг на друга; одна и та же среда породила их. «Нужно запугать его призраком бедности, – повторяла она самой себе, ища способ отвратить Пауло от Мануэлы. – Надо растолковать ему, какая трудная, жалкая жизнь ожидает его, если он будет так безумен, что женится на этой никому не известной девушке без имени и без денег. Этот брак – слишком тяжелый груз для слабых плеч Пауло Карнейро-Маседо-да-Роша…» Ее мысли были прерваны приходом Жозе Коста-Вале. Банкир опустился в кресло и приказал слуге, вошедшему узнать, не будет ли каких приказаний, подать виски. Он объяснил жене: – Этот Шопел – способный человек… Он ведет пропаганду предприятия в долине реки Салгадо с исключительной ловкостью. Он очень хорошо знает, какими дозами следует давать это лекарство: слишком большой национализм мог бы встревожить наших североамериканских друзей. Они боятся, как бы Жетулио не вздумал опереться на немцев, и поражены, что Шопелу удалось добиться разрешения на образование этого акционерного общества. Торговый советник специально приехал, чтобы переговорить со мной, он не знал, что все нити этого дела в моих руках. Я ему объяснил, что моя поспешность вызвана желанием опередить немцев. Он переговорит по телефону с Нью-Йорком, посмотрим, что там предложат… Но факт тот, что на этот раз он смотрел на меня с почтением… – Он выпил глоток виски и сказал, словно самому себе: – Но уже настало время замолчать о долине реки Салгадо. С этого момента – чем меньше слов, тем лучше… Надо предупредить об этом Шопела. Но Мариэта уже не слышала его, потому что в эту минуту в дверях неожиданно показался Пауло. Она устремилась навстречу гостю, протягивая ему руки. 4
Этот изворотливый и властный мир бизнеса, банков, предприятий, фабрик, торговых фирм и компаний, огромных фазенд – мир, в центре которого находились ловкие и предприимчивые люди, вроде Коста-Вале, державшие в руках политиков, журналистов, служащих, полицейских, адвокатов и управлявшие ими, – этот мир неудержимо влек к себе Лукаса Пуччини, разжигая его безграничное честолюбие. Мир, не признающий законов, мир, подавляющий людей своей силой, предстал перед взором молодого человека, бывшего торгового служащего, как центр всей жизни, и этот мир принадлежал немногим избранным, которым, по мнению Лукаса, можно было только завидовать. Он жаждал проникнуть в этот замкнутый круг, стать одним из тех избранных, которые держали в руках нити от марионеток типа Шопела или Эузебио Лимы. Из окна служебной комнаты он мечтательно смотрел на небоскребы, где размещались банки и крупные компании. Отсюда он мог видеть фасад железобетонного здания «Сельскохозяйственного и промышленного банка», где иногда на балконе можно было различить бледное лицо Коста-Вале, который, перегнувшись через перила, смотрел на улицу взглядом собственника, осматривающего свои владения. Заметив его, Лукас вставал из-за своего рабочего стола, подходил к окну и долго стоял молча, рассматривая человека, от которого веяло силой власти, словно угадывая его мысли в эту минуту: он думает сейчас о предприятии в долине реки Салгадо, решает вопросы, вычисляет, сколько миллионов можно на этом заработать. Сколько миллионов!.. На всех этих делах можно заработать много миллионов. Главное, думал Лукас, это начать, «ринуться вперед», как говорил он сам себе. Однако для этого нужны были удобный случай и всяческие связи. Случай все не представлялся, а протекция сводилась только к поддержке Эузебио Лимы и смутным обещаниям Шопела. Всего этого мало, и все это очень далеко от осуществления его намерений! Он чувствовал себя так, словно стоит возле глубокого рва, а на той стороне – счастье, которое манит его, деньги, разбросанные по земле, – только подбирай! Но для этого надо перейти ров, а как это сделать? Глядя, как Коста-Вале, думающий о своем великом бизнесе, неторопливо выходит на балкон, Лукас чувствовал себя жалким и несчастным. Как бы он хотел оказаться на верхнем этаже здания своего банка, царить над городом и над людьми! Что нужно для этого сделать? Так, у окна, с задумчивым взглядом, устремленным на фасад противоположного дома, и застал его Эузебио Лима, приехавший из Рио для последних приготовлений к визиту диктатора. «Специалист по трабальистской политике» был, как всегда, сердечен и разговорчив. Мимоходом обнимался со служащими, легко похлопывал их по плечу, расспрашивал о семьях. – Ну, старина, как дела? Что ты здесь делаешь у окна? Любуешься лысиной Коста-Вале?.. – Говоря это, он снял шляпу и почтительно поклонился, но банкир, задумчиво стоявший на своем балконе, не заметил его. – Я не любуюсь, я завидую… – Он – сила, в этом нет сомнений. Держит в руках огромные богатства, много фабрик и компаний; американцы считают его своим человеком… Командует всем в стране, как ему вздумается… У патрона (так Эузебио называл Жетулио Варгаса) он в фаворе, ведь он все время был у колыбели государственного переворота. Поэтому ему и удалось проглотить земли долины реки Салгадо, а это самый выгодный бизнес последних лет… Если бы не благословенная цензура, многие газеты уже давно вопили бы на весь свет о скандале, о преступных махинациях, требовали бы расследования, комиссий… Но теперь, милый, всем заткнули рты; мы живем в идеальной стране и при идеальном режиме… – Он понизил голос и сказал конфиденциально: – Только открывай рот и глотай, ешь пока не насытишься! Так-то, старина… – Он засмеялся коротким смешком, смакуя свою фразу, довольный и существующим режимом, и своим положением, и тем, как удачно идут дела. – Важнее всего – войти в круг, сеньор Пуччини, и принять участие в общем танце. А ты в нем участвуешь. Поэтому – да здравствует Новое государство и его глава – великий бразилец доктор Жетулио! – Ты участвуешь в общем танце, но я – только жалкий швейцар у чужих дверей или официант, подносящий гостям блюда. Мне достаются только объедки с барского стола, крохи… – Слишком торопишься, молодой человек. Только начинаешь свою карьеру, а уже хочешь быть богатым. Я еще с тридцатого года стремлюсь разбогатеть, и хотя не могу особенно жаловаться, но пока еще не купаюсь в деньгах. – Он положил руку на плечо Лукаса и заговорил доверительным тоном. – Только теперь мне попало в руки дельце, которое может дать несколько добрых сотен конто. Это же куча денег, – прямо слюнки текут… Выгодная сделка… Если она удастся, то сеньоры Эузебио Лима и Лукас Пуччини станут совершенно независимыми людьми… – Почему я? – заинтересовался Лукас. – Потому что я твой друг и хочу, чтоб и тебе достался жирный куш… Пообедаем вместе, и я расскажу тебе весь план. А теперь посмотрим, как идут приготовления к приезду нашего патрона и друга, благословенного спасителя родины, нашего главы – доктора Жетулио Варгаса, в интимном обиходе – «Жежэ»… – И он засмеялся, увидев, как ему удалось заинтересовать Лукаса, каким вожделением загорелись его глаза. – Спокойствие, старина, спокойствие: на все клювы хватит маиса… Лукас с нетерпением ждал часа обеда. Он обсудил с Эузебио вопросы, связанные с приездом Варгаса в Сан-Пауло. Все было готово: предстоящий митинг был разрекламирован сверх меры, и, без сомнения, десятки тысяч людей заполнят стадион, где после речи диктатора состоится матч чемпионов футбола Рио и Сан-Пауло. Личная охрана президента была тщательно подобрана: верные люди, на которых можно вполне положиться, всецело преданные главе правительства. Зато с интегралистами было много хлопот: они отказывались участвовать в манифестации, их главари были недовольны запрещением фашистской партии и тем, что их отстранили от участия в правительстве. Они критиковали внутреннюю политику Варгаса, принявшего поддержку бывших соратников Армандо Салеса и Жозе Америко, а также его шаткую международную политику: отказ от предполагаемого присоединения к антикоминтерновскому пакту и соглашение с американцами, вместо того чтобы широко открыть двери немцам. Однако среди интегралистов не было единства взглядов: многие были озлоблены и чувствовали себя обманутыми, убежденные, что «новому государству» нужен другой властитель, который удалил бы от себя старых «демократических» политиков и всецело ориентировался на Германию; многие готовы были поддержать существующий режим. Таким был, например, профессор медицинского факультета доктор Алсебиадес де Мораис, предложивший Лукасу помощь и обещавший привести на митинг студентов и своих друзей интегралистов, удовлетворенных политикой Варгаса. Профессор принял Лукаса в своем кабинете и сказал ему: – Доктор Жетулио проводит в жизнь то, о чем я мечтал: крепкий режим, означающий войну против коммунизма и защиту христианских учреждений. А будет ли этот режим называться интегрализмом или как-нибудь иначе, значения не имеет. Поскольку он соответствует моим идеям, я ему служу. – Он сказал еще, что хотел бы лично выразить диктатору свою признательность. – Надеюсь, что буду иметь честь лично пожать руку этому великому патриоту и, если окажется возможным, поговорить с ним о проблемах, касающихся университета. Во главе университета Сан-Пауло, мой дорогой друг, должен стоять человек талантливый, с твердым характером и правильными взглядами на жизнь. Дело в том, что коммунисты просочились не только в среду студентов, но и профессоров. А как много у нас в университете армандистов, врагов Жетулио!.. Лукас чувствовал себя польщенным тем, что такой известный профессор медицины почти что ищет его протекции, чтобы быть избранным ректором университета Сан-Пауло. Он не стал объяснять своему собеседнику, что он, Лукас, не пользуется никаким престижем и сам ищет влиятельных людей, которые бы ему помогли. Он обещал сделать все возможное, чтобы устроить встречу профессора с Варгасом. Когда он рассказал об этом разговоре Эузебио, тот крайне заинтересовался. – У этого субъекта есть имя в медицинском мире… Он мог бы вместе с некоторыми другими приветствовать доктора Жетулио на митинге… Нам нужен представитель интеллигенции, который пользовался бы известным весом и был бы коренным жителем Сан-Пауло… Завтра надо будет об этом поговорить. Довольный приготовлениями к манифестанции, Эузебио поехал договориться с начальником полиции штата. Накануне приезда диктатора у полиции было много работы – упрятать в тюрьму еще находившихся на свободе коммунистов, чтобы избежать неприятных сюрпризов… К вечеру Эузебио зайдет за Лукасом и они отправятся вместе обедать. Тогда и поговорят о крупном деле… Лукас сгорал от нетерпения, пока, наконец, уже после семи, не вернулся Эузебио. Другие служащие давно ушли, и Лукас, один в комнате, старался угадать, о каком деле собирается говорить с ним Эузебио, какое дело может дать доход в сотни конто. Кто знает, может быть, это как раз та возможность разбогатеть, которой он так ждал. Лима повел его в дорогой ресторан с роскошными отдельными кабинетами. Они вошли в один из них, заказали обед; «трабальистский лидер» начал рассказывать: – Не знаю, известно ли тебе, что владельцы кофейных плантаций находятся в трудном положении. Урожай был большой, и американцы, спекулируя на колумбийском кофе, снизили цены. Плантаторы оказались в петле: им необходимо продать остаток урожая, а экспортеры дают нищенскую цену. На днях я беседовал с Флоривалом – крупным скотоводом и владельцем кофейных плантаций; это тот Венансио Флоривал, который был сенатором… Он жаловался на свое положение, призывал громы и молнии на головы американцев: кофе у него собран, а покупателей нет… И у меня возникла идея – продать остаток урожая правительству. Я мог бы взять на себя переговоры с персоналом кабинета президента и подлить масла в огонь. Кое-что в этом направлении я уже предпринял. Кажется, дело пойдет на лад. Но возникла одна трудность: что делать с этой массой кофе? Сжечь или выбросить его в море сейчас, неудобно: многие в стране и так недовольны существующим режимом; коммунисты, армандисты, интегралисты воспользовались бы этим для своей пропаганды. Понимаешь, что получается: народ не может купить кофе, а правительство сжигает кофе и выбрасывает его в море… Но у одного моего друга, который тоже собирается принять участие в этом деле (скажу по секрету: это глава департамента печати и пропаганды), возникла хорошая мысль: наше правительство, которое, как всем известно, является антикоммунистическим, может преподнести в подарок генералу Франко, приканчивающему коммунизм в Испании, несколько сотен тысяч арроб[97] кофе для его солдат… Таким образом, проблема будет разрешена… Правительство покупает у плантаторов остаток урожая, платит по прежним высоким ценам, преподносит некоторое количество кофе в подарок Франко, мы получаем хорошее вознаграждение от плантаторов, и нам еще останется для продажи несколько тысяч мешков кофе… Как тебе это нравится? Я подумал: пусть и моему другу, Пуччини, достанется лакомый кусок. Ты можешь получать кофе от здешних плантаторов, отправить из Сантоса то, что пойдет в подарок генералу Франко, и, сам понимаешь, припрятать то, что останется нам… Мы продадим остаток и доход разделим поровну, но тебе еще перепадут комиссионные от плантаторов. Вознаграждение должно составить миллион крузейро[98], правда, его придется разделить между многими участниками этой операции. Но каких-нибудь лишних двадцать конто может остаться и для тебя, старина. – Он засмеялся своим хитрым смешком: – Я ведь твой друг, а? Уж такой у меня характер, старина: не умею есть один. Когда попадается лакомый кусок, я думаю о своих друзьях… Лукас выслушал его молча, ни разу не прервав. В то время как Эузебио развивал перед ним свои планы, у него родилась идея, которая окончательно оформилась под влиянием слов собеседника. – Я очень тебе благодарен, ты для меня – больше чем друг. Но мне кажется, что на этом деле можно заработать гораздо больше денег, если бы… – Больше денег? Но каким же образом, Лукас? – Он верил в сметливость Пуччини и с любопытством перегнулся через стол. – Ну, выкладывай, что ты надумал! – Слушай: почему правительство, чтобы скупить остатки урожая, должно посылать своих представителей ко всем плантаторам? Разве не проще купить весь кофе у одного человека? – Я не совсем понимаю… – Очень просто… Кто-то скупает остаток урожая у всех этих плантаторов по хорошей цене, но более низкой, чем та, которую назначит правительство. А правительство потом покупает весь кофе у этого человека. На разнице цен можно заработать капитал… Эузебио Лима даже рот разинул. – Лукас, ты – гений! Я еще в колледже думал, что ты гений. Это самая грандиозная идея из всех, что рождались в последнее время… Мы покупаем кофе, можем даже от имени правительства, а продаем каждый килограмм на несколько тостанов[99] дороже. Это составит, старина, целую гору денег, выше, чем Гималайский хребет. Поздравляю тебя, Лукас, будь у меня такая голова, я бы уже был богаче Коста-Вале… – Есть только одно затруднение… – сказал Лукас. – Какое? – Где достать денег, чтобы финансировать эту операцию? – Чтобы уплатить плантаторам за кофе? – Вот именно. А денег нужно много. Эузебио торжествующе улыбнулся. – Вот тут-то на сцену выходит Эузебио Лима и разрешает все трудности. Для чего же, сеньор Пуччини, существуют, по-вашему, пенсионные кассы и зачем Эузебио Лима имеет некоторое отношение к руководству министерством труда? Денежки там, и они ждут нас. Взять, завершить сделку, а потом внести обратно… Официант подошел спросить, что они закажут на десерт. Когда он удалился, друзья принялись обсуждать детали своего предприятия. Они совещались допоздна. Когда все было окончательно решено и они вышли из отдельного кабинета, ресторан был уже пуст. Прислуживавший им официант дремал на стуле, кассирша читала вечернюю газету. Эузебио Лима заплатил по счету, щедро дал официанту на чай. Он смеялся и потирал руки. – Великая идея, сеньор Лукас, великая идея… Все это должно остаться между нами… прибыль пополам… И комиссионные от плантаторов, и денежки, вырученные от розничной продажи – все пополам! И да здравствует доктор Жетулио! 5
В сумерках прошла гроза, немного разрядив невыносимый дневной зной. В рабочем квартале оборванные дети барахтались в потоках воды, которые текли по желобам и водосточным канавам. Мариана видела, как бумажный кораблик, пущенный маленьким мальчиком со смелыми глазами, быстро поплыл по течению и вскоре пошел ко дну. Малыш, восторженно хлопавший в ладони, провожая свой пассажирский пароход, вздохнул, когда увидел, как его великолепное сооружение оказалось на боку и превратилось в простую бумажку. – Затонул… Мариана погладила малыша по головке, обошла грязную лужу и продолжала свой путь. Она навестила старого Орестеса, прикованного к постели приступом ревматизма. Лишенный возможности вечерами ходить в гости к соседям, итальянец впал в дурное настроение, проклинал все и вся, дергал свои длинные усы. Все его прежние анархистские замашки выплыли на поверхность: он нападал на современные методы рабочего движения, пренебрегающего такими вещами, как хорошая динамитная бомба, как эффектное покушение на жизнь врага. Но посещение Марианы несколько успокоило его – она была его любимицей; он знал ее еще крошечной девочкой, когда она взбиралась к нему на колени, чтобы послушать, как он поет по-испански выученные в Буэнос-Айресе анархистские песни. – С этим грузом пакетов и списков Ты куда так спешишь в этот час? – Я иду на конгресс анархистов, Они требуют счастья для нас. – Анархист? Что сказать этим хочешь? Подойди, потрудись объяснить – Это мы, это масса рабочих, Что не хочет бесправною быть! Мариана заставляла его вспоминать о временах, когда в Сан-Пауло только возникала партия, состоявшая из маленькой группы смельчаков, многие из которых вышли из анархистов; среди них был Азеведо, отец Марианы, о котором Орестес всегда говорил, что он был «лучшим из всех». Старик день за днем следил за развитием молодой работницы, видя на ее примере политический рост своего класса, его движение вперед. Больной и состарившийся, уже не имея возможности активно, как прежде, участвовать в партийной работе, но будучи еще молодым душой, он проводил дни в спорах и дискуссиях, заглушая всех своим сильным страстным голосом. Он работал представителем МОПР в своем квартале и с доброжелательством следил за политическим развитием молодежи. Иногда он еще любил тряхнуть стариной и повторял что-нибудь из того, что в былое время прославило его имя среди аргентинского, уругвайского и бразильского пролетариата. Незадолго до государственного переворота, отправившись на лекцию по уголовному праву, которую читал представитель высшего света доктор Антонио Алвес-Нето, он устроил обструкцию, все время прерывая оратора. Муж Энрикеты только что заявил, что «гражданин, который убивает короля, называется цареубийцей», как вдруг из глубины зала раздался голос Орестеса, вопрошавший: – А король, который убивает народ, как называется? Мариана сообщала ему новости о войне в Испании. Ей прислали из Парижа маленький сборник с нотами и текстами испанских республиканских песен. Это наверняка Аполинарио устроил так, что она получила эти песни из Франции, не желая посылать ей прямо из Испании, где уже почти два месяца он участвовал в боях в чине капитана. Старый Орестес горячо переживал события в Испании. У него была карта, на которой он булавками отмечал позиции республиканцев и франкистов. Он жаловался Мариане: – Эти буржуазные газеты, сага piccina, и раньше ничего не стоили, а теперь, с этой цензурой, они публикуют новости об Испании только для того, чтобы сказать, что Франко продвигается вперед. О победах республиканцев они ничего не говорят, даже читать противно, per Bacco! – Он приподнялся на кровати, не обращая внимания на ревматические боли. – Как я бы хотел быть там, в Мадриде или в Каталонии! Я бы показал этим фалангистам, что такое старый коммунист!.. Жаль, что я уже не молод… Мариана старалась подбодрить его, говорила о борьбе в Бразилии, становившейся все более суровой и трудной. Буржуазные политики, терроризированные Варгасом, были совершенно пришиблены. Единственной положительной силой в борьбе против «нового государства» была коммунистическая партия. Знает ли он, что ответил один баиянский политик товарищу Витору, руководящему партийной работой в районе Баии, по вопросу о едином демократическом фронте, способном помешать полной фашизации страны? Орестес не знал, но сказал, что может легко себе представить этот ответ. – Нет, вы даже не можете себе представить, насколько это абсурдно, – взволнованно сказала Мариана. – Он ответил Витору, что сопротивление бесполезно, потому что Бразилия прогнила насквозь и он видит для страны только один выход – стать английским доминионом, войти в состав Британской империи… – Он судит о народе с точки зрения подлой буржуазии, к которой принадлежит сам. У этих людей нет родины, carina mia, они продают страну тому, кто больше заплатит. С этими людьми я признаю один язык – язык бомб… Другого выхода нет… На прощанье он взял ее за руку и ласково спросил: – Что с тобой? Ты как будто озабочена. – Нет, ничего… – Она улыбнулась. – Если тебя что-нибудь тревожит, приходи сюда, расскажи мне… Мариана ничего не стала рассказывать: чувствует себя она хорошо, ничто ее не тревожит, кроме политической ситуации. Но, возвращаясь по мокрой улице и вдыхая влажный после недавнего дождя воздух, она раскаивалась в том, что не открыла доброму старому Орестесу свое сердце. Он наверняка сумел бы утешить ее, рассеять ее беспокойство. Она смотрела на омытую дождем мостовую; перед ней возник образ товарища Жоана – ей казалось, что она все еще слышит его слова, сказанные на прощание уже почти два месяца назад: – Я не знаю, когда вернусь. Национальный комитет партии поручил мне работу в другом месте. Может быть, через месяц, через два, не знаю… – Он взял ее за руки и посмотрел в глаза. – Когда вернусь, я должен тебя кое-что спросить… Ей так хотелось, чтобы он спросил ее сейчас же; она начала угадывать его чувства после того, как отдала себе отчет в своих. Ей хотелось ответить ему до отъезда, но ее охватила какая-то робость, и она ничего не сказала, только опустила черные глаза и улыбнулась. Где он теперь, какие опасности его подстерегают, сколько ночей проводит он без сна, сколько раз бывает, что у него нет времени даже для короткого отдыха, нет места, куда приклонить голову? Когда он сможет вернуться? Когда она снова увидит его тонкое лицо и проникновенный взгляд? Много раз ей хотелось спросить Руйво, нет ли у него известий от товарища Жоана. Но она всегда сдерживала себя: в подполье чем меньше спрашивать, тем лучше; он уехал по партийному заданию, вернется, когда его выполнит. И найдет ее готовой дать ему ответ, на который надеется. Если даже он попадется в лапы полиции, будет арестован или осужден, она будет ждать его, и ее любовь, любовь без слов, выражаемая немыми взглядами, легкими и несмелыми улыбками, станет еще сильнее. Зачем волноваться, зачем беспокоиться? Он поехал выполнять партийное задание – это так обычно для коммуниста,– и ее любовь должна поддерживать его в трудной партийной работе. Несмотря на тоску и желание снова его увидеть, она никогда и не подумает, что он может вернуться раньше, чем выполнит работу, доверенную ему партией. В своей любви она ни на минуту не отделяла человека от коммуниста. Не сумела бы отделить, потому что сама могла думать только, как коммунистка. Когда Жоан вернется, она скажет ему: «Я очень тосковала, но это не отразилось на моей работе». Она улыбнулась, входя в дом. Хорошо, что она ничего не сказала старому Орестесу. Он бы подумал, что она расстроена, боится, как бы с Жоаном чего-нибудь не случилось, и принял бы ее чистое чувство за желание оградить любимого от опасностей, окружающих на каждом шагу любого активного коммуниста в условиях подполья. Да, она хочет, чтоб он вернулся, она желает этого сильно и страстно. Но чтобы он вернулся, выполнив миссию, возложенную на него партией. Пусть никакое чувство не мешает ему и не заставляет торопиться. Пусть и ей ничто не мешает, пусть ее ожидание будет радостным и спокойным. Когда он приедет, завтра или в любой другой день, она спросит его: – Все хорошо? – Все хорошо, – ответит он с легкой улыбкой на строгом лице. Она увидит, как в его глубоком взгляде вспыхивает пламя, и скажет: – Какой вопрос хотели вы задать мне перед отъездом? Спрашивайте сейчас, потому что вы можете опять уехать, а я не хочу медлить с ответом. Дома ее ожидал врач, сочувствующий партии, у которого была явочная квартира. Он зашел, чтобы передать ей срочное поручение от Руйво, и сейчас, с любопытством человека из другой среды, рассматривал жилище рабочей семьи. Мариана забыла всякую осторожность. Наверняка случилось что-то плохое, если Руйво использует в качестве связного этого врача. Теперь в ее сердце горело одно нетерпеливое желание: скорее встретиться с товарищем из руководства партии, узнать, зачем она понадобилась, какая работа, какие опасности ожидают партию в ближайшие дни. Прощаясь, врач внимательна посмотрел на молодое и серьезное лицо работницы. И ему показалось, что он видит впервые это лицо, решительное, волевое, озаренное яркой красотой, – лицо человека, знающего жизнь. Он никогда еще не видел такой решимости, ему никогда еще не доводилось видеть такой красоты. «Не это ли называют красотой души?» – задал он себе вопрос, выходя из двери на мокрую улицу, где оборванные дети шлепали босыми ногами по грязной воде сточных канав. 6
По ночам в продолжение всей недели, предшествовавшей приезду диктатора в Сан-Пауло, полицейские автомобили, машины патрульной службы, машины для перевозки заключенных шныряли по городу и его окрестностям; полиция была занята набегами и облавами. Обитатели рабочих кварталов переживали беспокойные дни; целые улицы – Браз, Моока, Белензиньо, Пенья, Вила Помпейя, Алто-до-Пари – просыпались по ночам, разбуженные тревожными гудками полицейских машин, останавливающихся то у одного, то у другого дома в поисках коммунистов и сочувствующих. На рассвете полиция поднимала целые семьи, силой заставляя покидать убогие постели; сотни людей были брошены в застенки. В ближайших промышленных городках – Санто-Андре, Сан-Каэтано, Сорокаба, Кампинас, Жундиаи – появлялись агенты из столицы и старались полностью «прочистить» город. Глядя на полицейские машины, которые стремительно проносились по улицам, не обращая внимания на светофоры, регулирующие движение, прохожие думали об узниках, которых везут в этих машинах. Пестрые плакаты на стенах объявляли о большом митинге, на котором диктатор обратится с речью к жителям Сан-Пауло. Люди группами собирались на тротуаре, обсуждая происходящее, и некоторые после того, как проезжали полицейские машины, по собственной инициативе срывали эти плакаты. Многие арестованные даже не являлись членами партии, а были беспартийными рабочими, состоявшими на особом учете полиции, как участники стачек и массового движения Национально-освободительного альянса в 1935 году. Были также арестованы некоторые представители интеллигенции, среди них – Сакила и Сисеро д'Алмейда. Многих евреев, попавших под подозрение только потому, что они носили иностранные имена и были родом из России, внезапно объявили «агентами Третьего Интернационала». Устрашающие слухи растекались по городу, пугая мелких буржуа: кто не явится на митинг, будет взят на заметку как коммунист,– полиция подвергает все население строгому контролю. Четыре шпика с револьверами в руках в два часа ночи подняли с постели больного Орестеса. Старый итальянец слыл храбрецом, и полицейские окружали его кровать с таким грозным видом, что заставили его рассмеяться: – Можно подумать, что я – Лампиан… В полицейской машине, куда его посадили, было уже несколько человек. Агенты поместились в маленьком автомобиле позади машины. Какой-то шпик грубо толкнул Орестеса и захлопнул за ним дверцу. Старик из-за больной ноги не смог сохранить равновесия и упал на одного из сидящих. Но даже в темноте он узнал его: это был рабочий из Санто-Андре, член партии. Рядом с ним сидел еще почти безбородый юноша с сердитым лицом. Рабочий, на которого упал Орестес, помог ему сесть. – Да ведь это старый Орестес… – сказал он. Юноша с любопытством взглянул на итальянца, седые волосы которого освещал слабый свет, просачивающийся сквозь решетчатое окно полицейской машины. Он нагнулся к Орестесу и его соседу и проговорил шопотом, чтобы не быть услышанным остальными арестованными: – Если они снова остановят машину, чтобы впихнуть еще людей, я убегу… Я должен бежать… Рабочий из Санто-Андре объяснял Орестесу: – Он два дня тому назад приехал из Рио и прятался у меня… Юноша обменялся с ними еще несколькими словами, а потом пересел на конец скамьи, поближе к двери. Старик Орестес и товарищ из Санто-Андре сели на скамью напротив, тоже возле двери. Через несколько минут машина остановилась, затормозив так резко, что все сидевшие в ней повалились друг на друга. Один из полицейских открыл дверь и встал возле нее на часах. Сопровождавший машину автомобиль был пуст, там остался только шофер, который в этот момент раскуривал сигарету. Из ближайшего дома доносился шум голосов, сквозь который можно было различить женский плач. Юноша внимательно осматривался по сторонам: они остановились, не доезжая каких-нибудь десяти метров до угла. Полицейский, охраняющий двери, повернулся, чтобы обменяться несколькими словами с шофером, и стоял спиной к ним. В этот момент юноша бросился на него и повалил на землю. Рабочий из Санто-Андре и Орестес тоже выскочили из машины. Они хотели только сбить с толку полицейских. Шофер автомобиля закричал и схватился за револьвер. Часовой поднялся, увидел старика Орестеса и задержал его. Как раз в тот момент, когда юноша уже огибал угол, из двери дома, откуда доносился женский плач, вышли полицейские. Шофер, не опуская револьвера, наведенного на рабочего из Санто-Андре, жестом указал на перекресток. – Туда!.. Полицейские бросились бежать. Через несколько минут в отдалении послышались выстрелы. Орестес и рабочий из Санто-Андре застыли на месте под наведенным на них револьвером. Старик чувствовал острую боль в ноге, ему было трудно стоять. «Они не оставят на нас живого места, но план удался, мальчик может убежать, ему, наверно, поручена какая-нибудь важная задача». Полицейские, преследовавшие юношу, вернулись, все еще сжимая в руках револьверы. Один из них, очевидно начальник наряда, подошел к машине и спросил часового: – Кто убежал? – Тот парнишка… Полицейский повернулся к рабочему из Санто-Андре. – Тот, который жил у тебя, да? Кто он? – Я уже сказал: это мой племянник, приехавший из провинции искать работу; он всего боится, поэтому и убежал… – Ты это объяснишь в полиции… – Он смерил взглядом старика Орестеса. – А ты, старый хрыч, тоже хотел бежать… Сегодня ночью мы тебе покажем, где раки зимуют!.. Мы тебя живо вылечим, у нас есть особое лекарство… – Он снова обратился к рабочему из Санто-Андре: – Так, значит, племянник? Сегодня я тебя выведу на чистую воду вместе со всем твоим семейством, собака! Он поднял руку и с силой ударил рабочего по лицу. Потом дал знак полицейским, сопровождавшим его, вернуться в дом, откуда все еще слышался плач женщины. Рыдания усилились, громкие голоса спорящих привлекли внимание соседей, открывших окна, чтобы узнать, в чем дело. Выстрелы разбудили всю улицу. В окнах появлялись новые лица, рабочие с затаенной злобой смотрели на полицейские машины. Сквозь щели жалюзи они наблюдали всю сцену между полицейским и арестованными, видели, как один из полицейских ударил парня из Санто-Андре. В дверях домов начали появляться фигуры людей с заспанными лицами, с растрепанными волосами. Теперь ясно слышался голос женщины, прерываемый рыданиями: – Не забирайте моего мужа, он ничего плохого не сделал, он не вор и не убийца, никого не убил и ничего не украл… Оставьте его в покое… Полицейские вели маленького лысого человека в очках, казавшегося преждевременно состарившимся. Теперь в дверях и на тротуаре стояло много людей. Старший полицейский забеспокоился. Дулом револьвера он грубо толкнул рабочего из Санто-Андре. – В машину, собака!.. Другие полицейские подошли с новым арестантом. Кто-то из стоящих на улице крикнул: – Смерть полиции! Прохожие, остановившиеся на тротуарах, и люди, выходящие из домов, сомкнулись в плотную монолитную толпу; глаза людей горели ненавистью. Атмосфера накалялась. Полицейский начальник крикнул своим людям: – Скорее!.. Рабочий из Санто-Андре, высунув голову из двери тюремной машины, обратился к толпе: – Нас арестовали, потому что мы – коммунисты, мы боремся за счастье всех… Один из полицейских резко захлопнул дверь, и конец фразы рабочего не был услышан на улице. Полицейские, направив револьверы на толпу, пятясь, отступали к своему автомобилю. В толпе нарастал гул протеста. Тюремная машина отъехала, автомобиль стремительно двинулся вслед. Начальник наряда сделал несколько выстрелов из револьвера в толпу, плотной массой стоящую на улице. Какой-то рабочий угрожающе потряс кулаками вдогонку автомобилю. – Когда-нибудь вы за все заплатите, бандиты!.. 7
Прежде чем повернуть за угол, юноша оглянулся и увидел старого Орестеса: полицейский держал его, не давая двинуться с места. «Хороший старик, – подумал он, – помог мне бежать». Хороший товарищ и этот рабочий из Санто-Андре, в доме которого он был арестован ночью. Им придется давать объяснения в полиции, может быть, их будут избивать: полицейские очень озлоблены!» Но он не мог допустить, чтобы его арестовали: для него арест не ограничился бы несколькими днями тюрьмы, пока диктатор будет находиться в Сан-Пауло. В полиции его личность сразу была бы установлена, и тогда на долгие годы он стал бы бесполезным для партии. Тем более опасно это теперь, когда ему поручено важное задание. Поэтому пришлось рискнуть и прибегнуть к помощи товарищей. Он горячо пожелал, чтобы с ними ничего дурного не случилось, особенно со старым итальянцем: совсем седой, а какой храбрый! Когда он огибал угол, у него еще не было никакого плана. Города он не знал, так как приехал в эти края только три дня назад. Он продолжал бежать, свернув в первую улицу налево, потом в соседнюю, промчался мимо какой-то влюбленной пары, проводившей его испуганным взглядом. Издали послышались выстрелы – вероятно, стреляли полицейские, пустившиеся за ним в погоню. Он снова свернул и неожиданно очутился в тупике, кончавшемся глухой стеной. Сколько времени полицейские будут его преследовать? Он осмотрелся вокруг – никого. Тогда он влез на стену и перепрыгнул в огород, засаженный капустой и салатом; впереди можно было различить очертания белого дома. Он остановился, прислонившись к стене, опасаясь как бы откуда-нибудь не выскочила сторожевая собака, и внимательно прислушался к звукам, доносившимся с улицы. Он посмотрел на свои ручные часы: половина четвертого, скоро начнет светать… Нужно было выработать план действий. Здесь нельзя задерживаться; с рассветом на огороде мог появиться хозяин и обнаружить его, может быть, даже принять за вора. Нелегко будет объяснить, почему он прячется здесь, среди грядок с овощами, Снова он попадет в полицию, и тогда – конец; он не сумеет выполнить поручение, возложенное на него партией. Не весело сидеть в тюрьме Сан-Пауло после трудного пути из Рио в нелегальных условиях. При появлении полиции в доме товарища, у которого он остановился, им овладел глухой гнев. Как не повезло! Едва приехал – и сразу арестован. Когда товарищи в Рио предложили ему отправиться в Сан-Пауло для руководства подпольной партийной типографией, он с энтузиазмом принял на себя эту миссию. Его раздражала жизнь в четырех стенах, когда ему пришлось скрываться и даже нельзя было высунуть нос на улицу, – такая жизнь лишена смысла и пользы для партии. Он нервничал не только потому, что нужно было прятаться и что вся его жизнь проходила теперь на нескольких квадратных метрах маленькой комнаты у друзей. Прежде всего его огорчало сознание своей бесполезности. В столь тяжелый для страны момент, когда партия нуждалась в каждом борце, чтобы противостоять враждебным силам, он был обречен на бездействие: читать газеты, узнавать новости от хозяев дома и вместе обсуждать их – вот все, что ему оставалось. Но это противоречило его природе: он любил движение и работу. Он был еще очень молод и казался еще моложе, потому что в его жилах текла индейская кровь и у него почти не росла борода. Ему было двадцать лет, но никто бы не дал ему больше семнадцати-восемнадцати. Гладкие черные волосы окаймляли его угловатое, несколько смуглое лицо. Его звали Жофре Рамос, и трибунал охраны безопасности недавно приговорил его как участника восстания 1935 года к восьми годам тюремного заключения. В полиции его бы сразу узнали (после вынесения приговора его фотографии были разосланы полицейским управлениям всех штатов), и ему пришлось бы отсидеть в тюрьме еще шесть с половиной лет – шесть с половиной лет, бесполезных для партии, потерянных для борьбы. Нет, он не мог дать себя арестовать, он хорошо сделал, что бежал, даже если это и создаст какие-нибудь осложнения для двух других товарищей. Однако нельзя дольше оставаться здесь, прислонившись к стене, протянувшейся вдоль грядок салата. Он должен сейчас же что-то придумать, найти какой-нибудь выход из положения. Первой задачей было восстановить связь с партией, сообщить о побеге районному комитету и поступить в его распоряжение. Но как это сделать? В Рио ему дали адрес товарища из Санто-Андре, в доме которого он должен был укрыться и ждать дальнейших распоряжений. Туда к нему явилась девушка, имени которой он не знал, и предупредила его о предстоящем свидании с одним ответственным партийным работником. Так как Жофре совсем не знал Сан-Пауло, она обещала зайти через два дня и проводить его. Эта встреча должна состояться сегодня. Как быть? День уже начинается. Девушка придет и не найдет его. Хуже того, она может наткнуться на полицию, которая безусловно следит за домом, в надежде, что он вернется. И девушка – боже мой, ведь это связная руководства партии! – будет арестована… Эта мысль заставила его подняться. Необходимо немедленно вернуться в Санто-Андре, спрятаться вблизи дома и увидеть девушку, помешать ей подойти близко и попасть в руки полиции. Первые отблески утренней зари осветили улицу. Он снова взобрался по стене, стряхнул прилипшую к брюкам землю. Переулок все еще спал, окна домов были закрыты. Он шел быстро. Он знал, что автобус в Санто-Андре отходит с площади да Сэ. Но в какой части города он находится, далеко ли отсюда до площади? После долгого пути в закрытой полицейской машине он даже не мог разобраться, где находится то место, откуда ему удалось бежать. Он вышел на широкий проспект и решил спросить дорогу у первого встречного. Рассвет разливался над пустынным городом; редкие автомобили пересекали улицу. Не допустить, чтоб девушка постучалась в дверь дома, наверняка находящегося под наблюдением полиции!.. Эта мысль гнала его вперед, он почти бежал, даже не отдавая себе отчета в том, что бежит наугад, не зная, приближается ли к площади или удаляется от нее. А если взять такси до Санто-Андре? Но ведь это далеко, а у него мало денег. И, кроме того, девушка не может прийти так рано; у него есть время, чтобы доехать автобусом. Наконец он встретил прохожего, и тот дал ему нужные объяснения. Площадь да Сэ находилась близко, минутах в десяти ходьбы. Прохожий был немного навеселе и с удовольствием пустился в бесконечные рассуждения, уверяя, что очень рад помочь человеку из другого города. С трудом отделавшись от собеседника, Жофре направился по указанному пути. Вскоре он добрался до площади и увидел автобус с надписью «Санто-Андре». Шофер, сидя за рулем, мирно храпел. Жофре сел в дальний угол автобуса, уткнув лицо в только что купленную газету. Постепенно автобус стал наполняться. Пассажиры – еще сонные – в большинстве были рабочие, живущие в Сан-Пауло и работающие в Санто-Андре. Жофре тщетно искал в газете какого-нибудь сообщения о вчерашних арестах. Зато пространно описывались приготовления к празднествам в связи с предстоящим приездом диктатора, когда «пролетариат Сан-Пауло выразит ему свое уважение и благодарность». Ожидая отхода автобуса («Этот чортов автобус никогда не сдвинется с места!» – подумал он с нетерпением), Жофре прочел телеграммы с фронтов испанской войны, передовую, восхваляющую Франко, статью «североамериканского военного специалиста» о Красной Армии, где янки (мнение которого газета считала очень авторитетным) уверял, что армия Советского Союза слаба и неспособна противостоять натиску современных механизированных частей. Окончив чтение, Жофре подумал: «Дурак!..» И, чтобы отвлечься, начал просматривать литературный отдел. Он углубился в огромную – на три колонки – статью, подписанную каким-то Сезаром Гильерме Шопелом, в которой превозносились необычайные поэтические дарования автора поэмы «Новая Илиада», – знатного сеньора, носящего ту же фамилию, что и министр юстиции. Жофре сразу понял, что речь идет о самом министре, впервые выступившем на литературном поприще с лирической поэмой, которая, по мнению автора статьи, воскрешала в бразильской литературе лучшие традиции «Сонетов» Камоэнса и «Марилии» Томаса Антонио Гонзага[100]. Он дочитал статью до середины и больше не смог – слишком уж от нее разило политической лестью. Он принялся за объявления, думая: «Когда же отойдет этот автобус?» Он перевернул страницу газеты, почти не, обратив внимания на фотографию красивой женщины, убитой своим мужем. Теперь мысли его были далеко: объявления навигационной компании напомнили ему те времена, когда он был моряком. Он начал свою самостоятельную жизнь продавцом газет в одном из городов на севере страны. По этим самым газетам он научился читать. Подвижной худенький мальчик, он вырос на улице и неизвестно каким образом стал заправским акробатом, словно работал в цирке. Ранним утром, пока газеты допечатывались на старой плоскопечатной машине, он забавлял типографских рабочих своими прыжками и фокусами. Этим он завоевал симпатию владельца типографии и поступил туда учеником. Скоро он освоился с литерами, с наборными кассами, постиг тайны печатного станка. Это была маленькая типография с устаревшей техникой, без линотипов и ротационных машин; в ней печатались объявления местных кинотеатров, извещения о похоронах, а также газета, выходившая дважды в неделю и рекламировавшая себя как наиболее осведомленная в вопросах политики и литературы. Для сироты, выросшего на улице, эта типография была одновременно и целым миром и родным очагом. Он очень любил типографию, и два года, проведенных там, были самыми счастливыми в его жизни. Он едва зарабатывал на хлеб, спал под наборными кассами и лишь изредка получал от хозяина несколько мелких монет. Но ему нравилось здесь; он ухаживал за машиной с нежностью, как за живым существом, любил чистить ее, натирать до блеска, а когда в первый раз ему разрешили самому пустить ее, Жофре показалось, что никогда в жизни он не был так счастлив. Со временем он заработал право читать хозяйские книги – несколько случайных томиков: романы Александра Дюма вперемежку с анархистскими брошюрами. Хозяин, сам типограф, большую часть времени посвящал созданию своего очередного сонета, который раз в неделю печатался в газете всегда на одном и том же месте, посреди первой полосы, в две колонки, под псевдонимом. В своих сонетах автор в строках, бедных рифмами и полных пантеизма, нападал на духовенство или воспевал природу. В информационных статьях и сообщениях он восхвалял местного судью, прокурора, городского префекта: газета пользовалась субсидией префектуры, составлявшей основной источник ее дохода. Но хозяин никогда не бывал удовлетворен, вечно сетовал на общественный строй и ждал наступления дня, когда прольется кровь всех буржуа и прежде всего – клерикалов. Иногда он говорил Жофре: – Жизнь в мире наладится только тогда, когда расстреляют всех богачей и священников… Однако не существовало на свете человека более мирного, менее воинственного, более богобоязненного и относящегося с большим уважением к властям, чем владелец типографии. Жофре очень увлекался романами Дюма и анархистскими брошюрами. В своем юношеском воображении он наделял «Трех мушкетеров» свободолюбивыми взглядами и завоевывал городок, где жил, поражая шпагой всех богачей, соответственно желанию своего патрона. Но вот однажды, сочиняя свой еженедельный сонет, бедный поэт умер от сердечного припадка, и его семья продала газету и типографию. Жофре снова очутился на улице. Некоторое время он слонялся без дела, кое-как перебиваясь, лелея смутные планы отправиться в какой-нибудь большой город и поступить там на работу в типографию. Появление в городке человека, вербовавшего юношей в школу юнг, расположенную в столице штата, нарушило его планы. Местный священник, постоянный партнер покойного поэта-антиклерикала в трик-трак, рекомендовал его, и Жофре был принят. Режим в школе был тяжелый, но Жофре родился на берегу моря, и большие военные корабли привлекали его с детства. Он не был примерным учеником, всегда восставал против несправедливости, не умел подлизываться к сержантам и офицерам, часто подвергался наказаниям. Когда он закончил курс и был направлен матросом на эсминец, стоявший на якоре в Рио-де-Жанейро, слава бунтовщика сопутствовала ему, и он сразу стал популярен на корабле. Вскоре он был принят в коммунистическую партию. Участвуя в выступлении матросов, протестовавших против плохой пищи, он проявил себя человеком, способным бороться и вести за собой других; в партии обратили на него внимание. В дни событий 1935 года молодой моряк уже был одним из руководителей Национально-освободительного альянса в военно-морском флоте. Интегралистские офицеры давно следили за ним, и сразу же после поражения восстания 1935 года он вместе с другими коммунистами был удален из флота, выдан полиции, избит и отдан под суд. Полтора года он просидел в тюрьме и был выпущен на свободу только в середине 1937 года. Некоторое время он оставался в Рио, так как был еще связан с работой во флоте. Наконец, в декабре состоялся процесс, и он был приговорен к восьми годам тюремного заключения. Партия помогла ему скрыться; несколько недель со все возрастающим нетерпением он ждал, когда же, наконец, кончится это невольное бездействие. Наконец, товарищи по партийной работе, зная, что он когда-то был типографом, послали его в Сан-Пауло работать в нелегальной партийной типографии, – лучшей партийной типографии в стране, где печатался в то время центральный орган коммунистической партии «Классе операриа». Он приехал в Сан-Пауло три дня назад, и первое, что с ним случилось, был этот нелепый арест, из-за которого он должен был рисковать собой, предприняв по дороге побег из полицейской машины. Сидя в автобусе (наконец-то он тронулся в путь!) и уткнув лицо в газету, Жофре вспоминал военный корабль, бескрайний простор моря, товарищей и споры с интегралистами. Когда-то он сможет вернуться на палубу корабля, сможет снова любоваться с вершины мачты необъятной морской ширью? Хуже всего то, что он должен скрываться, что сейчас он бесполезен для общего дела. Если бы даже, выпуская партийную газету, манифесты и листовки, ему пришлось скрываться и сидеть целые дни среди наборных касс и около старой печатной машины, не имея возможности выйти на улицу, – он был бы спокоен. Только бы работать вместе с другими товарищами для единого дела – и он почувствует, что все в порядке, нетерпение перестанет терзать его, он не будет беспрестанно расхаживать из угла в угол, как это было в маленькой комнате в Рио. Сидевшая рядом с ним толстая женщина, придерживая на коленях корзинку с овощами, сказала, показывая пальцем в газету: – Он ее, бедняжку, четырнадцать раз ножом ударил… Какое злодейство!.. Только тогда Жофре прочел заголовок, напечатанный во всю ширину газетной полосы, и подзаголовки, комментировавшие преступление, совершенное из ревности. Глаза соседки были прикованы к этому сообщению, и в конце концов Жофре дал ей газету, Надо внимательно следить за остановками, чтобы знать, где сойти, когда автобус поедет по улицам Санто-Андре. Он не должен привлекать внимания, может быть, полиция поджидает его, нельзя рисковать собой, но и нельзя допустить, чтобы арестовали девушку: она связная, ее арест был бы опасен для всего руководящего центра партийной организации штата. Сердце Жофре усиленно забилось при этой мысли. С каждой остановкой в автобус входило все больше спешащих на работу людей. Это был первый автобус, идущий сегодня в Санто-Андре. Жофре всматривался в незнакомые лица, в людей разных рас. Сколько среди них членов компартии, сколько друзей? Наверно, кто-нибудь да есть… Если бы он мог угадать – кто… Тогда он рассказал бы им о своих затруднениях, и они помогли бы ему известить девушку о грозящей опасности… Перед выездом из Сан-Пауло автобус снова остановился. Какая-то девушка вошла в автобус и, опираясь рукой о спинку скамьи, пробралась к свободному месту. Это она, она! Жофре хорошо запомнил ее лицо. Как рано едет она на свиданье с ним! С первым автобусом… Жофре облегченно вздохнул. Он встал со скамьи, пытаясь привлечь ее внимание. Обменявшись едва заметным быстрым взглядом, они сошли на ближайшей остановке. Она пошла вперед, а Жофре на некотором расстоянии последовал за ней. Только когда автобус скрылся из виду, Жофре приблизился к ней. – Меня вчера арестовали… – Я знала это. Но я не знала, что вас выпустили. – Я бежал… Он коротко описал свое бегство. Она взглянула на него с восхищением, потом тихо сказала: – Бедный старый Орестес. Они, наверно, изобьют его. Но он – крепкий старик… – Я боялся, что вас заберут, когда вы придете искать меня. Поэтому я вернулся, чтобы подождать вас где-нибудь около дома. – Я ехала не к вам. Товарищи знают о вашем аресте. Теперь надо сообщить им, что вам удалось бежать; думаю, они этого еще не знают. Но раньше я должна сделать кое-какие дела. Самое главное и срочное – где-нибудь спрятать вас… Они задумчиво продолжали свой путь. Наконец, Мариана сообщила ему адрес и сказала: – Возвращайтесь в Сан-Пауло, пойдите по этому адресу, скажите, что вас прислал Руйво и велел подождать его. Оставайтесь там до его прихода. Это – надежное место. А теперь – до свиданья и счастливого пути. Я должна ждать следующего автобуса. Он пошел быстро, большими шагами. Ему повезло… День начался удачно: он встретил девушку в автобусе. Иначе пришлось бы ждать ее долгие часы, рискуя, что его снова арестуют, и ожидание оказалось бы бесплодным, так как она знала о его аресте и не явилась бы. День начался удачно… Встреча с девушкой помогла ему снова установить связь с партией, он теперь уже не чувствовал себя затерянным в незнакомом городе. Он снова мог думать о печатном станке и наборных кассах, ожидающих его где-то в потаенном месте, в какой-то части этого большого города; там выпускаются листовки, манифесты, указывающие путь; оттуда слышится ясный и вдохновляющий голос партии. Он зашел в булочную, купил хлебец, еще горячий, прямо из печи, и начал есть тут же, на трамвайной остановке. Утро наступило, оживилось движение в пригородах. 8
Мариана спешила, встреча с Жофре задержала ее, она хотела скорее дойти до дома Зе-Педро. Но встреча с Жофре – большая удача, Мариана мысленно благословляла судьбу, столкнувшую их. Как обрадуются товарищи спасению Жофре! Она вспомнила озабоченное лицо Руйво, когда на рассвете один из ответственных работников партийной организации Санто-Андре сообщил ему об арестах, произведенных прошедшей ночью. Мариана вот уже несколько дней – с того момента, как Руйво послал к ней врача и рекомендовал уйти из дому, чтобы не быть арестованной во время полицейских облав, которые неизбежно будут предшествовать прибытию диктатора, – поддерживала с ним постоянную связь. Ей предоставили комнату в той же квартире, где жил Руйво. В эти дни у нее было много работы, руководство нуждалось в постоянном общении с низовыми организациями. Волна арестов не застала партию врасплох. Руководство предвидело их, и были приняты необходимые меры предосторожности. Ответственным работникам партии были предоставлены новые квартиры, а кадры, связанные с руководством, как, например, Мариана, получили распоряжение на несколько дней переменить свое местожительство. Мариана работала вместе с Руйво, когда пришел представитель из Санто-Андре. Было еще очень рано, и товарищ пришел усталый: ему пришлось ночью пройти большую часть пути пешком, так как транспорт еще не работал. – Среди арестованных нет никого из руководящих работников: лишь несколько товарищей, участников октябрьской стачки. Людей хватали без разбора… Вот только Жозуэ попался… – Жозуэ? – Руйво поднял похудевшее лицо с впалыми, лихорадочно горящими щеками. – А парень, который скрывался у него в доме? – И его увели… – Проклятие! – Этот арест, казалось, беспокоил его больше, чем все другие, вместе взятые. Товарищ из Санто-Андре сел, отирая грязным платком пот со лба. – Эти аресты не представляют опасности… Подержат людей, пока здесь будет Жетулио… А потом всех выпустят… – Но этого парня они не выпустят… Он приговорен к тюремному заключению. Товарищ из Санто-Андре начал информировать Руйво о положении в его городе. Он говорил медленно, взвешивая слова, а Руйво слушал, склонив голову, глядя на собеседника покрасневшими от бессонных ночей глазами. Мариана смотрела на сухие кисти его рук, на костлявые плечи и ребра, вырисовывавшиеся под рубашкой. Как может он выносить такую напряженную работу, как может пересиливать свою физическую слабость, бороться с болезнью, разъедающей легкие? Товарищ из Санто-Андре монотонным голосом докладывал: – Необходимых условий для организации забастовки пока нет. Мошенники из министерства труда чего только не обещают трудящимся… Ходят слухи, что Жетулио объявит на митинге новые трабальистские законы о труде, и это порождает в людях нерешительность… К тому же в октябре была стачка, и последствия ее все еще дают себя чувствовать… Мы думаем, что торопиться с забастовкой – значит повредить всей работе. Нужно подождать еще месяц, два. Может быть, в связи с последними арестами следовало бы развернуть агитацию… Другого конкретного предлога для забастовки у нас нет… Многие еще сохранили какие-то иллюзии в отношении Жетулио… Руйво мысленно сравнивал этот доклад с другими, которые ему привелось слышать в эти дни: рано еще начинать стачечное движение, немало трудящихся еще верят демагогическим обещаниям Жетулио. С другой стороны, некоторых отпугивало то, что новая конституция запрещала стачки. Многие решили не занимать в этом вопросе какой-либо определенной позиции, пока не услышат, что скажет диктатор на митинге в честь его приезда. Из других штатов приходили известия, свидетельствовавшие, что и там такое же положение. Запрещение «Интегралистского действия» агенты министерства труда в профсоюзах использовали как аргумент, свидетельствующий о том, что новый режим, несмотря на свою конституцию, составленную по образцу итальянской и португальской, и несмотря на диктатуру, не имеет ничего общего с фашизмом. Однако партия считала, что на государственный переворот нужно ответить мощным движением трудящихся масс, которое помешало бы диктатору ввести в действие фашистскую конституцию, и, с другой стороны, помогло бы формированию демократического фронта, способного свергнуть новый режим. Но работа эта шла медленно, а действия троцкистских и раскольнических элементов в Сан-Пауло еще больше замедляли ее. – Главное, – сказал Руйво, – это продолжать подготовку массового движения протеста. Мы не будем назначать точной даты начала стачки и не будем связывать ее с приездом Жетулио. В любой день может возникнуть подходящий повод, какой-нибудь случай откроет глаза массам и облегчит нашу работу. Как бы то ни было, времени терять нельзя… Мы должны ответить на демагогическую кампанию провокаторов из министерства труда. Жетулио приезжает, чтобы купить поддержку владельцев кофейных плантаций, а не для того, чтобы издавать законы, защищающие права трудящихся. Надо разъяснить это массам. Речь Жетулио послужит доказательством нашей правоты. – Он поднялся. Лицо его еще хранило озабоченное выражение. – Надо помешать его демагогическим планам. Писать на стенах и вывешивать знамена – этого мало. Сейчас важно разоблачить Жетулио. Движение солидарности с арестованными, кампания за их освобождение – такова ближайшая задача. На основе этого мы сможем, пожалуй, подготовить кое-что для встречи Жетулио… Он здесь пробудет дня два. Надо поговорить об этом на заседании секретариата. Товарищ из Санто-Андре ушел. Руйво сказал Мариане: – Полиции не удается напасть на след партии, и в этом залог нашего успеха. Они думали, что после государственного переворота партия рухнет сама собой. Но как они ошиблись в расчетах! Желая показать свое рвение, полиция арестовывает людей, не имеющих ничего общего с политикой. Если товарищи будут хорошо работать, эти аресты только лишний раз покажут людям, что представляет собой это правительство. Надо уметь использовать их… – А парень из Рио? – Это вот большая неудача… Он осужден на восемь или десять лет тюрьмы, точно не знаю. Теперь ему придется отбывать наказание. И хуже всего то, что мы здесь в нем нуждаемся. Трудно будет найти человека, способного его заменить. Из всех этих арестов меня беспокоит только он и Сакила… – Сакила? А почему? Лучше пусть он будет в тюрьме, чем на свободе, где он только запутывает других… – Я не знаю, насколько этот человек связан с полицией. Но я от него ожидаю всего и не удивлюсь, если он сам предложит полиции свои услуги. А может быть, Сакила уже давно работает в управлении охраны политического и социального порядка… – Одного я не понимаю, Руйво… – Чего? – Уже несколько месяцев, как вами установлено проникновение троцкистов в партию, вам известны их главари, а вы все еще не исключили их из партии. Почему? Руйво улыбнулся. – Нетрудно понять. На это есть две причины. Во-первых, среди них, кроме прохвостов и агентов врага, есть и честные люди, которых они запутали. Этих людей мы должны спасти, вернуть их партии, – этого-то мы и добиваемся. Ты разве не замечаешь, что Сакила и его приспешники совершенно изолированы от массы, от основы партии. А те самые люди, которые вчера за них горой стояли, сегодня требуют их исключения. – Это верно. – Вот тебе первая причина. Если бы мы исключили их, когда они только начали борьбу против руководства, они увлекли бы за собой много членов партии и продолжали бы сеять смуту. А во-вторых, эти люди занимали важные посты в районной партийной организации и слишком много знали о нашем нелегальном аппарате. Если бы мы их исключили, они могли бы выдать полиции почти всю партийную организацию или устроить какую-нибудь крупную провокацию. Мы понемногу меняем рабочий аппарат, а когда они это заметят, никакого зла причинить нам уже не смогут. Пойми: пока они публично не разоблачены, им вовсе не выгодно действовать в качестве открытых агентов полиции; они стараются проникнуть глубже, узнать больше. Но если мы исключим их раньше, чем изменим часть известного им механизма нелегальной работы, они могут причинить серьезный вред партийной организации. Теперь ясно? – Ясно. Но, знаете, иногда трудно представить себе, что человек, который работал и боролся вместе с тобой и твоими товарищами, входил в партийную ячейку, был арестован, вдруг оказывается тайным агентом полиции. Я вот недавно беседовала с секретарем партийной организации фабрики, где раньше работала. Одно время он находился под сильным влиянием Сакилы, был одним из тех, о которых вы говорили. Но Жоан побеседовал с ним, и мысли его прояснились, он хороший парень. Мы говорили о Сакиле. Он считает, что Сакила просто заблуждается; ему не приходит в голову, что это – враг. Говорит, что Сакила – честный человек, что заблуждаться всякий может, и так далее и тому подобное… Мне и самой подчас трудно представить, что Сакила – предатель, враг, агент полиции… – Я не говорю, что он агент полиции, но может стать им… Заблуждаться всякий может, это правда. Но тот, кто заблуждается, несмотря на предупреждения, несмотря ни на что, – тот сознательно или бессознательно играет на руку врагу. Буржуазия в своей борьбе за власть использует против нас все способы борьбы – от прямого террора до самых тонких и хитрых приемов, как, например, засылка агентов в наши организации. Так-то, Мариана. Кое-кто сразу не разобрался в том, что Троцкий – агент врага, а теперь никто в этом не сомневается. А вся эта банда, разоблаченная на судебных процессах в Москве? Разве эти люди не были старыми членами большевистской партии? И, однако, они были разоблачены как агенты врага. Враг не ограничивается тактикой окружения. Он хочет атаковать нас изнутри. Это-то и пытался сделать Сакила в Сан-Пауло. Он и его группа… – Он провел рукой по усталым глазам и продолжал: – Надо быть бдительными. Мы не имеем права рисковать безопасностью партии и успехом борьбы пролетариата только из соображений сердечной доброты… А всем доверять, не допускать мысли, что человек, находящийся в наших рядах, может оказаться агентом врага, только потому, что этот человек нам приятен, писал лозунги на стенах, хотя по профессии он – журналист, как-то ночевал в доме рабочего, был ненадолго арестован, – это опасная тенденция. Стоять на позиции справедливости – значит бороться за лучшую жизнь для людей; в этой борьбе нет места состраданию к предателям… Она требует от нас бдительности. Из разговоров с Руйво Мариана всегда узнавала что-нибудь новое. «Ему на роду написано учить людей», – думала она иногда. И как можно было сомневаться в его разумной доброте и справедливости, если он, несмотря на свои легкие, источенные чахоткой, был всегда на посту, не уставал бороться за счастье всех. Доброта души делала его твердым, как сталь. Руйво поручил ей подготовку заседания секретариата. Сегодня же утром она должна разыскать Зе-Педро и Карлоса, найти дом, где они могли бы встретиться, не подвергаясь опасности, и, кроме того, установить контакт с другими товарищами, выяснить, насколько недавние аресты причинили ущерб партийным организациям. Прощаясь, Руйво сказал ей: – В квартире Зе-Педро тебя ждет приятный сюрприз… – Сюрприз? Какой? – Она не смогла скрыть своего волнения. – Там проездом остановился один человек, который хочет видеть тебя… – Жоан? – Кто знает? – Руйво засмеялся, и смех вызвал у него новый мучительный приступ кашля, разрывавший грудь. Мариана с тревогой смотрела на него. Как только приступ кончился, Мариана хотела заговорить с ним, но, прежде чем она успела сказать хоть слово, Руйво движением руки остановил ее. – Я знаю… Не нужно ничего говорить… Да, да, я лягу отдохнуть. Я и в самом деле устал. И вот Мариана снова спешит – на этот раз по направлению к дому Зе-Педро, затерянному в предместьях Сан-Пауло. Множество мыслей и образов теснится в ее мозгу. Ей представляется пылающее от лихорадки лицо Руйво, его костлявые плечи под рубашкой, она словно снова слышит его слова о справедливости и бдительности, видит, как все его тело сотрясается от мучительного приступа кашля. Она вспоминает безбородого юношу, почти мальчика, которому удалось вырваться из рук полиции, и старого, больного Орестеса, готового перенести побои для того, чтобы помочь товарищу. Она думает о Жоане: после стольких месяцев разлуки она снова увидит его; он приехал неизвестно откуда и скоро вновь уедет неизвестно куда. Думает она и о Зе-Педро, которого разыскивает полиция Сан-Пауло; он выходит из дома только по ночам, да и то с тысячами предосторожностей; думает о Карлосе, таком молодом и веселом, хотя на теле у него еще сохранились следы от прошлогодних пыток; думает и о том бывшем армейском офицере, который сейчас в Испании командует под; разделением интернациональной бригады, который не сумел проститься перед отъездом с сестрой и не может даже написать Мариане из окопов. И она снова думает о Жоане и о своей любви, родившейся и окрепшей во время их коротких встреч на нелегальной работе, во время разговоров о политике, – об этой любви, всегда и всюду связанной с опасностью. Она думает о всех этих людях, о своей Коммунистической Партии, вынужденной уйти в подполье – как в Сан-Пауло, так и во всей Бразилии, а как в Бразилии – так и во многих странах мира. Мимо нее проходят мужчины и женщины, рабочие и работницы, спешащие на фабрики этим ранним утром, когда жизнь только просыпается и наполняет своим шумом улицы города. Большинство этих мужчин и женщин даже не подозревает о существовании тех, кто кует их судьбу, их будущее. Иногда товарищи рассказывают о героической гибели павших в бою, о людях, с титаническим мужеством противостоящих полиции, но Мариана может судить и о героизме повседневной нелегальной работы, о героизме коммунистов, вынужденных скрываться, подвергающихся каждую минуту опасности быть схваченными, зачастую лишенных личной жизни. Эти люди – плоть и кровь партии, мозг рабочего класса. Мариана каждый день видит этот незаметный героический труд и теперь спрашивает себя: что же нужно сделать, чтобы быть достойным товарищем этих людей, чтобы быть достойной спутницей Жоана, который ждет ее и хочет задать ей один вопрос? О, ее партия – партия, за которую отдал жизнь отец, из-за которой столько людей отказываются от домашнего уюта, подвергают себя опасности, лишают себя дневного света и права свободно ходить по улицам! Как любит она эту партию, бесстрашную и гонимую, которая бодрствует в предрассветный час для того, чтобы зажечь грядущую зарю человечества! Чувство великой гордости наполняет сердце Марианы всякий раз, как она, незаметная работница из Сан-Пауло, думает о своей партии. С чем можно сравнить ее партию, состоящую из людей, живущих под чужими именами, неизвестно где, людей, чьи ночи бессонны и чьи тела отмечены следами полицейских пыток? Эта партия напоминает ей море – бескрайнее синее море, которое она видела в Сантосе, когда провожала Аполинарио. Словно море, словно океан, не имеет границ ее партия: она простерлась по всему необъятному миру, победила в Советском Союзе, сражается в Испании, развернула суровую борьбу в других странах – подземное море, которое в один прекрасный день прорвется на поверхность и гигантскими волнами смоет гниль и несправедливость с лица земли. Мариана бросает настороженный взгляд вокруг, на улицу, прежде чем постучаться у двери дома, где сейчас живет Зе-Педро. 9
Мариана не разрешила будить его: пусть отдыхает, она поговорит с ним попозже. Даже любовь не вправе прервать его заслуженный отдых. Она смотрит на его лицо, такое любимое. Жоан спит глубоким сном, растянувшись на кушетке, и так, с закрытыми глазами, кажется моложе и не таким строгим. На его худом лице не видно морщин, легкая улыбка застыла на губах. Что ему снится? Мариана кладет поудобнее его свесившуюся руку и улыбается, заметив дыры на носках, которые он забыл снять. Он сбросил только пиджак и ботинки. Эти носки надо заштопать. Кайма брюк забрызгана грязью; по каким только дорогам ни прошел он за эти долгие месяцы отсутствия! Мариане надо уходить, ей предстоит еще длинный путь до дома, где находится сейчас Карлос; она уже условилась с Зе-Педро о месте заседания секретариата и договорилась о том, как быть с Жофре. Она тоже зайдет вечером на собрание, чтобы повидать Жоана. Тогда она сможет поговорить с ним, услышать его голос, может быть, спросить, что ему снилось утром, почему он улыбался во сне. Зе-Педро вносит в комнату чашку кофе, за ним появляется его жена Жозефа с ребенком на руках. Оба смеются, увидев задумчивое и взволнованное лицо Марианы. Жозефа показывает ей сына. – Тебе надо выйти замуж и иметь детей… Зе-Педро смеется. – Выпей кофе… Жоан пошевелился во сне. Мариана прикладывает палец к губам. – Тс-с, пусть поспит, бедняжка… Стоя, она выпила чашку кофе. Зе-Педро сел за письменный стол, склонился над книгой Сталина и, кажется, совсем забыл о Мариане, Жоане, жене и ребенке. Он читает с жадностью, словно ищет в книге великого вождя ответ на вопросы, возникшие в связи с известиями, о которых сообщила Мариана. Однако он поворачивает голову и улыбается, когда ребенок, барахтаясь на руках у матери, начинает звать его, лепеча: «папа, папа». Потрепав ребенка по смуглой щечке и ласково проведя рукой по растрепанным волосам Жозефы, Мариана бросает последний взгляд на Жоана и выходит. Был уже почти полдень, когда она достигла убежища Карлоса на другом конце города. По дороге она прошла по тем местам, где рассчитывала встретить товарищей, которые должны были сообщить ей последние новости, а кроме того, сделала все необходимое, чтобы устроить Жофре. Позавтракала она с Карлосом, слушая, как он по привычке без умолку говорит о самых различных вещах. Она нашла Карлоса постаревшим, заметила несколько белых нитей в его волосах. Однако сколько же ему лет? Наверно, не больше двадцати пяти-двадцати шести. Тюрьма и подпольная работа преждевременно состарили его. Но живость свою он не потерял и теперь рассказывал Мариане во всех подробностях, как два года назад чуть не свел с ума всю полицию Рио, выдумав на допросе запутаннейшую историю, которой инспектор поверил. Долгое время полиция тщательно разыскивала по всему городу описанных им людей, которые были плодом его фантазии. Карлос родился в Сан-Пауло; его отец был рабочий-итальянец, женившийся на негритянке, и сын унаследовал от родителей музыкальность и богатое воображение. Рано поступил он на фабрику и одновременно начал заочно изучать механику. Он очень любил читать. Еще мальчиком вступил в организацию коммунистической молодежи и вскоре был принят в партию. Благодаря героическому поведению в тюрьме (он был арестован, когда работал в Рио) и твердости, которую он сохранял под самыми жестокими пытками, Карлос после освобождения был направлен Национальным комитетом в районный комитет Сан-Пауло, пострадавший от арестов в 1935–1936 годах, Он первым поддержал Руйво в борьбе против Сакилы и его группы, несмотря на то, что само руководство испытывало некоторые сомнения в этом вопросе. Но он обладал упорным характером и вскоре сумел убедить товарищей в том, что эта группа, постоянно протестующая против принятых партией решений, тесно связанная с армандистами, заражена чуждой идеологией и представляет серьезную опасность. Когда комитет района был реорганизован, Карлоса выбрали секретарем, ответственным за агитационную работу. Он знал лучше всех (за исключением, может быть, Жоана) низовые организации и повсюду пользовался популярностью; умел заразительно смеяться, рассказывать анекдоты, шутить, а также любил хорошо поесть. Он встретил Мариану нескромным вопросом: – Значит, наш жених объявился? – Какой жених? – Секрет на весь свет… Уже весь Сан-Пауло знает, что любовь сжигает тебя и Жоана. Только вы двое – ты и Жоан – еще ни о чем не догадываетесь. – Эта шутка, Карлос, еще может привести к плохим последствиям. – Ясно. К свадьбе… – Я пришла, чтобы рассказать тебе о последних событиях и договориться о сегодняшнем заседании… – Давай поговорим за столом. Сейчас как раз время завтрака, и хозяйка приготовила замечательный макаронник… Карлос скрывался в доме мастера ткацкой фабрики, супруга которого любила похвалиться своим кулинарным талантом. Известие о бегстве Жофре обрадовало Карлоса. – Надо как можно скорее решить вопрос насчет типографии. Уже несколько месяцев, как это дело не двигается. А Жофре – хороший парень, правда? Я его знаю по тюрьме в Рио. Он храбрец, каких мало, крепкий, как скала, хотя и похож на рахитичного, ребенка… Мариана с нетерпением ждала вечера. Заседание должно было состояться в одном из аристократических кварталов города, в доме архитектора Маркоса де Соузы, который давно уже связан с партией. Он холостяк, в доме у него много места, и когда устраивались нелегальные собрания, он отпускал слуг, а сам оставался один в комнате напротив, наблюдая, чтоб не вошел никто из посторонних. Мариана знала его с детства и восхищалась его романтической внешностью, буйными посеребренными сединой волосами, широченным галстуком, какие носит артистическая богема, и его непоколебимым уважением к коммунистам. Он участвовал в движении Альянса, но так как не являлся активным работником партии, то и не был на подозрении у полиции. Кроме того, он зарабатывал много денег, был одним из модных архитекторов, его многие знали, и он знал многих; он построил немало роскошных особняков для гран-финос Сан-Пауло, включая дом Антонио Алвес-Нето. Когда Мариана входила к нему в кабинет, он запирал дверь и спрашивал, широко улыбаясь полными губами: – Денег или дом? Он никогда не отказывал ни в том, ни в другом, но Мариана старалась не злоупотреблять его любезностью. Его дом был лучшим помещением для собраний, и она сохраняла его на крайний случай, как это было сейчас. Здесь, в этом доме, на красивой и тихой улице, товарищи могли чувствовать себя в безопасности и спокойно обсуждать все вопросы. В комнате напротив, сидя у окна, архитектор, попивая маленькими глотками какой-то прохладительный напиток, охраняет их безопасность, пока в зале идет заседание секретариата. Когда Мариана вошла, собрание было в самом разгаре. Она пришла в радужном настроении: не только потому, что собиралась повидать Жоана и поговорить с ним, но и потому, что из тюрьмы до нее дошли известия о старом Орестесе – в полиции он пострадал не особенно сильно. Другой товарищ, помогавший бегству Жофре, вынес более серьезные побои, но так как он продолжал упорно уверять, что бежавший – его племянник, который просто испугался полиции, то шпики, наконец, поверили этой истории. Жофре в Сан-Пауло не знали, и его мальчишеская наружность делала это выдуманное объяснение правдоподобным. Мариана зашла в комнату напротив поговорить с архитектором. Но в то же время она внимательно прислушивалась к голосам, доносящимся из зала. Маркос де Соуза показывал ей из окна бесчисленные звезды, сверкавшие на безоблачном небе. Он знал название каждой из них, расстояние от земли, величину, объяснял, что каждая из них – центр вселенной, состоящей из множества миров гораздо больше нашего; все это казалось Мариане волшебной сказкой. – А может быть, на этих планетах тоже существуют капиталистическая эксплуатация и коммунистические партии? – смеялась Мариана. Вопрос остался без ответа: скрип отодвигаемых стульев возвестил о конце заседания. Зе-Педро вошел в комнату, пожал руку архитектору и Мариане, надел фетровую шляпу, темные очки и исчез в саду, окружавшем дом. Архитектор направился в другую комнату; зная, что участники заседания никогда не выходят вместе, а поодиночке, с промежутком минут в пятнадцать-двадцать, он хотел предложить им чего-нибудь выпить. Мариана осталась одна, ей не хотелось встречаться с Жоаном в присутствии Карлоса и Руйво, которые опять начнут подшучивать над ней. Вскоре показался Жоан и подошел к ней, протягивая обе руки. Теперь его лицо снова было суровым и благодаря серьезному, внимательному взгляду казалось старше. Но на его губах играла та же улыбка, что сегодня утром, когда он уснул на кушетке. – Все в порядке? – спросила она. – В порядке. В день приезда Жетулио массы выйдут на улицу, требуя освобождения заключенных. Он молча постоял перед нею и после минутного колебания вдруг сказал: – Следующему выходить мне. Ты не хотела бы выйти на минуту в сад, пройтись со мной? – И добавил, словно для того, чтобы убедить ее: – Я пробуду в Сан-Пауло только один день, завтра опять уезжаю, неизвестно на сколько времени. – Хорошо, пойдем… В саду им пахнул в лицо теплый аромат цветущих кустов жасмина. Сели на цементную скамью. Жоан взглянул на часы. Ветки жасмина тихо покачивались над головой Марианы. Оба молчали, словно были не в состоянии выразить словами то, что чувствовали. – Я довольна, – сказала она, наконец, – старого Орестеса не очень мучили… – Да, а тому посчастливилось бежать. Хороший парень этот Жофре. И снова воцарилось молчание – то напряженное молчание, какое наступает, когда людям надо сказать друг другу много, много важного, и они никак не могут решиться. Наконец, Мариана победила свою робость и заговорила первая: – Я скучала без тебя… И сразу удивилась, как у нее хватило смелости произнести такие слова. Ох, как трудно выразить все то, что накопилось на сердце!.. Жоан встал и взял ее руки в свои: – Мариана… Ты хотела бы быть моей женой? Хотела бы выйти за меня замуж? Я уже давно собирался поговорить с тобой об этом. Она тоже встала. Луна озарила своим ясным светом ее лицо, видневшееся из-за цветущих ветвей. – Да, я хотела бы этого, Жоан. – А знаешь, ведь меня зовут не Жоан. Жоан – это псевдоним, а мое настоящее имя Агиналдо. Нехорошее имя, правда? Лучше уж продолжай называть меня Жоаном… Он снова посмотрел на часы. – Мне пора идти. Когда я вернусь, мы поженимся. Я поговорю с родителями в Жундиаи; лучше там пожениться, чем здесь. Дай Руйво свое свидетельство о рождении, он мне перешлет… – Он сжал ей руки. – Я не умею говорить красивые слова. Но знаю, что люблю тебя, потому что вижу тебя во сне… – И, широко улыбнувшись, добавил: – И когда пробуждаюсь… Мариана почувствовала тепло его рук. Губы Жоана осторожно прикоснулись к ее лицу, а когда она открыла глаза, его уже не было, он только что вышел за калитку сада, и шаги уже гулко отдавались на мостовой, унося его куда-то далеко, неизвестно куда; он выполнит новое задание партии и вернется, но кто знает, когда это будет. Однако тепло его рук, едва ощутимая ласка губ, коснувшихся ее лица, остались с нею. Сквозь напоенные пряным ароматом ветви жасмина виден мерцающий свет звезды. Как зовется эта звезда, о которой ей не говорил архитектор; эта звезда – свидетель ее помолвки, озаряющая своим светом распущенные темные волосы Марианы? Надо вернуться в дом: Руйво или Карлосу, наверное, нужно поговорить с ней, отдать распоряжения, договориться о встречах. В ближайшие дни будет много работы. Уже не слышно шагов по мостовой, но она все еще чувствует тепло рук Жоана, робкое прикосновение его губ. Как зовется эта звезда, ее звезда? 10
Это был высокий и бледный, почти позеленевший человек, с вечно потными руками и тягучим голосом. Во рту у него постоянно торчал погасший окурок сигареты. Его подпольная кличка, данная ему много лет назад товарищами по типографии, где он обучался печатному делу, была Камалеан[101]. – Сакила передал мне эти машины, и я сдам их только ему. И никому больше, хотя бы это был генеральный секретарь партии, хотя бы сам Престес вышел из тюрьмы и появился здесь… Карлос, усевшись на бидон из-под керосина, начал снова терпеливо объяснять: – Эти машины и наборные кассы не твои и не мои, и не Сакилы: они принадлежат партии, старина. И если партия предлагает тебе сдать все это, твой долг коммуниста передать их мне, как уполномоченному партии. Ты меня знаешь, тебе прекрасно известно, кто я. – Понятия не имею. Ты раза два-три приносил сюда материал для набора, но этого еще недостаточно, чтобы передать тебе машины. – Ты же отлично знаешь, Камалеан, что я секретарь по агитации, сам Сакила при мне сказал тебе об этом и объяснил, что ты должен исполнять то, что я тебе прикажу. Так это или не так? – Может быть… не помню: разве я могу запомнить все, что мне говорят? Я не какой-нибудь Руи-Барбоза[102]… Я знаю то, что Сакила сказал мне несколько дней тому назад, накануне своего ареста… – Что же он сказал? Камалеан исподлобья взглянул на Карлоса, на лице которого он увидел нарастающий гнев. – Он мне сказал: «Будь осторожен, Камалеан, тут есть кучка авантюристов, проникших в партию. Людей, которым не по вкусу ни ты, ни я. Они хотят окончательно подчинить себе партию и выгнать нас. Сейчас они зарятся на типографию…» – Камалеан вынул изо рта окурок, бросил на пол и раздавил ногой, обутой в рваную домашнюю туфлю. – И это именно так. Или ты думаешь, что я ничего не знаю? Правда, я живу здесь, в этой норе, никого не видя, но я знаю, что творится, знаю про все безобразия… – Какие безобразия? – Да то, что вы разгуливаете здесь вроде каких-то лордов, живете в богатых кварталах, разъезжаете в автомобилях, жрете вволю и все самое лучшее, набиваете деньгами карманы своих дорогих костюмов, в то время как мы подыхаем с голоду, не получая даже полагающейся нам заработной платы. Уже несколько дней, как мне нечего курить, нет ни одной сигареты… А тем временем вы живете лучше буржуев…– Его монотонный голос, казалось, повторял заученный урок. – И все ошибочно в линии партии. Вы рассуждаете о демократическом фронте – мне уже надоело набирать листовки, толкующие об этом, – но в час, когда волк выходит за добычей, вы ничего не хотите знать. Люди Армандо Салеса готовы свергнуть Жетулио, нам нужно воспользоваться этим… Карлос заговорил медленно, стараясь сохранять спокойствие: – Это твой друг Сакила вбил тебе все это в голову, Камалеан. Я уже не говорю о недостойной для коммуниста клевете по адресу руководителей комитета партии. Возможно, что иногда ты получаешь свою заработную плату с опозданием; с финансами у нас не в порядке, и здесь больше вина Сакилы, чем наша. Но ты получаешь ее раньше, чем мы, и столько же, сколько мы. Но об этом мы поговорим потом, организованно. Так же как и о политической линии. В чем ты нас обвиняешь? Что мы не ввязываемся в армандистский заговор в кампании с интегралистами? Что мы не заставляем рабочий класс плестись в хвосте у буржуазии? Не путчами мы свергнем режим «нового государства», а движением масс, и это дело не одного дня – оно явится результатом длительного процесса. Линия партии правильна. А попытка примкнуть к армандистскому перевороту – чистейшей воды оппортунизм, она не имеет ничего общего с политикой пролетариата. Это все затевают люди, которые стремятся заполучить ту или иную государственную должность… – Ну что ж, получить какую-нибудь должность совсем не так уж плохо. Мне, несчастному, надоело быть здесь замурованным, запрятанным на окраине, подыхать с голоду над этими шрифтами. Если бы Армандо Салес при нашей поддержке победил, а потом за это роздал бы некоторым из нас кое-какие должностишки, ей-богу, было бы неплохо. Мы могли бы больше помогать партии… Но, – и он пристально посмотрел на Карлоса, – не у всех голова Сакилы. Будь он в национальном руководстве, дело пошло бы иначе… Я всегда говорил и повторяю: нет в Бразилии такого рабочего, который сумел бы руководить партией. Мы должны передать это тем, кто умеет мыслить, – таким, как Сакила. – Ты предлагаешь передать руководство партии одним интеллигентам?.. – Именно интеллигентам. А почему бы и нет? Они… Карлос резко оборвал его: – Я уже давно не слышал такой ерунды. Ты разложился, старик, окончательно разложился… То, что ты говоришь, – это слова предателя. Типограф вытянул шею, он, казалось, позеленел еще больше, голос его стал плаксивым: – Это я-то предатель? Вот какова награда за мое самопожертвование… Кто живет взаперти, отравленный типографской краской, почти никогда не выходя на волю? Ты или я? Уже почти два года, как Бранко и Сакила запрятали меня в дом, где я все время, день и ночь работаю для партии; если я изредка и выхожу, то втихомолку, прячась, и меня же упрекают, когда материалы опаздывают, будто здесь десять человек, а не один, и будто у меня в руках хорошая машина, а не старая рухлядь… – Этот печатный станок, когда ты его принял, был еще в неплохом состоянии, а сегодня он уже ни черта не стоит. Я сомневаюсь, что ты, до того как пришел сюда, видал когда-нибудь в своей жизни типографию. – Я уже двадцать лет печатник. Был заместителем заведующего типографией «Газета да тарде»… Дело все в том, что машина никуда не годится: уже когда мне ее подсунули, она была развалиной. – Да и не только это. Мы имеем сведения, что у тебя есть зазноба неподалеку от места работы. Это означает, что ты вручил безопасность партийной типографии в руки первой попавшейся женщины… Товарищи приходили за материалами и не находили тебя; ты уходил к своей красавице, путался с ней, бывал у нее дома… – А что, я должен был все это время оставаться без женщины? Ты думаешь, я каменный? – Ну, ладно, Камалеан, всему этому конец. Твое дело мы разберем потом, и ты объяснишь партии, почему вел кампанию против районного руководства и против политической линии Национального комитета. Это будет решать партия, а не я. Я с тобой спорить больше не стану, все равно без толку. А пока я пришел к тебе с хорошей новостью. Комитет решил заменить тебя в типографии и направить на работу в профсоюз печатников, где мы еще слабы; там орудуют анархисты и троцкисты. Тебя это должно вполне устроить: не придется больше жить, скрываясь, ты сможешь свободно ходить по улицам, ты даже будешь обязан состоять на легальном положении, чтобы иметь возможность действовать в профсоюзе. Ты член союза, не так ли? – Да. – Значит, все в порядке. Ты мне передашь типографию, я тебе сообщу явку; мы там встретимся, и я сведу тебя с районным руководством. – Передать тебе типографию? Нет, я уже тебе сказал, что нет. Есть два человека, которым я могу ее передать, – Бранко и Сакила. Бранко сидит в тюрьме в Рио-де-Жанейро, он осужден; Сакила – в здешней тюрьме, но он не осужден. Вот когда он выйдет, я и передам ему типографию. Почем я знаю, чорт возьми, что вы хотите с ней сделать!.. – Тебе и незачем это знать. Тебя не должно интересовать, что партия собирается делать с типографией. А твой отказ передать ее является достаточным основанием для исключения тебя из партии. – Да кто вы такие, чтобы исключать из партии? Заруби себе на носу: для меня партия – это Сакила и его товарищи… Мы – это партия. И я заранее предупреждаю: пока Сакила в, тюрьме, я не сдам типографию, но и работать не буду… Знаешь, что я сделаю, как только ты уйдешь? Запру дом на замок и уйду отсюда. А когда Сакилу освободят, отдам ему ключ, и пусть он тогда делает с типографией что угодно… И не приставай ко мне больше… Для меня вы – не партия: вы ничто. Карлос поднялся со сжатыми кулаками. На мгновение он испугался, что потеряет голову, набросится на Камалеана и изобьет его. – Ты настолько разложился, что даже смердишь… – сказал он и прошел мимо типографа, который даже не двинулся с места. Выйдя наружу, на грязный, запущенный участок около дома, он глубоко вздохнул и подумал, насколько был прав Жоан, когда говорил, что будет нелегко получить типографию. В течение нескольких недель Сакила препятствовал переброске машин в новое помещение, выдумывая тысячи предлогов, чтобы оттянуть переезд со дня на день. В конце концов, он вынужден был уступить нажиму секретариата, но не нашел человека, который бы заменил Камалеана, и перевез машины на новое место, в маленький, уже давно необитаемый домишко в окрестностях города. Это дело настолько обеспокоило районный комитет, что национальное руководство в Рио решило послать сюда Жофре. Теперь нужно было заставить Камалеана сдать типографию. Сакила организовал подпольную типографию несколько лет назад, когда вступил в партию. Эта типография была раньше его собственностью, в ней он печатал модернистский литературный журнальчик, издававшийся небольшим тиражом. Этот дар и был причиной того, что вступление Сакилы в партию рассматривалось как ценное приобретение. У него была известная литературная репутация: за несколько лет до этого он издал сборник поэм, участвовал в псевдолевом литературном движении, числился в кругах интеллигенции знатоком «передового» искусства и литературы. Такие люди, как Шопел и Эрмес Резенде, считались с его мнением, упоминали о нем в своих статьях. Кроме того, у него был широкий круг знакомых, имевших возможность помогать партии в финансовом отношении, и он был секретарем редакции одной влиятельной утренней газеты. Бранко, который привлек его в партию, сразу же предложил ввести его в районный комитет («чтобы расширить его социальный состав», – объяснял он), а вскоре Сакила уже сумел завоевать почти полное господство в районном комитете, к нему относились как к бесспорному авторитету по всем вопросам. Лишь Руйво противостоял его влиянию. Поговаривали даже о его кооптации в Национальный комитет, и это бы, возможно, случилось, если бы неудачи движения Национально-освободительного альянса в 1934–1935 годах не выявили слабости партии в Сан-Пауло. Руководство районной партийной организации находилось тогда в руках полудюжины интеллигентов, и партия оторвалась от пролетариата крупных предприятий: уменьшилось количество ячеек на фабриках и заводах по сравнению с ячейками, построенными по территориальному принципу, в состав которых входили и мелкобуржуазные элементы. Арест части руководства после разгрома революционного движения 1935 года явился отправной точкой для изменения положения. Приезд в Сан-Пауло Жоана, прибытие Зе-Педро, а затем и Карлоса помогли осуществить то, что неоднократно предлагал Руйво: центр тяжести партийной работы перешел на фабрики и заводы; районный комитет начал менять свой облик, новое рабочее руководство дало сильный толчок всей деятельности партии. В течение этих лет борьба между новым руководством и Сакилой, еще продолжавшим состоять членом районного комитета, обострялась все больше и больше. И теперь, когда внешне незаметная, но упорная работа нового районного комитета начала приносить плоды, эта борьба дошла до кульминационной точки. Сакила был разоблачен как троцкистский агент, связанный с паулистской буржуазией, добивающейся, чтобы партия превратилась в придаток политической машины кофейных плантаторов-латифундистов. Он пытался вовлечь партию в авантюры, связанные с готовящимся путчем, стараясь одновременно расколоть организацию, создать группу, оппозиционно настроенную по отношению к руководству, препятствуя, насколько это было в его силах, нормальному ходу партийной работы. Национальное руководство было уже информировано об этом, а районный комитет ожидал только, когда откроются глаза у попавших под влияние Сакилы здоровых элементов, чтобы положить конец его раскольнической деятельности. Он ждал подходящего момента, чтобы исключить Сакилу и некоторых его сообщников из партии. Задача заключалась и в том, чтобы заменить ту часть нелегального аппарата, которая была известна Сакиле, ибо, по мнению Руйво и Жоана, в раскольнической группе имелись лица, почти наверняка связанные с полицией. Разъяснительная работа среди членов партии дала свои первые положительные результаты: некоторые ячейки потребовали исключения Сакилы, но секретариат полагал, что подходящий момент не наступил, ибо часть низовых организаций еще не разобралась в том, какова на самом деле позиция троцкиста. Камалеан вступил в партию с помощью Сакилы в то время, когда тот был хозяином положения. Сакила орудовал в профсоюзе работников печати, он был членом его руководства; здесь-то он и познакомился с Камалеаном, услышал его жалобы на товарищей по типографии и профсоюзу, оказал ему покровительство и полностью подчинил своему влиянию. Сакила ввел его в партию, направил в подпольную типографию. И поскольку Сакила продолжал оставаться ответственным за типографию, ему удалось в неприкосновенности сохранить свой авторитет перед печатником. Позднее, в тот же день, Карлос обсудил с Руйво и Зе-Педро создавшееся положение. – Это провал, – сказал Карлос. – Где мы будем печатать материалы, связанные с приездом Жетулио? Нам нужно наводнить город листовками. Ни одна легальная типография не возьмется работать для нас, даже если ей заплатить золотом… А оборудовать новую типографию за неделю практически невозможно. – Да, об этом и думать нечего. – А типография в Сорокабе? Там ведь сейчас Жоан… – Уж очень мала… Куда она годится? Ее едва хватает на одну Сорокабу… Руйво спросил: – Ты полагаешь, что Камалеан действительно ушел, бросив типографию? – По крайней мере, он пригрозил это сделать. – Мы можем послать кого-нибудь проверить, действительно ли дом пуст, и проследить, не возвращается ли туда этот тип… – Ну, и что тогда? – Если он убрался, взломаем дверь, и Жофре начнет работать… – А если Камалеан вернется? – В конце концов, он еще член партии? – Какой он член партии? Тварь… – Для предосторожности мы пошлем с Жофре еще одного товарища. Если Камалеан вернется, ему волей-неволей придется примириться с создавшимся положением. Мы не можем остаться без прокламаций к приезду Жетулио. – По-видимому, это единственный выход… Руйво предложил: – Надо попытаться немедленно найти другое помещение. Постараться перевезти туда типографию – и чем скорее, тем лучше. Если Камалеан знает, где находится типография, мы не можем гарантировать безопасность товарищам, которые будут в ней работать. А пока мы не найдем подходящего помещения, надо заставить Камалеана скрываться. Нельзя допустить его ареста. Я совершенно не могу за него поручиться: он способен рассказать все, что знает, и все, чего не знает… Зе-Педро согласился: – Это верно. Но покамест придется идти на риск. Нужно чтобы Жвфре с товарищем начали работать. – Кого же направить вместе с Жофре? – Это должен быть человек, заслуживающий полного доверия и готовый на все… 11
Был ли человек, более заслуживавший доверия, чем старый Орестес, более смелый, более способный убедить самого Камалеана, если тот появится? Кто в партии не уважал старого Орестеса? Его отпустили через два дня после ареста, так как болезнь его обострилась и полиция боялась, что он умрет на холодном цементном полу тюремного застенка. Его смерть могла вызвать нежелательную реакцию в рабочей среде накануне приезда диктатора. Инспектор охраны политического и социального порядка, узнав, что старик даже не может двигаться, решил выпустить его. «Больной старик никакой опасности не представляет. Арест послужит для него предостережением. Если он умрет здесь, коммунисты используют эту смерть в своих целях, старик слишком известен. Лучше отпустить его на свободу». Он отдал также приказ об освобождении Сакилы; его об этом просили многие, даже доктор Антонио Алвес-Нето, которому инспектор, занимавший этот пост со времени правления Армандо Салеса, ни в чем не мог отказать, так как был ему обязан своей карьерой. Адвокат-армандист был заинтересован в освобождении Сакилы. Он объяснил инспектору, что Сакила нужен редакции газеты «А нотисиа» – предприятию, в котором доктору Алвес-Нето принадлежало наибольшее число акций. Привлечь Орестеса для работы в типографии предложила Maриана. Итальянец не мог быть использован на другой работе из-за своего преклонного возраста, но здесь мог быть полезен, да к тому же деревенский воздух может вылечить его от ревматизма. Руйво выслушал ее доводы и добавил свои соображения. А что если Орестесу вообще поселиться за городом? Семьи у него нет, он одинокий, работа на фабрике тяжела для него. Живя за городом, он сможет выращивать овощи; это даже как-то оправдает его пребывание там в глазах соседей, которые будут думать, что Орестес – старый итальянец, живущий на пенсии и всецело поглощенный своим маленьким огородом. Жофре можно выдать за его сына или работника. Таким образом станет легче подвозить материалы, и типография окажется в большей безопасности… Так старый Орестес снова встретился с юношей, которому раньше помог бежать. Теперь он застал его склонившимся над испорченным печатным станком. Жофре тщательно осмотрел станок и смазал его. Мариана приехала вместе с Орестесом, и ее очень позабавила сцена встречи старика и юноши, в особенности изумление, написанное на их лицах. Они казались дедом и внуком, потому что Орестес, совсем седой, с лицом, изборожденным морщинами, выглядел старше своих лет, а Жофре, похожий на хилого мальчишку, казался моложе. – Если вы думаете, что я здесь буду сидеть сложа рули, вы очень ошибаетесь, синьорина. Я научусь обращаться с этой машиной и тоже стану типографом… – объявил итальянец. – Ничего подобного, дядя Орестес, – возразила Мариана. – Вы будете выращивать овощи. Посадите хороший огород. Днем Жофре будет вам помогать. Но учтите, что он будет ленивым и сонным помощником… Потому что целыми ночами ему придется работать в типографии. Таково решение партии… Орестес снова повернулся к Жофре. – Что за партия у нас, а? Вот эту девушку, которая мне сейчас отдает приказания, я знал вот такой малюсенькой – piccola, piccola[103]… А теперь она учит старого Орестеса, что ему делать… – И он засмеялся, с чувством удовлетворения глядя на обоих молодых людей – представителей нового поколения, занявшего свое место в суровой борьбе. Орестес проводил Мариану до ворот. Она сказала, зная, что он обрадуется: – Я выхожу замуж, дядя Орестес… – Ты, carina? За кого же? – Вы знаете товарища Жоана? – Жоана? Это замечательно!.. Он из тех, которые не сгибаются, как их ни гни… А я-то думал, что ты влюблена в того офицера, что уехал в Испанию и все шлет тебе письма… – Нет. Я его ценю как друга, как хорошего товарища. Больше ничего. – А когда свадьба? – Кто знает! Такая жизнь, что… – Она стала напевать популярную песенку: Если дождик не пойдет, Завтра милый твой придет… – Уж я припасу вина для праздника… – Старик поцеловал Мариану в лоб, глаза его затуманились. – Ты хорошая девочка и хороший товарищ. Не многие обладают твоим мужеством, cara piccina; я желаю тебе много, много счастья. Он вернулся к Жофре. Стемнело, станок поместили в комнату без окон; Жофре продолжал изучать его, заменял проволокой шнуры, которыми были привязаны отдельные его части. Вдоль стен стояли наборные кассы. В углу лежало несколько стоп бумаги. Жофре стал жаловаться: – Тот тип, что раньше здесь работал, был мясником, а не типографским мастером. Испортил машину. Да и сама-то машина была, верно, сделана в давнишние времена. Но если бы с ней обращались получше, она бы не пришла в такое состояние. И все оборудование в таком же виде. Но я исправлю. Я люблю эту работу, все мое детство прошло в типографии. Он рассказал старику о своем детстве, о маленькой типографии в одном из северо-восточных штатов Бразилии, когда он присматривал за печатным станком и ходил с выпачканными маслом и краской руками, а непокорные волосы падали ему на глаза. – Та типография, хотя и плохонькая, была все же лучше этой. Здесь очень мало литер, надо добыть новые. И в машине нехватает некоторых деталей… При первой же встрече с кем-нибудь из партийных работников надо будет попросить. Они могут достать в других типографиях, где работают наши товарищи… – Он провел рукой по машине. – Мы еще с тобой подружимся, старушка. Ты у меня засияешь, станешь как новенькая, я из тебя красавицу сделаю… Вот увидишь… Завтра, когда прибудет материал, мы с тобой начнем работать… И нечего со мной капризничать и хитрить, надо честно работать… Старый Орестес смеялся – он не будет скучать без соседей; этот парнишка ему по вкусу, он любит таких людей – веселых и энергичных. Он тоже стал рассказывать. Вспомнил о типографии в Буэнос-Айресе, где когда-то, много лет назад, печаталась рабочая газета. Это была легальная типография, но вдруг в один прекрасный день явилась полиция и опечатала машину и наборные кассы. Тогда работники типографии решили установить дежурство и охранять дом. И когда во время крупной забастовки, в организации которой большую роль сыграла газета, снова явилась полиция, она неожиданно встретила такое мужественное сопротивление, что вынуждена была отступить. Орестес участвовал в борьбе и вывел из строя двух или трех полицейских. Он был тогда здоровым парнем, и его русые усы тревожили сердца городских девушек. – Я не в первый раз охраняю типографию, – сказал он с гордостью. – В тот раз хорошо получилось, полицейские удирали, как мыши, любо было смотреть… Он рассказывал с драматическими жестами, широко размахивая руками, пересыпая свою речь итальянскими ругательствами. Жофре смеялся, его мальчишеское лицо сияло от удовольствия. Он уже чувствовал себя крепко связанным с этим стариком, за плечами которого была долгая жизнь борца-пролетария. Оба, старик и юноша, смеялись здоровым смехом, стоя рядом с машинами в тишине уединенного сельского домика, откуда скоро раздастся в газетах, листовках и манифестах голос передового отряда бразильского народа, голос партии. Их разделяло более сорока лет, но они были как два брата, они жили одной надеждой и одной верой, боролись во имя одной цели. Так, смеющиеся, стоя по обе стороны печатного станка, они казались символом преемственности борьбы рабочего класса. А в то время, когда они смеялись, в тот же самый час инспектор охраны политического и социального порядка собрал в помещении центральной полиции старших агентов, чтобы передать им приказ, полученный из Рио-де-Жанейро. – Предлагается установить местонахождение типографии компартии. Во время пребывания доктора Жетулио в городе не должно быть ни одной листовки. Надо найти типографию, даже если для этого придется обшарить весь город, дом за домом… Один – почти совсем старик, с поседевшей в боях головой, за свою долгую жизнь сражавшийся в четырех странах, один из тех, что принес из старой Европы первые идеи борьбы и первые брошюры; другой – почти юноша, боевая жизнь которого только началась, достойный представитель молодого поколения, борющегося против нищеты, в которой задыхается бразильский народ… Они вдвоем сторожат машины, тщетно разыскиваемые полицией, – старые поломанные машины, сбитые литеры, стопы с трудом добытой бумаги; скоро на анонимных листовках запылают огненные слова – слова, что дороже золота, сильнее полицейских и реакции, могущественнее плантаторов, владеющих огромными поместьями, и банкиров Уолл-стрита; слова, воодушевляющие на борьбу против фашизма и империализма, против голода и нищеты. Один – старый итальянец с седыми волосами, давным-давно приехавший в Латинскую Америку в каюте третьего класса среди других иммигрантов и привезший с собой идеи и традиции революционной борьбы. Другой – молодой матрос, приговоренный к тюремному заключению, еще недавно бродивший оборванным мальчишкой по бедным улицам голодающего севера, юноша с чистым сердцем и горячим нравом. Да, один уже старик, а другой почти юноша – старый Орестес и молодой Жофре – сторожат эти машины, принадлежащие народу. Старость и юность, соединившись вместе, куют будущее в скрытом от постороннего глаза подполье свободы. 12
В ту же беспокойную ночь, накануне прибытия диктатора в Сан-Пауло, Сакила беседовал с Антонио Алвес-Нето. Адвокат и так редко заглядывал в редакцию газеты «А нотисиа», а после государственного переворота и вовсе там не показывался. Он не подписывал полосы, но все знали, что подлинный руководитель этой большой ежедневной газеты – он, что ему принадлежит большинство акций анонимного общества. Газета недавно активно выступала за кандидатуру Армандо Салеса на пост президента республики, а после государственного переворота и введения цензуры два-три раза попыталась, правда робко, критиковать существующий режим. Реакция департамента печати и пропаганды была немедленной: газете пригрозили закрытием на неопределенное время. Антонио Алвес-Нето был этим встревожен и отдал распоряжение редакции – строго держаться в рамках дозволенного цензурой. Газета приносила ему большой доход – не стоило рисковать ею. «Ведь не сенсационными сообщениями, не передовыми статьями надо стараться свергнуть Жетулио», – думал адвокат. Он, Антонио Алвес-Нето, светило юридического мира, адвокат английских компаний, владелец бесчисленных земельных участков близ границы штатов Сан-Пауло и Мато-Гроссо, один из самых влиятельных политиков своего штата, – он-то знал, что надо сделать, чтобы свергнуть диктатора, как провозгласить Армандо Салеса президентом республики, а самому стать губернатором штата. Он любил хвалиться своим «политическим реализмом» и с презрением смотрел на большинство своих единомышленников. С тех пор как Артур Карнейро-Маседо-да-Роша неожиданно и необъяснимо отошел от армандистов, все нити заговора против правительства, вся подготовка путча против Жетулио Варгаса сосредоточились в его руках – у него дома в Сан-Пауло и в Рио, куда он постоянно ездил. Антонио Алвес-Нето беседовал с политиками, с офицерами, с высокими чинами морского флота, с интегралистами. Он был очень рад тому, что в последнее время установилась тайная связь с высшими руководителями «Интегралистского действия», которые были недовольны результатами государственного переворота: Жетулио, захватив всю власть, установил суровый режим, отвечающий лишь его интересам, а своих соратников, интегралистов, выбросил за борт. Поддержка путча Плинио Салгадо обеспечила адвокату прочную базу в военно-морском флоте и даже сотрудничество некоторых армейских генералов. После всех этих переговоров Антонио Алвес-Нето считал успех путча делом решенным; теперь весь вопрос заключался в том, чтобы найти удобный случай для свержения диктатора. Но в то же время сговор с интегралистами его несколько пугал. Он знал, что те не дадут обмануть себя вторично, что они добиваются власти, в области внешней политики требуют союза с фашистскими Германией и Италией и что, окажись во главе правительства Плинио Салгадо, он сохранил бы государственные установления республики так же, как Армандо Салес. Один из интегралистских главарей как-то сказал: – На этот раз мы не будем устраивать бал, на котором танцевали бы не мы, а другие… Обдумывая, как противостоять влиянию интегралистов и оказать им отпор после свержения диктатуры, Антонио Алвес-Нето вспомнил о своих разговорах с Сакилой во время избирательной кампании. Он знал, что Сакиле не удалось привлечь руководство коммунистической партии на свою сторону в то время, когда Алвес-Нето пытался убедить его в необходимости поддержки Армандо Салеса. Знал также, что разногласия Сакилы с другими ответственными партийными работниками все возрастали. Он ценил Сакилу, считал его умным человеком, способным понять то, что он, Антонио Алвес-Нето, называл «большой политикой». Журналист не отличался особой принципиальностью в некоторых вопросах (например, об аграрной реформе), как другие коммунисты, с которыми Алвес-Нето пришлось беседовать. Почему бы не предложить ему принять участие вместе с другими коммунистами в перевороте? Если бы удалось организовать путч в союзе с интегралистами и коммунистами одновременно, то есть с двумя противоположными и враждебными течениями, то армандисты, наверняка, смогли бы выгодно использовать для себя результаты общей борьбы. При мысли об этом Антонио Алвес-Нето улыбнулся. Очень удачная идея!.. Сакила протер платком очки и сел в кресло напротив массивного стола красного дерева, на котором лежал портфель адвоката. Улыбка слегка тронула его губы, когда он отвечал на вопрос владельца газеты, что с ним случилось: – Ничего. Случайный арест. Первая ночь была не из приятных – меня заперли в подвальной камере. Но на следующее утро вывели наверх, а потом и совсем отпустили… – Я говорил с полицейским инспектором. Это мой старый знакомый… между нами говоря, наш друг… Сакила, надев очки, стал набивать табаком трубку, бормоча слова благодарности. Алвес-Нето любезным жестом прервал его: – Не за что благодарить; в конце концов, я совсем не хочу, чтобы мои редакторы сидели в тюрьме. Я всегда лоялен по отношению к сотрудникам моей газеты, даже если они придерживаются других взглядов, чем я… – Он встал, обошел кругом массивный стол, сел рядом с Сакилой, словно хотел быть ближе к нему во время этого важного разговора. – Эти аресты только лишний раз показали, что вам сулит «новое государство». Несколько дней тому назад один человек, близко связанный с Катете, рассказывал мне, что Филинто Мюллер объявил о том, что теперь он мигом покончит с коммунистами. Полиция готовит организованное наступление на вашу партию. Сакила зажег трубку и погасил спичку. – Если только Жетулио успеет привести этот план в исполнение… Вы думаете, сеньор, американцы оставят Жетулио у власти, видя, как он заигрывает с немцами? Американцы обеспокоены. – Жетулио хитер. Он флиртует с немцами, но до свадьбы дело не дойдет. Он это делает для того, чтобы набить себе цену в глазах американцев, чтобы дороже продать себя. Поэтому он и запретил «Интегралистское действие»… Хитрый человечек… – Алвес-Нето помолчал, словно обдумывая что-то, потом продолжал: – Но и самые хитрые люди иногда делают глупости… Это случится и с ним. Он, в конце концов, останется один: американцы смотрят на него с недоверием. Передача земель долины реки Салгадо в концессию Коста-Вале не очень-то пришлась по вкусу Уолл-стриту, где уже создавалась компания для эксплуатации залежей нашей марганцевой руды. С другой стороны, немцы ждали, что им достанутся все сливки, а до сих пор, кроме изъявлений симпатии, они ничего не получили. Интегралисты оказались в стороне от дел, в армии и флоте много недовольных… Словом, создались все условия для свержения Жетулио, лучших и быть не может… Только вот вы все портите… – Мы? – Да, вы, коммунисты. Сейчас, когда Жетулио еще не сделал окончательного выбора между американцами и немцами, его никто не защищает. Он еще не успел укрепить свою диктатуру. Все зависит от нашей смелости и меткости: быстрый, внезапный, неожиданный удар – и диктатуре Жетулио конец… – Действительно… – Сакила смотрел в сторону, выжидая. – Но вы все портите. Эта история с «демократическим фронтом», с массовым движением – все это пустые разговоры. Есть только один способ свергнуть Жетулио: удар, нанесенный вооруженными силами – армией и флотом. Большая часть офицерства на нашей стороне. Скажу вам по секрету: самые видные генералы и адмиралы согласны принять участие… Надо начать действия на рассвете, одновременно и здесь и в Рио. Назавтра Жетулио уже не будет в правительстве, и все кончится… – Антонио Алвес-Нето открыл серебряный портсигар, Сакила торопливо зажег спичку. Антонио пустил облачко дыма и продолжал: – Опасность представляют солдаты, капралы, сержанты. Вы забиваете этим людям голову и настраиваете их против путча. Этим вы только укрепляете положение Жетулио… – Мы против Жетулио и «нового государства». Поэтому-то мы и считаем необходимым создание единого демократического фронта, в который вошли бы все оппозиционные силы… – «Демократический фронт»… Пока вы будете готовить народ к восстанию, Жетулио проглотит всю страну. Надо нанести удар неожиданно. А до тех пор – никакой агитации! Пусть Жетулио считает свое положение прочным. Никаких стачек, никаких демонстраций!.. Студенты юридического факультета что-то готовят к приезду Жетулио. Какую-то глупую демонстрацию протеста. Это работа коммунистов и кое-кого из наших неопытных людей. Я распорядился прекратить всякую агитацию. Этим мы ничего не добьемся, а только заставим Жетулио быть начеку. Сейчас нам больше чем когда-нибудь нужна осторожность, надо подождать, пока все будет хорошо организовано. Дело идет на лад, дорогой мой, – вот все, что я могу вам сказать… Все будет хорошо… – Вы думаете, сеньор… – заикнулся Сакила. – Не думаю, а уверен. Жетулио недолго будет находиться у власти. Теперь я вас спрашиваю: а вы что намерены делать? Будь ваша партия умнее, она могла бы использовать этот момент, чтобы выбраться из той ямы, в которой она оказалась после этого вашего выступления тридцать пятого года. Многие наши политики против сближения с коммунистами. Из-за вашей неприемлемой политики в вопросах аграрной реформы, национализации и буржуазно-демократической революции вы оказались изолированными. Говорить об аграрной реформе в стране, населенной неграмотными кабокло, – это политическое самоубийство. Я говорю не как плантатор; я думаю, что для стран с развитой индустрией аграрная реформа даже необходима. Но наша страна земледельческая. Надо сначала превратить ее в индустриальную, а потом уже говорить о разделе земли… Что же касается индустриализации, вложения новых капиталов в промышленность, – мы согласны… Однако, несмотря ни на что, я считаю, что мы можем сотрудничать. Я человек широких взглядов и думаю, что вы могли бы принять участие в нашем движении. Если бы мы могли рассчитывать на вас, вопрос о настроении солдат и сержантов не стоял бы так остро… Чего вы достигнете, оказывая сопротивление перевороту? – Но ведь в ваше движение втянуты и интегралисты… – Ну и что из этого следует? – возразил Алвес-Нето. – Дорогой мой, вы все столько говорите о реализме, а в нужную минуту оказываетесь какими-то мечтателями. Подумайте хорошенько: интегралисты раздроблены, их партии отрубили голову, ведь не они же придут к власти. Тем более, если к нам присоединитесь вы… Опасность представляет как раз такой переворот, в котором примут участие они, а вы останетесь в стороне… Вот тогда они смогут выставить свои требования, понимаете? Сакила молчал. Он обдумывал предложение армандиста, казавшееся со всех сторон заманчивым. Наконец он спросил: – А после победы? Какое правительство будет у власти? – Мы установим определенный срок для выборов: шесть-восемь месяцев. Выборы решат. – А политическим партиям будет обеспечена полная свобода? – Конечно. – И нашей тоже? – Это зависит… – Антонио Алвес-Нето еще ближе придвинул свой стул к Сакиле и продолжал дружеским тоном опытного человека, который дает наставления юноше, начинающему жизнь: – Это зависит от вас… Во-первых, многих отпугивает самое название «коммунистическая партия», потом эти разговоры об аграрной реформе, о национализации… Глупые разговоры, я уже сказал вам. Выработайте демократическую программу – и мы гарантируем вам полную легальность. Борьба против нацизма? Пожалуйста… Некоторые ограничения иностранного капитала? Пожалуйста… Индустриализация? Пожалуйста… Чего вы еще хотите? – Амнистии участникам выступления тридцать пятого года… – Это разберет вновь избранная палата депутатов… Наступила длительная пауза. Сакила снова прочищал трубку. – Предложение ваше не лишено интереса. Не скрою, оно кажется мне вполне жизненным. Но вы ведь знаете, сеньор, я один ничего не могу решить… Я должен обсудить это с товарищами… Все зависит от того, что они скажут. Я могу только уверить вас, что сделаю все от меня зависящее… – Очень хорошо. Поговорите, а потом приходите ко мне. Лучше домой, мне не очень хочется часто показываться в редакции. Скажите вашим коллегам, чтобы они хорошенько подумали, стоит ли продолжать терять время на эту глупую затею с «демократическим фронтом», рассчитывать на политическую работу с неграмотным народом в отсталой стране?.. Да это – просто детская игра. Это – дело мечтателей вроде Престеса… А каков результат? Его уже трижды судили, и он в тюрьме… Я предлагаю вам единственно возможный выход. И, говоря откровенно, в большей степени это вызвано моим уважением лично к вам… – Через несколько дней я у вас буду… Сакила встал, собираясь проститься. Алвес-Нето дал ему последние наставления: – Постарайтесь воздержаться от агитации на время пребывания здесь Жетулио. Предоставим ему возможность чувствовать себя уверенно. Вам не кажется, что так будет лучше? Сакила ушел, а Антонио Алвес-Нето снова сел в свое кресло, снял трубку с внутреннего телефона, стоявшего на столе, и вызвал управляющего. Ожидая его, он зажег новую сигарету и сидел так в облаках дыма, рассчитывая и взвешивая. Управляющий вошел, предварительно постучав в дверь, и молча ждал у стола. Алвес-Нето спросил его: – Вы договорились с Коста-Вале об информации по поводу долины реки Салгадо? Как насчет серии очерков? – Все в порядке, сеньор. Мы получили аванс в пятьдесят конто… – Мы должны придать нашему репортажу сенсационный характер. Из-за цензуры газета теряет читателей; надо подогреть интерес общественного мнения. Пожалуй, было бы лучше всего организовать экспедицию или что-нибудь в этом роде, нечто авантюрное, способное заинтересовать публику. Поговорите об этом с Сакилой. Не нужно только говорить ему, что наши будущие расходы уже оплачены. – Я это сделаю сегодня же… – Да, кстати, прибавьте Сакиле жалованье. Пусть с этого месяца он получает пятьсот крузейро… 13
Когда Мануэла сообщила Лукасу свои новости, лицо его расплылось в улыбке. – Мы идем в гору оба одновременно, сестричка, – сказал он. – Не нервничай: президент – не какой-нибудь зверь. И если ты будешь иметь успех, твоя карьера обеспечена… Он тут же вышел; теперь он почти не бывал дома, все его время было занято операцией с кофе и разработкой последних деталей встречи диктатора. Он вместе с Эузебио Лимой вошел в компанию с экс-сенатором Венансио Флоривалом и начал крупные закупки кофе. Они арендовали склады в Сантосе. Эузебио Лима нажал кое-какие кнопки, и деньги пенсионных касс оказались в их распоряжении – нужно было только подписывать чеки на банк Коста-Вале, куда стекались эти средства, вычитаемые ежемесячно из заработной платы рабочих. В эти напряженные, бурные дни, похожие на какие-то фантастические сновидения, Лукас Пуччини свел знакомство со многими людьми; он разговаривал даже с самим Коста-Вале, установил деловые отношения с рядом кофейных плантаторов и имел полусекретный разговор с богатым испанским коммерсантом – представителем Франко в Бразилии. Известие о том, что на приеме у комендадоры да Toppe сестра будет танцевать перед диктатором, он воспринял как еще один признак того, что судьба ему действительно улыбается, что начинается его карьера. Устроил это дело Сезар Гильерме Шопел. Дебют Мануэлы был намечен через месяц в Рио-де-Жанейро, и его предполагалось связать с широкой газетной кампанией по рекламе «Акционерного общества долины реки Салгадо». Поэт собирался придать дебюту Мануэлы сенсационный характер. Он задумал привезти ее на специальном самолете из долины реки Салгадо, как будто она была обнаружена в самой глуши селвы. Эта богиня туземных танцев – первая драгоценность, добытая для страны патриотической компанией, которой он, Шопел, дал свое имя. Комендадора воспользовалась приездом поэта в Сан-Пауло и поручила ему организацию художественной программы на приеме в честь диктатора. Шопелу пришла в голову мысль показать здесь впервые Мануэлу. Он обсудил этот вопрос с Пауло, изменил предыдущие планы, и ее выступление было включено в программу в качестве центрального номера среди исполнителей самб и артистов итальянской опереточной труппы, гастролировавшей в это время в Сан-Пауло. Преподавательница танцев уверяла, что Мануэла достигла больших успехов и что у нее бесспорное призвание к балету. Поэт признал более выгодным показать ее на приеме в честь президента: выступление «богини туземных танцев» произведет сенсацию и поможет рекламе нового акционерного общества, объяснял он комендадоре, выдвинувшей некоторые возражения. – На следующий день мы заставим прессу раструбить о ней как можно громче. Мы заявим, что нашли ее в долине и используем какую-нибудь похвальную фразу, которую о ней скажет Жетулио… Это, с одной стороны, отличная реклама для компании, а с другой – это понравится Жетулио. Для девушки же это будет чудесно!.. – Эта плутовка просто хочет женить на себе Пауло… – сказала комендадора. – Женить? Нет, комендадора, такие люди не женятся… А эта девочка своими танцами и своей невинностью поможет создать вокруг нашей компании ореол всеобщей симпатии, придаст ей популярность, которая будет нам особенно полезна, когда на нас начнут нападать коммунисты. Комендадора, вообще говоря, была того мнения, что выгоднее иметь врагов на виду, чем в тени. И если Мануэла может помешать ее планам, то лучше уж познакомиться с ней, иметь ее у себя поблизости, тогда легче будет ее обезвредить. Поэтому она согласилась с планами Шопела и заявила, что окажет покровительство частному дебюту Мануэлы. Она даже поспорила с Мариэтой, когда та выразила крайнее неудовольствие по поводу этой новости. Мариэта за последние дни полностью отдалась выполнению планов комендадоры о выдаче замуж племянницы. По настоянию Мариэты, Пауло вместе с отцом был у миллионерши на обеде. Он не скрывал, что невесты произвели на него неважное впечатление. – Младшая, – объяснял он Мариэте, – в физическом отношении просто ужасна: стеклянный глаз, одна нога короче другой… На нее смотреть тяжело… – Никто тебе не говорит о младшей… Речь идет о старшей, о Розинье. – Жеманница… Тихоня с грязно-белесыми волосами, неуклюжа, безвкусно одевается, не умеет разговаривать, не умеет смеяться… Это ужас, Мариэта, просто ужас… – Ты преувеличиваешь. Она довольно хорошенькая, а что касается элегантности, то это зависит от тебя. Если у тебя хороший вкус, а у нее – миллионы, она сможет стать самой элегантной женщиной в Бразилии… – Но для этого я должен превратиться в портниху… – Пауло, я говорю серьезно… Комендадора хочет выдать старшую племянницу замуж. Это лучшая партия в Сан-Пауло. Ты счастливец, что ее выбор пал на тебя… – Но разве можно всю жизнь переносить этот ужас?.. – Ты несправедлив, Пауло. Как ты думаешь, почему я в этом заинтересована? Я думаю о тебе, о твоем будущем. Ведь у тебя ничего нет; то, что есть у Артура, это – пустяки. Ты со своим темпераментом в любой момент можешь потерять даже службу. А если ты и сохранишь ее, какая цена нищему дипломату? Долгие годы ты будешь прозябать в качестве секретаря посольства. Но как зять комендадоры – не забывай, племянницы для нее все равно, что дочери, ведь они ее наследницы – ты быстро сделаешь карьеру, станешь послом. И будешь свободен от каких бы то ни было материальных забот… Ты закружился с этой танцовщицей… – Ничего подобного, Мариэта. Ты заботишься о моем будущем, и я тебе за это благодарен. Я знаю, что должен жениться, но, ради бога, не торопи меня!.. Я не отказываюсь, я согласен, я понимаю, что это мне нужно. Но не будем спешить, дай мне пожить свободным от этого бремени еще немного… Пауло чувствовал, что сопротивление Мануэлы слабеет. В эти дни, когда все его усилия были сосредоточены на том, чтобы справиться с последними слабыми признаками сопротивления со стороны Мануэлы, он не мог и думать о планах женитьбы. Как-то вечером, привезя Мануэлу в свой дом, Пауло повлек было ее к себе в комнату, но Мануэла с неожиданной твердостью отказалась, и разговор у них принял серьезный характер. Если он ее любит, сказала Мануэла, он должен на ней жениться. Для Пауло это было полной неожиданностью. Слово «брак» никогда не возникало в разговоре между ними, и Пауло думал, что Мануэла хорошо знает, на что он рассчитывает. Он сначала реагировал грубо, заговорил надменно и холодно: – Жениться? На тебе? К чему это? Что это еще за идиотство? Он увидел на прекрасном лице девушки одновременно удивление и страдание. Глаза Мануэлы наполнились слезами, у нее вырвались рыдания. Прерывающимся голосом она сказала: – Я должна была это знать, должна была знать… Я сейчас же ухожу. Но он не дал ей уйти. Он был трус и боялся даже чужих страданий. Он рассыпался в ласковых заверениях: – Ты не поняла. Я вовсе не хочу сказать, что вообще не женюсь на тебе. Только я не могу этого сделать сейчас, у меня нет средств, чтобы жениться. Немного позже это наверняка станет возможным. Вот только бы мне получить повышение, а с этим дело не затянется. Тогда мы поженимся, и я возьму тебя с собой в Европу… Она слушала его, грудь ее вздымалась от затихающих рыданий. Она почувствовала необходимость поверить ему, без этого она не могла бы жить. – Почему же ты тогда со мной так говорил? – Меня раздражает, что ты по-торгашески относишься к нашей любви. Не хочешь отдаться мне только потому, что мы еще не поженились… Как будто это какая-то сделка… – Нет… Нет… – Ты думаешь, что я брошу тебя после того, как ты будешь моей? Что я не люблю тебя? – Я боюсь, дорогой… – Я тебя люблю и хочу на тебе жениться. Но вот что я тебе скажу: я не женюсь на женщине, если раньше не жил с ней. Нужно убедиться, что мы вполне подходим друг к другу… – А если окажется, что не подходим?.. – Слушай: я клянусь, что женюсь на тебе, как только получу повышение… Даю честное слово! Или ты мне не веришь? – Верю. – Ну так как же? – Нет, сегодня нет… Дай мне подумать… Я сегодня нервничаю и в плохом настроении. Он оставил ее в покое. Но стал возвращаться к этому вопросу каждый день (в связи с празднествами по случаю приезда Жетулио он остался в Сан-Пауло на целую неделю). Пауло почувствовал, что она понемногу сдается, начинает соглашаться с мыслью стать его любовницей, пока он ожидает обещанного повышения, которое даст ему возможность жениться на ней. В день, когда он сообщил ей весть о предстоящем дебюте на приеме у комендадоры в честь диктатора, он почувствовал в благодарном поцелуе девушки конец всякому сопротивлению. Он пожалел, что они находятся в кондитерской и что ей надо идти на урок. Но теперь Пауло знал: добыча в его руках, и его охватило замечательное чувство, которое вынудило его сказать Шопелу, что это – самое приятное приключение в его жизни, в жизни человека, знавшего уже многих женщин. Мануэла нервничала. Близость дебюта заставляла ее волноваться. Боязнь провалиться, попасть в смешное положение перед Пауло и Лукасом сжимала ей сердце. И в то же время она знала, знала совершенно определенно, что будет принадлежать Пауло. Она не сомневалась в его обещании жениться. Она не сомневалась в его любви и не считала, что если она отдастся, то с ее стороны это будет жертвой. Но она была воспитана на мысли, что свадьба должна непременно предшествовать брачному ложу, и с трудом воспринимала эту новую для нее идею, которую Пауло то и дело внушал ей. Что скажет Лукас, если узнает? Что скажут тетя Эрнестина, бабушка и дедушка? Но она понимала, что дальнейшее сопротивление невозможно, и даже не находила в себе самой настоящего желания продолжать его. Она любила Пауло безграничной любовью бедной, скромной девушки к сказочному принцу. Если он хотел обладать ею немедленно, к чему отказывать ему в том, что он просит? К тому же дело с его повышением не должно затянуться, а когда они поженятся, у нее уже не будет причин стыдиться своего поведения перед братом и всей семьей. Она войдет тогда в мир богатых и могущественных лиц, где живет ее избранник, в мир этих изысканных людей, о которых она имела представление только по знакомству с Шопелом и с некоторыми подругами по балетной студии. Но, думая об этом мире, который после свадьбы должен был стать ее миром, она не ощущала радости. Она бы гораздо охотнее предпочла, чтобы Пауло покинул эту среду, оставил свою дипломатическую карьеру, чтобы они зажили вдвоем в каком-нибудь тихом уголке, вкушая радость любви. Даже если бы это принудило ее бросить искусство, если бы это прервало ее еще не начавшуюся карьеру. Она танцевала бы для него, и этого вполне достаточно, – она была бы счастлива. Она знала, однако, что это несбыточная мечта, что, если она выйдет за Пауло, ей придется войти в чуждый и, несомненно, враждебный мир, где на нее будут смотреть как на выскочку, втершуюся в чужую среду. Но, опираясь на руку Пауло, чувствуя на пальце золотое обручальное кольцо, она не будет бояться, сумеет противостоять всем, займет подобающее ей место в обществе. А кроме того, у нее есть ее искусство; когда она выйдет за Пауло, она будет уже кое-что представлять собой в этом другом, не менее могущественном мире – мире художников и писателей, артистов театра и кино. Не надо бояться, думала она. Не надо бояться прежде всего Пауло, быть несправедливой к нему, сомневаясь в его чувствах, в его любви, в его обещании жениться. Он дал ей честное слово жениться на ней после того, как получит повышение, – чего большего она может желать? Даже несправедливо, что она так долго мучает его; она несправедлива по отношению к нему и к себе самой, ибо Мануэла чувствовала жар в крови и желание полностью принадлежать ему, ощущать его частью самой себя. Как знать, может быть, после дебюта?.. Она смущенно улыбнулась этой мысли (ах, какая сложная вещь любовь! Смесь влечения и страха, счастья и страдания…). И Мариэта Вале, завистливая жена миллионера, в часы уединения между посещениями подруг, выставками, театрами и праздниками думала, что любовь горька, как желчь, что она вызывает острое страдание, безнадежную тоску. Для Мариэты не имели значения брак, нежные чувства, романтические слова; перед ней возникали иные проблемы. Любовь для нее не означала того, что для Мануэлы, не обладала сложностью чувств, не требовала от нее совместной жизни с любимым в качестве преданной жены, борьбы за создание благополучия для детей. Свою концепцию любви Мариэта приобрела не в кругу мелкобуржуазной семьи, где господствовали религия и предрассудки. Любовь для нее означала обладание в постели, безумную животную страсть, тайные свидания в холостых квартирах, пирушки с шампанским; это была любовь в определенных рамках, но любовь страстная и необузданная. Ничего, кроме этого, не говорило ей слово «любовь». И то, что она не могла даже заикнуться Пауло о своем желании, мучило ее и заставляло страдать. Боязнь, что он ей откажет, найдет ее старой, потрепанной, годной ему лишь в матери, что он в ужасе отстранится от нее, – только это сдерживало ее. Для нее в любви не было ни радости, ни сладких ощущений, ни тихой нежности. Если бы ей понадобилось определить, что такое любовь, она бы сказала, что это прежде всего страсть, а затем утомление и пресыщение, что это – обжигающий огонь, не оставляющий потом ничего, кроме пепла, который со временем уносит ветер. Такова любовь, которую она видела вокруг себя: любовь ее подруг и друзей, любовь Энрикеты Алвес-Нето, любовь ее бесчисленных поклонников, любовь Сузаны Виейра – полудевственницы, имевшей столько приключений; такова любовь, воспетая в христианской поэзии Шопела и описанная в романах, которые она читала; любовь, которой она научилась в своей повседневной жизни у окружавших ее людей, – острое страдание, безнадежная тоска, смертельное пресыщение на следующий день. Любовь, лишенная преданности, нежности, страха и надежды, которыми отличалась любовь Мануэлы к Пауло. И еще одна женщина томилась от любви в эти бурные дни, когда Сан-Пауло ожидал приезда диктатора. Это работница Мариана. И для нее слово «любовь» тоже имело особое значение. Оно было отличным от того значения, какое ему придавала Мариэта, какое оно имело для Мануэлы. Любовь для нее не означала ни эгоизма, ни жадного желания. Ее любовь к Жоану была полна радостной дружбы, она думала о нем, как о муже и любовнике, но прежде всего как о товарище, как о своем близком друге. Ее любовь была бесконечно более глубокой, чем любовь Мануэлы, бесконечно более сложной, чем любовь Мариэты. Она простиралась гораздо дальше постели, о которой мечтала Мариэта, дальше брака, к которому стремилась Мануэла: любовь охватывала границы всех чувств, это была жизнь во всей ее полноте; любовь эта заключала в себе горячую радость и полное доверие, она согревала ее. Ни на мгновение эта любовь не приносила ей страданий, не причиняла боли, не заставляла бояться, плакать, отчаиваться, не принижала ее, как Мариэту, не заставляла ее стыдиться, как Мануэлу. Ее любовь каждое утро придавала ей новые силы для выполнения трудной работы, а по ночам, в те немногие часы, когда она могла отдохнуть, любовь приносила ей – усталой – прекрасные, нежные сны. 14
Утренние газеты опубликовали с восторженными комментариями интервью диктатора, разосланное накануне всей прессе департаментом печати и пропаганды. Упитанное улыбающееся лицо главы правительства, то курящего огромную сигару, то обнимающегося с представителями властей штата, то беседующего с банкиром Коста-Вале, повторялось на многочисленных снимках, которые иллюстрировали его декларацию. В ней он заверял в своей решимости непоколебимо бороться с коммунизмом, «пока страна не будет полностью освобождена от этой ввезенной из-за границы экстремистской заразы». Борьба против коммунизма становилась в центре политики Нового государства, созданного в результате ноябрьского переворота. В этой борьбе диктатор рассчитывал на лояльное сотрудничество всех, и в особенности граждан Сан-Пауло, его промышленников и аграриев, которым непосредственно угрожает «доктрина Москвы». Он объявил свои планы индустриализации страны, в частности рассказал о намечающейся постройке крупного металлургического завода, и факт предоставления Коста-Вале земель долины реки Салгадо привел в качестве примера своей политики развития национальных ресурсов; весь этот район страны, сказал Варгас, должен быть завоеван для цивилизованного мира. Но нужно также, продолжал он в своей декларации, защитить сельское хозяйство, переживающее свои трудности. Вот почему правительство решило приобрести на складах Сантоса все запасы кофе, поддержав тем самым высокие цены и, в осуществление своей антикоммунистической политики в международном плане, часть этого кофе послать в Испанию в подарок войскам Франко, борющимся против красных. Коммунизм представляет серьезную опасность, нависшую над Бразилией и над всем миром, и Новое государство, по утверждению президента, родилось как необходимый оплот в борьбе против этой опасности, угрожающей цивилизации и традициям Бразилии, прочности семьи, покоящейся на христианской морали. Интересы трудящихся, по его словам, были достаточно хорошо защищены нынешним трабальистским законодательством, и с новой формой правления начинается эра социального умиротворения, согласия между классами. Варгас ничего не сказал о сельскохозяйственных рабочих, испольщиках и арендаторах, о миллионах крестьян, разбросанных по всей обширной стране. На одной из фотографий, помещенной на первой полосе газеты Антонио Алвес-Нето, диктатор был снят в окружении влиятельных лиц, встречавших его на аэродроме: наместника штата, начальника полиции, командующего военным округом, комендадоры да Toppe, Коста-Вале, плантатора Венансио Флоривала, поэта Шопела и профессора Алсебиадеса де Мораиса. Немного поодаль стояла группа телохранителей во главе с Эузебио Лимой и Лукасом Пуччини. Позади главы правительства, как бы защищая его своей атлетической фигурой, был виден Лукас. На его загорелом лице сияла улыбка. Хотя имя его и не фигурировало в подписи под клише, Лукас Пуччини приобрел пять экземпляров газеты и отправил один из них шурину, проживавшему на фазенде. 15
После полудня над городом заморосил мелкий дождик и сразу испортил тот несколько праздничный вид, который с утра придали улицам солдаты, выстроенные для парада на авениде Сан-Жоан, флаги на мачтах и любопытные, собравшиеся поглазеть на церемонию. В послеобеденное время в городе было спокойно, лишь несколько грузовиков перевозили людей на стадион, где в три часа должен был состояться столь широко разрекламированный митинг, а затем футбольный матч. Поскольку вход был бесплатным и играть должны были команды-чемпионы Рио и Сан-Пауло, на стадион отправилось довольно много народа. Однако около двух часов от толпы, шедшей на стадион, начали отделяться некоторые группы; они направились ко дворцу Елисейских полей[104], где остановился диктатор. Во дворце наблюдалось большое оживление. Залы и коридоры были полны народа. Завтрак, устроенный наместником, только что закончился, и глава правительства, отказавшись пойти отдохнуть, остался в зале в окружении друзей, чтобы послушать анекдоты. Его смех доносился до коридоров, где толпились чиновники, политические деятели, полицейские и журналисты; все они смаковали даровые сигары, раздававшиеся без ограничения. На одном из подоконников Эузебио Лима и Лукас Пуччини беседовали с инспектором охраны политического и социального порядка. – Полиция плохо работает, сеньор. – Эузебио Лима вытащил из кармана одну из листовок, разбрасывавшихся на улице во время военного парада. – Город наводнен антиправительственными листовками; коммунисты швыряли эту мерзость прямо в лицо полиции во время утренней церемонии. Где были ваши люди? – Мы взяли двоих… – Двоих… А остальных? Почему не забрали их всех до приезда президента? Разве об этом не было точных указаний? А типография? Был приказ майора Филинто Мюллера: найти типографию… И вот вам результат – в городе полно коммунистических листовок. Инспектор размахивал руками, бессильно пытаясь оправдаться, растерянно бормотал: – Эти коммунисты просто черти! Такое впечатление, что они появляются из-под земли… Мы перерыли весь город в поисках этой типографии. Я уверен, она действует где-то в провинции. Мы ее найдем, чего бы это нам ни стоило. Я уже отдал распоряжение усилить наблюдение на стадионе. Там они не смогут разбрасывать листовки. У меня там повсюду будут люди… В этот момент из толпы послышались крики. Эузебио Лима и инспектор одновременно взглянули в окно и увидели, что в конце улицы появилась процессия, впереди которой несли большой транспарант. – Это еще что такое? – спросил Эузебио. – Сейчас выясню… – Инспектор побежал, собирая по дороге всех агентов, которые попадались ему навстречу. Лукас Пуччини занял освободившееся место у окна, рядом с Эузебио Лимой. Оба они пытались разобрать, что написано на транспаранте, который был еще далеко. Крики толпы усиливались. Можно было разобрать отдельные слова, теперь у окон дворца уже толпились люди; даже в окнах залы, где находился диктатор, появились любопытные. – Может быть, манифестация в честь президента… – сказал кто-то близ Эузебио. – Это же коммунисты!.. Разве вы не слышите крики: «Свободу заключенным!»? Нет предела наглости этих бандитов… Агенты под командой инспектора охраны политического и социального порядка разместились на подступах к дворцу. Толпа в сто-полтораста человек – бедно одетые мужчины и женщины – медленно приближалась. Лозунг на транспаранте требовал освобождения рабочих, арестованных накануне приезда Варгаса. Видневшиеся среди демонстрантов другие плакаты (их, как правило, несли женщины) также выдвигали это требование освободить заключенных, которым не предъявлено никаких обвинений. В первом ряду шли женщины с детьми – жены и дети рабочих, арестованных на этой неделе; во всей этой демонстрации участвовали только семьи заключенных. Вперед вышла женщина; она, по-видимому, собиралась начать речь, когда Эузебио Лима подал знак инспектору. Тот растерянно поднял голову, не понимая, что он должен сделать. Тогда Эузебио Лима подался вперед и, высунувшись из окна, закричал инспектору: – Чего же вы ждете? Чтобы они вошли во дворец? Инспектор вытащил револьвер и отдал приказание своим людям. Началась стрельба. Женщина, вышедшая вперед, упала, люди побежали по тротуарам, стремясь укрыться за углами домов, один из участников демонстрации закричал: – Не стреляйте! Не стреляйте! Мы хотим только просить… Но полицейский агент тут же рукояткой револьвера сбил его с ног. Схватка стала всеобщей, некоторые демонстранты отломали палки от транспарантов и защищались ими. Послышались слова команды, появилась дворцовая охрана и также набросилась на демонстрантов; солдаты стали устанавливать пулемет в воротах сада. Толпа отхлынула, но потом снова начала собираться и попыталась приблизиться к дворцу. В этот момент пулемет дал первую очередь. Один из участников демонстрации упал лицом вниз. На мостовой остались пять раненых и один убитый – это был рабочий из Санто-Андре. Несколько человек, в том числе любопытные, привлеченные шумом схватки, были арестованы. На другой день газеты единодушно потребовали принятия более суровых мер против коммунистов и восхваляли хладнокровие полиции. 16
Весть о расстреле демонстрации, требовавшей освобождения заключенных, быстро распространилась по городу. Дождь усилился, превратился в ливень, и большая часть людей, направлявшихся на стадион, изменила свой путь, опасаясь новых беспорядков во время митинга. Немного погодя возник еще один конфликт, на этот раз на площади Сан-Франсиско, где студенты-юристы попытались провести символические похороны диктатора. Примчалась полиция; между агентами и учащимися началась схватка. Много студентов было арестовано; по спокойному до этого городу с тревожными гудками неслись полицейские машины. Время от времени с балконов и из окон верхних этажей на улицы разбрасывались листовки с лозунгами против «нового государства» и Варгаса. В городе воцарилась тревожная атмосфера, поползли различные слухи, ожидали еще более крупных беспорядков. Многие соскакивали с грузовиков, перевозивших народ на стадион, и даже наиболее рьяные любители футбола сочли, что благоразумнее пойти домой, тем более, что предстоящий матч из-за дождя не представлял интереса. Лишь те, у кого были какие-либо обязательства или личная заинтересованность, все еще намеревались присутствовать на митинге, который должен был по идее представлять «массовую манифестацию солидарности паулистов с Варгасом». Только крытые трибуны, предназначенные для знати, оказались заполненными. Остальная часть большого стадиона была пуста, и Эузебио Лима чертыхался по поводу провала, изливая свою злость по адресу инспектора охраны политического и социального порядка. А когда вечером, незадолго до того, как отправиться на прием к комендадоре да Toppe, он нашел на тротуарах новые листовки, в которых уже говорилось о дневных событиях и Варгас именовался «убийцей трудящихся», Эузебио сказал Лукасу Пуччини: – Надо прогнать этого инспектора. Это тип, связанный с армандистами, и он, по существу, ничего не делает, чтобы помешать деятельности коммунистов… Он утверждал, что типография находится где-то в провинции, а вот смотри – коммунисты успели уже отпечатать новые листовки с новыми оскорблениями… Вот тебе и провинция!.. Этот тип – наш враг. Я сегодня поговорю о нем, и завтра он уже не будет инспектором… Нам нужно поставить вместо него настоящего человека, способного покончить с коммунистами! Инспектор, сидя в кабинете, рвал на себе волосы: арестованные студенты в большинстве своем принадлежали к влиятельным семьям, и к нему сразу же посыпались протесты и требования об их освобождении. Он не мог держать студентов долго под арестом: родители и родственники их в той или иной форме были связаны с правительством, с банками, с крупными фазендами. Кроме студентов, у него оставалось лишь несколько арестованных рабочих, – ему почти нечего было предъявить в качестве доказательства своей лояльности правительству перед бурными событиями этого дня. Но больше всего ему действовали на нервы новые появившиеся к вечеру листовки, отпечатанные, несомненно, в этот же самый день, после демонстрации перед дворцом. Где же, чорт возьми, в этом городе запрятана типография? Эх, если бы ему удалось ее обнаружить, он бы сумел расправиться с теми, кто в ней работает! Он покинул кабинет и отправился допрашивать тех, кто был сегодня арестован. Возможно, ему удастся вырвать у кого-нибудь из них то или иное разоблачающее показание. «Даже если понадобится избить их до смерти!» – думал он, шагая по мрачному коридору полиции в сопровождении агентов. 17
Когда она, едва прикрытая одеждой из перьев лесных птиц, начала первые па танца, страх ее еще не покинул; она видела перед собой всех, даже Лукаса, почти скрытого в глубине огромной залы. Она видела главу правительства и элегантных, богато одетых женщин, чувствовала на себе тяжелый презрительный взгляд жены Коста-Вале, которой она была представлена Пауло, лукавое любопытство в живых глазах комендадоры да Toppe, тщеславную улыбку Пауло, на которого было обращено всеобщее внимание. Сезар Гильерме Шопел, представив Мануэлу, произнес несколько слов. Он сказал, что это «первое открытие, сделанное в долине реки Салгадо современными исследователями неизведанного сертана, потомками древних паулистских бандейрантов, коста-вале, вдохновителями прогресса страны; и это открытие поэзии, фольклора и красоты – лишь прелюдия к тем поразительным богатствам, которые подарит родине эта долина, отданная ныне в творческие руки цивилизованного человека. Жандира, восхитительная богиня девственных лесов, – символ невинной, чистой, счастливой Бразилии, которую она воплощает в своих танцах, – Бразилии Жетулио Варгаса, для которого она будет танцевать впервые за пределами непроходимых лесов». Мануэла не вполне понимала, что он говорит, ей хотелось убежать куда-нибудь подальше и спрятаться. Казалось, она стоит обнаженная перед всеми этими людьми; их взгляды вызывали у нее чувство стыда, смешанного с бессознательным страхом. Пауло, сидевший рядом с племянницей комендадоры да Toppe, улыбнулся ей. Но все исчезло, когда Мануэла начала танцевать. Первые ее шаги были боязливыми и неуверенными. Однако минуту спустя она уже ничего не видела, забыла о том, где находится, забыла об окружающих людях; знала только, что здесь Пауло и Лукас, и танцевала для них. Легкая, как перышко из своего одеяния, она порхала по зале под мелодичные звуки музыки и чувствовала себя так, будто снова очутилась на ослепительной карусели в тот вечер, когда в луна-парке познакомилась с Пауло, в тот вечер, когда по-новому начала свою жизнь. Она отдалась танцу, изобретая па, которые никогда не учила на уроках балета, но ее стройные, упругие ноги балерины кружили ее по паркету. Вокруг воцарилась восхищенная тишина, вызванная этой романтической мечтой, претворенной в танце, отличном от всех других, представляющем почти импровизацию, – в танце, зародившемся в ее сердце, в котором душевное одиночество и любовь были единственными глубокими чувствами. Горячая овация, гром аплодисментов вернули ее снова в мир роскошной тысячесветной залы, к жадным взглядам мужчин, пожиравших ее выставленную напоказ красоту, к зависти женщин. Она увидела, как глава правительства подходит к ней с протянутой рукой, почувствовала рядом с собой Лукаса, который подтолкнул ее навстречу диктатору. Она услышала поздравление Варгаса, почти не понимая, что он говорит: – Это поистине открытие! Потрясающе!.. Эузебио Лима воспользовался случаем, чтобы представить Лукаса президенту. И Мануэла снова почувствовала себя одинокой среди этих мужчин и женщин, которые ее поздравляли и говорили комплименты, оспаривали друг у друга право пожать ей руку и сказать любезность. Но как только подошел Пауло, она радостно улыбнулась и взяла его под руку. Он помог ей пробраться через залу и пройти в комнату, где она должна была переодеться. Ей захотелось тут же поцеловать его, здесь же отдаться ему. Он поцеловал ей руку. – Ты была восхитительна. Переоденься, я тебя подожду… Конверт с деньгами, переданный Мануэле горничной от имени комендадоры да Toppe, показался ей оскорблением. Зачем ей заплатили? Ведь она танцевала не из-за денег, а ради Пауло и Лукаса, танцевала потому, что любила танцевать, что в этом был смысл ее существования. Когда она закончила выступление, когда вокруг раздались аплодисменты и со всех сторон послышались похвалы, она подумала, что преграда, всегда существовавшая между нею и Пауло, исчезла, что барьера между двумя различными мирами больше не существует. Но этот конверт с деньгами, плата за выступление, снова принес ей ощущение страха, предчувствие несчастья. Снова Пауло оказался далеко от нее; имея возможность овладеть ей, он не мог принадлежать ей целиком. Она застыла в кресле с конвертом в руках, и Лукас, весь сияющий от радости, застал ее в этой позе. Он поцеловал сестру. – Ты оказалась сегодня сенсацией вечера… Президент обещал оказать покровительство твоему дебюту в Рио. Ты себе даже представить не можешь, как он был любезен со мной. – Но тут он заметил грусть на ее лице. – Ты печальна? Почему? Поссорилась с Пауло? Она покачала головой. Показала ему конверт с деньгами, этот оскорбивший ее гонорар. – Но ведь так и должно быть… – пояснил он. – Ты танцевала, и тебе платят. Разве ты не собираешься стать профессиональной артисткой?.. – Сегодня я не хотела получать ничего. Я танцевала здесь для тебя и для Пауло. Это не театр, а частный дом, и здесь званый вечер, а я, выходит, тут попросту вроде прислуги… Лукас погладил ее по волосам. – Выкинь это из головы, дурочка. Так принято, тут ничего не поделаешь. Никто не хотел тебя унизить. Не беспокойся, я никогда не позволю, чтобы ты стала служанкой у кого бы то ни было. Теперь, Мануэла, я начинаю подниматься в гору; пройдет немного времени – и я стану богаче всех их, тогда мы сами будем раздавать конверты с деньгами… Улыбка расплылась у него по лицу. Это было энергичное, преисполненное честолюбия лицо. Мануэла находила его красивым; дороже для нее было только лицо Пауло, и она не смела грустить, имея такого брата и такого жениха. Жениха?.. Настанет день, когда он станет ее женихом, а потом, как только он получит повышение, несомненно, – и мужем. Но в этот вечер, в ее первый вечер, когда она становится балериной и женщиной, она будет только его любовницей… Однако к чему эти грустные мысли, к чему огорчать себя, когда все идет так хорошо, когда все вокруг так радостно и даже осуществляются ее детские несбыточные мечты? Она услышала голос Лукаса, говорившего ей: – Мне нужно идти, меня ждет Эузебио. И ты не задерживайся. Пауло грызет ногти от нетерпения… Пауло действительно ждал ее у дверей комнаты. – Сбежим отсюда? – спросил он. Она кивнула головой в знак согласия. На этот раз она позволила увезти себя, не задавая вопросов, – она уже заранее знала, куда он ее везет. Но, сама не зная почему, пока автомобиль быстро несся по улицам к дому Пауло, она невольно прослезилась. Впрочем, зачем плакать, если она идет на это сознательно и если она уверена, что Пауло женится на ней, как только получит повышение? Зачем плакать, если она так счастлива? 18
Номер газеты «А нотисиа», вышедший на другой день после приезда диктатора, разошелся с молниеносной быстротой. Единственная крупная фотография в середине первой полосы иллюстрировала информационные сообщения о кратковременном пребывании Варгаса в Сан-Пауло – сообщения, составленные в таких же восторженных выражениях, как и в других газетах, контролируемых департаментом печати и пропаганды. То была фотография стадиона, снятая сверху в момент произнесения речи Жетулио, причем стадион выглядел ужасающе пустым. Текст, помещенный под снимком, приобрел тон ядовитой иронии по отношению к убийственной реальности клише: «Несмотря на дождь, бесчисленное множество народа заполнило стадион, чтобы приветствовать главу правительства…» Сакила пренебрег всеми фотографиями, присланными департаментом печати и пропаганды (снимки военного парада, диктатора в компании с наместником, диктатора, целующего ребенка, диктатора, пожимающего руку как кому-то сотруднику министерства труда, представленному в качестве профсоюзного лидера, вид на почетную трибуну стадиона, заполненную политическими деятелями), и выбрал этот снимок, сделанный одним из фоторепортеров газеты. Распоряжение цензуры запретить распространение номера запоздало: почти все экземпляры уже исчезли из киосков и передавались любопытными читателями из рук в руки. Полицейские агенты, которым было поручено конфисковать газету, сумели захватить лишь несколько сот экземпляров, и Эузебио Лима с глазами, еще налитыми кровью (он накануне выпил слишком много шампанского на приеме у комендадоры), пренебрежительно ткнул ногой небольшую стопку газет; голос его был полон возмущения, он потрясал своим толстым пальцем перед директором отделения департамента печати и пропаганды. – Это ни к чорту не годится!.. Инспектор охраны политического и социального порядка, позволяющий коммунистам делать все, что им заблагорассудится, директор отделения департамента печати и пропаганды, допускающий выход подобной газеты… Я бы хотел посмотреть, как вы будете объясняться с Лоуривалом Фонтесом[105], какие истории вы ему будете рассказывать в свое оправдание… Что же касается инспектора, то по прибытии в Рио я переговорю с майором Филинто Мюллером… Нельзя, чтобы этот слюнтяй продолжал возглавлять управление охраны политического и социального порядка такого штата, как Сан-Пауло – сердца Бразилии. Если он останется на этом посту, мы, проснувшись в один прекрасный день, увидим, что на улицах началась коммунистическая революция. И у нас не будет даже времени разобраться, в чем дело: нас тут же повесят на фонарях… Абсурд… Директор отделения департамента печати и пропаганды почувствовал угрозу в голосе Эузебио Лимы и стал оправдываться: – Как я мог предполагать? Эта газета получила те же информационные и фотоматериалы, что и остальные. Цензор не сомневался, что они опубликуют одну из наших фотографий… Он доверился, не потребовал на просмотр клише, и вот что получилось… Но я уже уволил цензора, выставил его на улицу… И вызвал главного редактора газеты. Я ему сделаю серьезное предупреждение. Если подобный факт повторится, газета будет закрыта… Позднее, за завтраком с экс-сенатором Венансио Флоривалом, в котором он принял участие вместе с Лукасом, Эузебио Лима жаловался: – Вы только подумайте, сеньор Жетулио прибыл сюда, чтобы объявить о закупке запасов кофе в целях спасения плантаторов от разорения, и что же он получает взамен? Газета, изображающая себя защитницей сельского хозяйства, допускает провокационный выпад! – Это дело рук какого-нибудь коммуниста, затесавшегося в редакцию… Они пролезли повсюду, теперь нельзя доверять даже самым близким друзьям… До тех пор, пока не будет покончено с этой публикой, сеньор Эузебио, никто не может жить спокойно… – Но здесь замешаны и заговорщики, армандисты… например Алвес-Нето. Эти люди, связанные с Армандо Салесом и англичанами, мечтают о возвращении к власти, которая до тридцатого года была в их руках. Возможно, они действуют заодно с коммунистами. Но если это так, я им не завидую… Сеньор Жетулио предпочитает жить со всеми в мире, но он силен и в драке. Если они хотят получить хорошенько по морде, за синяками дело не станет. Мы здесь наведем порядок, сенатор…. – Я уже не сенатор, сеньор Эузебио. И я доволен Варгасом. Если удается продать свой кофеек по хорошей цене, я удовлетворен. Я всегда говорю этим людям: никто лучше сеньора Жетулио не сможет управлять нашей страной… И, кстати, о кофе… Не забудьте: мы здесь встретились для того, чтобы я вам передал комиссионные, вполне заслуженные, смею вас заверить. Вы, сеньор, хорошо поработали, в этом нет сомнения. Но и мы, плантаторы, не мелочные люди. Тут вот порядочная сумма… – Он раскрыл бумажник и вынул из него чек. – Я держу деньги в банке Коста-Вале. Нужно только получить их по чеку. Эузебио Лима взглянул на чек, затем быстро спрятал его в карман. – Эти деньги предстоит разделить на многих, сеньор Флоривал. В операции принимало участие столько народу, что вы себе и представить не можете… Из всех учреждений, начиная от канцелярии президента и кончая департаментом печати и пропаганды и полицией. Когда я закончу раздачу денег, не знаю даже, останется ли что-нибудь на мою долю… – Ну, друг мой, вы не из дураков, сумеете отстоять свои интересы… Кто, в конце концов, купил кофе, чтобы перепродать его правительству? Или вы думаете, мне ничего не известно? – громко рассмеялся экс-сенатор и хлопнул Эузебио по спине. – Неплохое дельце, а? Вы имеете основание быть фанатично преданным сеньору Жетулио… Эузебио Лима, получив чек, перешел на конфиденциальный тон: – У моего друга Пуччини есть одна идея, он парень с головой и далеко пойдет. Далеко пойдет, сеньор Флоривал… Я уже представил его президенту, и теперь у нас с ним возникли кой-какие планы… Если сеньор Жетулио удержится у власти, мы сможем как следует отстоять свои интересы. По правде сказать, сеньор Флоривал, я не понимаю людей, организующих заговоры, – например этих армандистов. Бразилия велика и богата, дела идут хорошо, все люди – то есть, я хочу сказать, все достойные, порядочные люди – могут быть сыты… – Он сделал паузу, чтобы выпить глоток вина, а затем пустился в дальнейшие рассуждения: – Так вот, я еще могу понять, когда кричат коммунисты. В конце концов, нельзя сказать, чтобы для простого народа жизнь была райской. Цены растут, забастовки запрещены, трудовая юстиция, ну, в общем вы сами знаете, что это такое… То, что коммунисты кричат, это оправдано. Мы выпускаем на них полицию, как вчера перед дворцом, – это тоже оправдано, больше того, это даже помогает обделывать выгодные дела. Но то, что обеспеченные люди, люди из высших слоев, у которых все есть и которым сеньор Жетулио предоставил эту благословенную конституцийку, освободившую их от парламента, от безответственных воплей газет, от забастовок, демонстраций и митингов, то, что эти люди, которые могут жить спокойно, занимаются организацией заговоров, потому что они думают только о себе, – вот с этим я не согласен… Я просто не в состоянии это понять… Экс-сенатор выразил свое полное согласие. – Я всегда говорю: нам всем нужно объединиться против коммунистов, которые нам угрожают. Чего хотели интегралисты? Сильного, авторитарного режима – они его теперь имеют. Чего хотели армандисты? Политики покровительства кофейным плантаторам – они теперь ее имеют. Чего хотели промышленники? Что они требовали? Узды для своих ненасытных рабочих – они теперь ее имеют: конституция дает им все права. А то, что одни связаны с американцами, другие – с англичанами, третьи – с немцами, это не имеет никакого значения… Хватит места для всех, как вы справедливо сказали. Иногда я думаю, что лучше всего было бы сразу разделить Бразилию, чтобы удовлетворить всех: Сан-Пауло с частью Параны отдать англичанам, другую часть Параны и Санта-Катарину – немцам, остальное – американцам, которые должны иметь больше, потому что они – наши соседи, друзья и покровители… Тогда все были бы довольны… Но я только неотесанный осел и когда однажды заговорил об этом в сенате среди друзей, меня сразу же заставили замолчать. «О таких вещах вслух не говорят», – оборвали меня друзья. Будто преступление высказать то, что все думают… Плохо, как вы недавно заметили, думать только о себе, – вот что нам мешает! А кто от этого выигрывает? Коммунисты, только они… Почти то же самое, но другими словами сказал Коста-Вале своему другу Антонио Алвес-Нето во время завтрака в своей резиденции. Мариэта подала кофе и оставила их одних, она еще чувствовала себя усталой после праздника, ей хотелось попытаться переговорить с Пауло по телефону. С тех пор как юный дипломат исчез с приема вместе с Мануэлой, Мариэта стала грустной и раздраженной. Она догадывалась, что должно было произойти, и больше чем когда-либо чувствовала крушение своих надежд. Как только она вышла, Коста-Вале приступил к делу: – Эта фотография – донкихотство… Ты выставляешь себя реалистом, а действуешь, как Дон-Кихот… И это во времена генерала Франко!.. От этого выиграют только коммунисты и никто больше!.. – По правде говоря, – сказал, смеясь, Алвес-Нето, – я узнал об этой злополучной фотографии только сегодня утром, когда увидел газету. Это дело рук моего секретаря редакции, ловкого парня. Но шутка получилась забавная и имела большой успех… Хуже всего, что департамент печати и пропаганды угрожает закрыть газету. – Вот видишь? И что тебе вообще надо, Тонико? Почему тебе, вместо того чтобы стряпать всякие заговоры, не провести несколько месяцев, как это сделал Артурзиньо, наполовину уйдя от дел и не вмешиваясь в политику? А потом приблизиться к Жетулио… – Нет, друг мой, ни за что. Я знаю, чего я хочу, и знаю, как этого можно достигнуть. Жетулио не может делать политику вместе с нами: мы – «англичане», он – проамериканец… Но ты сейчас не американец и не англичанин… Все твои мысли заняты этой долиной реки Салгадо. И я хочу дать тебе совет: оставайся, по крайней мере, нейтральным… Чтобы завтра тебе не начали мешать… Долина реки Салгадо – очень большой и лакомый кусок, и многие, даже некоторые твои друзья с Уолл-стрита, проявляют недовольство. Коста-Вале рассмеялся. – Англичане в счет не идут, Тонико. Мне уже надоело повторять это. Вы лезете прямо в западню… Что касается моих друзей с Уолл-стрита, то у меня уже есть их предложение. Мы будем вместе вести это дело… Хочешь присоединиться? Мы могли бы продумать этот вопрос – наша компания должна иметь свою газету… – Пока что я хочу другого. – Говори… – Я не прошу, чтобы ты оказывал нам поддержку, по крайней мере, в прямой форме. Но нам нужны деньги. У нас с тобой есть контракт на рекламу твоей новой компании. Таким путем ты мог бы предоставить нам некоторые суммы без всякой огласки… – Я не верю в вашу победу, однако «осторожный до старости доживет»… Я согласен, но при одном условии: если вы победите, Флоривал будет наместником Мато-Гроссо… В этом районе мне нужен такой человек, как он. – Он же связан с Жетулио. – Ну и что же? Кто с ним не связан? – На сколько мы можем рассчитывать? – Я подумаю… Со своей стороны, я тоже сделаю тебе предложение: ведь, если вы проиграете, газету закроют, и ты лишишься всего. Передай мне часть акций, и я обеспечу нормальный выход газеты, пока ты будешь сидеть в тюрьме… И буду посылать тебе сигареты… – Ну что ж, я подумаю… Итак, если я выиграю, у тебя не будет затруднений с долиной реки Салгадо. Если я проиграю, ты обеспечишь существование газеты… Он поднял хрустальный бокал. – За наши успехи… 19
Мариана и Жоан обвенчались в те трудные дни, которые последовали за посещением диктатора. Бумаги были приготовлены в Жундиаи, куда она уехала вместе со старым Орестесом утром в день церемонии. Итальянец взял с собой корзинку, наполненную бутылками с ананасным вином, приготовленным им в загородном домике, где находилась подпольная типография. Он заменял Мариане отсутствующую семью – старый Орестес был для нее как бы близким родственником; он служил ей напоминанием об отце и обо всем, чему тот ее учил. Мать не приехала, она осталась прибрать домишко, снятый в далеком пригороде, где она теперь будет жить вместе с дочерью и зятем. Не приехала и сестра, но Мариана была даже рада, что та не присутствует на свадьбе, столь отличной от ее собственной: без подвенечного убора, без белого платья, без религиозной церемонии. Сестра подарила ей почти новое голубое платье и пару туфель – в них Мариана и венчалась. Товарищи во главе с Руйво собрали деньги и купили Мариане дешевые ручные часики, которые, кстати, были ей очень нужны. Со станции в Жундиаи ее привели в дом товарищей, где уже дожидался Жоан. Он тоже был в новом костюме: в грубошерстных брюках, приобретенных в маленькой лавчонке; они представляли контраст с немного подержанным, но сшитым из прекрасного материала пиджаком, взятым у Сисеро д'Алмейды. Жоан казался в этот день серьезнее, чем когда-либо, и если бы они не затеяли спор о международной политике, то Мариана не знала бы, как провести эти долгие часы перед завтраком. Всем было немного не по себе. Хозяева дома – пожилая пара с четырьмя шумными ребятишками – постарались приготовить хорошее угощение. Орестес откупорил бутылку со своим ананасным вином, все стали разговорчивее, и вскоре комнатушка наполнилась громким смехом. Было произнесено несколько тостов. Орестес предложил выпить за новую коммунистическую семью, которая создается в этот день; он говорил о высоком моральном облике рабочих, о их любви к детям и родителям; о борьбе, которая связывает их всех; о будущем, ради которого они трудятся. Женщины растрогались; хозяин дома тоже захотел сказать несколько слов – ведь Жоан всегда останавливался у них, когда приезжал по партийным делам в Жундиаи. Он поднял бокал за Жоана, который всегда работал, не щадя своих сил, не обращая внимания на тяжелые условия жизни, за Жоана, от которого ему ни разу не пришлось услышать жалобы, за Жоана, научившего его почти всему, что он теперь знает. – Но, – сказал хозяин дома, – я бы хотел выпить и за всех-товарищей, разбросанных по миру: в окопах, в тюрьмах, в подполье; хотел бы выпить за находящегося в заточении товарища Престеса; хотел бы выпить за товарища Сталина, вдохновляющего из далекого Кремля борьбу, которую мы ведем во всем мире. На этот раз увлажнились глаза у Марианы. Старый Орестес потребовал, чтобы произнесла тост и она. Мариана подняла бокал за испанских товарищей, преграждающих кровью и оружием дорогу фашизму, и за тех, кто съехался со всех концов света, чтобы помочь испанцам, и, в частности, за борющихся плечом к плечу с ними бразильцев. Для нее они воплощались в образе товарища Аполинарио, капитана интернациональной бригады, геройская слава которого начала уже проникать через границы. Последним говорил Жоан. Он сказал лишь несколько слов, но это были как раз те слова, которые Мариана ожидала от него услышать. Он поднял бокал за бессмертную память всех тех, кто погиб в борьбе за рабочее дело, за победу пролетариата, за социализм во всем мире, за тех, кто, как отец Марианы – старый Азеведо, стал мучеником революции. После завтрака все отправились для заключения брака к нотариусу. Еще несколько пар поджидали его. Церемония была короткой. Только здесь Мариана узнала, наконец, полное имя Жоана, когда нотариус спросил: – Желает ли Агиналдо Пенья получить в жены Мариану де Азеведо? В тот же вечер они вернулись в Сан-Пауло. На станции старый Орестес покинул их, так как было решено, что никакого празднования на новой квартире устраиваться не будет. Только мать ожидала их; она поставила большой букет цветов в комнате. Наступила ночь, светлая лунная ночь. Далекое, бездонное небо было усыпано звездами. Где-то тихо звучала гитара. Жоан обнял Мариану и подвел к окну. Они молча любовались ночным небом. Мариана склонила голову на плечо мужа. Он сказал: – Я всегда мечтал об этом: о доме, о домашнем очаге, о семье. Не знаю, как у нас получится, Мариана, может быть, временами нам будет очень трудно. Но я знаю, что отныне все станет намного легче: я постоянно буду думать о тебе… Она потянулась к нему и поцеловала. Затем ответила: – Не может быть плохо, если дело, за которое борешься, – справедливое. Все, что мне хочется, – идти с тобой в одной шеренге. Но если даже я не буду знать, где ты, каким опасностям подвергаешься, все равно, я никогда не паду духом. Ничто и никто не сможет нас разлучить, так как мы живем ради одного дела… Я хочу, чтобы ты знал это: тебе не нужно будет заботиться обо мне, когда ты окажешься далеко… только храни в сердце память обо мне… Они снова взглянули на небо, и она заметила ту же звезду, которую видела раньше, в вечер помолвки, из сада их друга архитектора… Она показала на нее: – Видишь? Это наша звезда, я только не знаю ее названия, хотя знаю другие большие звезды… Но она самая блестящая из всех, и я когда-нибудь назову ее, но по-своему… Издалека до них доносились звуки гитары; это была народная мелодия. Они поглядели друг на друга, улыбнулись и остались стоять молча, слушая музыку гитары и музыку, исходившую из их сердец, полных любви. 20
Через три-четыре дня после свадьбы Мариане пришлось снова побывать у архитектора: предстоял срочный созыв расширенного заседания секретариата. Она сообщила ему, что вышла замуж, и Маркос де Соуза, довольно рассмеявшись, сказал: «Я уже и раньше подозревал, что между вами и Жоаном что-то есть». Он решил купить ей в связи с этим подарок – что-нибудь полезное для дома – и вручить его в день собрания. Помимо Жоана, Руйво, Зе-Педро и Карлоса, присутствовали и другие партийные руководители: ответственные работники крупных ячеек, некоторые члены районного комитета, прибывшие из Сантоса, Сорокабы, Кампинаса, а также Сакила и Сисеро д'Алмейда. На заседании был подведен итог кампании протеста, проведенной в связи с приездом Жетулио; она получила положительную оценку. Эта кампания не только сорвала массовую манифестацию на стадионе, но и подтвердила, что пролетариат Сан-Пауло представляет собой политическую силу, которая полна решимости сорвать фашизацию страны. Некоторые буржуазные политики-оппозиционеры поняли теперь необходимость создания широкого демократического фронта. И мелкобуржуазные массы в городах почувствовали, что коммунистическая партия является единственной организованной силой, способной бороться против «нового государства». Нужно было, однако, суметь воспользоваться плодами этой кампании. Об этом и говорил в своем докладе Руйво: расстрел мирной демонстрации родственников арестованных рабочих произвел тяжелое впечатление на трудящихся. У многих из тех, кто еще строил иллюзии в отношении Жетулио, кто не соглашался на организацию забастовок, теперь открылись глаза. В этом немалую роль сыграло, с одной стороны, равнодушие, которое проявил диктатор при расстреле полицией демонстрации рабочих; с другой стороны, то, что он не принял никаких мер для защиты интересов пролетариата (агенты министерства труда обещали, что в речи на стадионе президент обнародует свою программу по рабочему вопросу, а на самом деле его выступление состояло лишь из общих фраз об установлении эры социального мира и взаимопонимания между трудящимися и предпринимателями). Все это, вместе взятое, создает благоприятные условия для развертывания массовой политической работы. Напряжение достигло сейчас кульминационного пункта в связи с тем, что правительство, проводящее политику сохранения высоких цен на кофе, преподнесло Франко в подарок кофе, приобретенный у плантаторов, в то время как народ не в состоянии его покупать – настолько выросли цены. Настал момент перейти к более решительным действиям: всё говорит о возможности организации широкого забастовочного движения в штате. Оно может начаться среди докеров Сантоса; они известны своими традициями революционной борьбы и наверняка попытаются воспрепятствовать отправке кофе для Франко. Руйво предложил отправить в Сантос товарища Жоана, поручив ему подготовить почву для забастовки. Он предложил также, чтобы члены секретариата и другие члены районного комитета направились в низовые организации, обсудили там положение и выяснили возможность создания широкого движения солидарности с трудящимися Сантоса, когда там начнется забастовка. Руйво говорил также о необходимости усиления работы среди крестьянства, которая еще не приобрела необходимого размаха. А без обеспечения союза с крестьянством, продолжал Руйво, пролетариат Бразилии не в состоянии будет перейти к решительным революционным действиям. Национальный комитет партии, по словам Руйво, весьма озабочен созданием «Акционерного общества долины реки Салгадо» – новым свидетельством вторжения американского империализма в экономику Бразилии. Партия намерена разоблачить подлинные цели этой компании и начать борьбу против нее. И так как первыми, кто пострадает от нового предприятия, будут обосновавшиеся в этом районе крестьяне, то необходимо срочно начать работу в долине реки Салгадо. С этой целью следовало бы командировать одного из членов районного комитета в Мато-Гроссо. После обсуждения доклада Руйво Карлос выступил по вопросу о разногласиях среди членов партийного руководства штата. Изложив события со времени избирательной кампании, он подверг суровой критике деятельность Сакилы и его группировки. Остановившись на случае с передачей типографии, рассказал о поведении Камалеана. Он действовал, заявил Карлос, как враг партии, отказавшись передать типографию, отказавшись набирать материалы, бесследно исчезнув, так что до сих пор о нем никто ничего не знает; этим он поставил себя вне рядов партии. Карлос возложил на Сакилу ответственность за поведение типографа и обвинил его в том, что тот пытался протащить в партию чуждую идеологию. Разве не товарищ Сакила, говорил он, хотел добиться того, чтобы в программе буржуазно-демократической революции индустриализация предшествовала аграрной реформе, что в условиях нашей сельскохозяйственной страны ошибочно? Не он ли фактически хотел оставить руководство буржуазно-демократической революцией в руках буржуазных партий и политиков, отрицая перспективы широкого движения масс; борясь с линией демократического фронта, направленной против фашизации страны, пытаясь втянуть партию в заговорщические авантюры армандистов, ставших теперь к тому же союзниками интегралистов? Не он ли выступает сейчас за политику соглашения с американским и английским капиталом, чтобы противостоять таким образом угрозе германского экономического вторжения? Не является ли все это игрой на руку империализму, отечественной буржуазии и латифундистам? Программа буржуазно-демократической революции без аграрной реформы и без борьбы против американского капитала – это предательство интересов народа. Сакила допустил в своей деятельности преступные ошибки, действовал как троцкист… Сакила пообещал своим друзьям – тем членам партии, которые еще следовали за ним, – воспользоваться этим заседанием, чтобы разгромить нынешнее руководство, показать бездарность и ошибочность его политики. Но он не предполагал, что доклад Карлоса будет таким обстоятельным и таким резким. Он видел, что по мере того как Карлос говорил, атмосфера вокруг него, Сакилы, все более сгущалась Он почувствовал это по глазам своего друга Сисеро д'Алмейды. Сисеро, искренность которого никто не ставил под сомнение, казалось, теперь разглядел подлинное лицо Сакилы, и именно это заставило Сакилу изобразить раскаяние и самокритически выступить. Он был похож на древнего монаха, занимающегося самобичеванием: да, он действительно, мол, совершил много ошибок – теперь он это видит, – и каждая его ошибка вызывала последующую, еще большую. Он изворачивался, играл на своем мелкобуржуазном происхождении, называл себя недостойным и несчастным человеком. Но за действия Камалеана ответственности на себя не принял. Он не только не взял его под защиту, а, наоборот, резко напал на типографа и первым потребовал исключения его из партии. Потом Сакила обратился с просьбой простить его ошибки и, заявив, что всегда действовал из благих побуждений, обещал исправиться. Он с драматическим пафосом говорил о партии, о революционной борьбе. Просил, чтобы ему поверили, дали возможность исправиться и стать достойным звания члена Коммунистической партии Бразилии. На заседании был принят ряд решений. Было постановлено начать работу по организации забастовочного движения и развернуть его в короткий срок; решено было послать Жоана в Сантос, а Карлоса – в Мато-Гроссо, чтобы он на месте изучил положение в долине реки Салгадо. Камалеана исключили из партии, а Сакилу вывели из состава руководства и предложили ему вернуться на время в низовую организацию, пока он не докажет свою дисциплинированность и лояльное отношение к партии. Было решено об исключении Камалеана объявить в «Классе операриа». Когда почти все разошлись и остались лишь члены секретариата, Руйво сказал Карлосу: – Ты должен выехать завтра же… Дней через двадцать или через месяц может начаться волна забастовок, и ты нам понадобишься здесь. – Я думал, что Национальный комитет посылает меня, чтобы я на некоторое время остался там. – Нет. Там уже кое-кто есть или, по крайней мере, должен быть. Ты отправляешься туда для того, чтобы установить контакт с этим товарищем, разобраться в положении, выяснить, в чем он нуждается, и организовать сопротивление мероприятиям акционерного общества. Товарища, который там находится, зовут Гонсало; ты должен разыскать его от имени Витора… – Это тот Гонсало из Баии, который руководил восстанием индейцев? – Он самый… – Тогда дела должны идти неплохо… Затем они поговорили о Сакиле. Карлос не был удовлетворен резолюцией, он стоял за прямое и безоговорочное исключение журналиста, ему даже показалось, что руководство дало себя растрогать этим самобичеванием, которое Сакила называл «самокритикой». – Никогда и нигде это не было самокритикой… Обрати внимание, он ни разу не сказал, что согласен с линией партии. Он говорил о своих ошибках, прикидывался несчастным, недостойным… Но ведь он ни на йоту не отступил от своих позиций… – На всех произвело хорошее впечатление, что именно он сам предложил исключить Камалеана. Сыграло роль и то, что против него нет никаких конкретных улик, если не считать его ложных идеологических концепций. Поэтому его признали ошибавшимся, а не врагом. Мы могли настоять на его исключении, но это не помогло бы воспитанию кадров, а только создало бы впечатление, что против нас борется целая группировка. А Сакила сам себя разоблачит… И, кроме того, теперь, на низовой работе, у него будет гораздо меньше возможностей вредить партии… Карлос не переставал также думать о Камалеане. – Этот тип не выходит у меня из головы. Надо было послушать, как он нагло разговаривал со мной, когда я хотел принять у него типографию. Похоже было, что это полицейский… Надо непременно узнать, где он сейчас прячется и что он вообще, чорт его подери, делает. Зе-Педро согласился: – Меня он тоже тревожит. Ведь он знает местонахождение типографии, а это уже опасно. Как ни трудно, надо подыскать другое помещение. Нельзя оставаться в зависимости от такого опасного человека… – Арендовать дом нелегко. – А наш друг Маркос не знает подходящего? – Мариана у него уже спрашивала. Он незнаком с пригородами, знает только дома в центре, они для нас не подходят… Руйво повернулся к Жоану. – Ну, кончился твой медовый месяц. Ты уезжаешь в Сантос, а молодая остается… Кто тебе велел жениться? – И он засмеялся. Жоан улыбнулся. – Поэтому-то я и женился на коммунистке… Ну, ладно, до свидания… – И он простился, решив отправиться в Сантос на другой же день. Они вышли один за другим через определенные промежутки времени. Когда остались только Руйво и Зе-Педро, появился архитектор с пакетом в руках. – Это свадебный подарок. Для Жоана. Но он уже, кажется, ушел?.. А я-то пообещал Мариане… – Я ей передам, – вызвался Руйво. Маркос де Соуза начал обсуждать с ними приезд Жетулио. В Сан-Пауло все еще об этом только и говорили. Студенты были, наконец, освобождены, но арестованные во время демонстрации рабочие еще томились в застенках центральной полиции, их жестоко избивали. Даже четырех раненых продолжали содержать в условиях строгой изоляции. Архитектор узнал, что инспектор охраны политического и социального порядка в Сан-Пауло будет в ближайшие дни снят со своего поста. На его место, как ему сказали, назначается прежний начальник полицейской агентуры, специализировавшийся на репрессиях против коммунистов, – «знаменитый шеф Баррос». Это садист и палач, его специальность – пытать арестованных, он служит в полиции уже двадцать лет… – Баррос… – повторил Руйво. – Я его очень хорошо знаю, это зверь; многие наши товарищи искалечены им. Отец Марианы, например, после того как побывал в руках Барроса, вышел из тюрьмы только для того, чтобы умереть… – В затруднительном положении, – продолжал рассказывать Маркос де Соуза, – оказался, по-видимому, и директор отделения департамента печати и пропаганды. Поговаривают, что он также будет смещен. Вообще у Жетулио, видимо, осталось исключительно плохое впечатление от властей штата, о степени их лояльности. Здесь много армандистов, проникших на ответственные посты, и они, наверняка, готовят переворот. Вы не находите, что такой переворот может удастся? – Нет, не находим… – засмеялся Карлос. – У них нехватит сил свергнуть Жетулио… Они только усилят его позиции. – Если так, то жаль… – посетовал архитектор. – В конце концов, лучше Армандо Салес, чем Жетулио… Руйво собрался уходить, он положил Маркосу на плечо свою худую руку туберкулезного больного. – Все это одно, старина… Жетулио или Армандо Салес – все это одного поля ягоды… Или вы думаете, что Армандо Салес, совершив переворот, покончит с ноябрьской конституцией? Нет, он оставит ее в неприкосновенности и будет строить «новое государство» для себя… Переворот может привести только к появлению нового диктатора, а покончить с диктатурой он не в состоянии. Это может произойти только в результате массового движения, развернувшегося по всей стране, понимаете? Для нас нет существенной разницы между всеми этими людьми; они представляют, по существу, одно и то же. При тех и других Баррос всегда будет находиться в полиции, всегда будет расправляться с рабочими… Правительства меняются, Баррос остается… Он как символ. И только народ может вымести барросов и всю остальную сволочь… Он засмеялся. С восхищением рассмеялся и архитектор. – В вас, коммунистах, мне особенно нравится вера в народ. Я преклоняюсь перед ней… Может быть, вы возлагаете на народ слишком большие надежды, но как это, чорт возьми, хорошо! – Правильно, друг! Наша сила в народе, – сказал в заключение Карлос. 21
Камалеан укрылся в доме своей любовницы, поблизости от прежнего помещения типографии. Он уже давно признался мулатке-прачке, покинутой мужем, что он коммунист и что ему угрожает опасность. Мулатка имела весьма туманное представление обо всем этом, а отрывки из листовок, которые ей декламировал типограф, только приводили ее в смятение. Камалеан представлялся ей очень образованным человеком, и, обнажая в улыбке свои испорченные зубы, она говорила: – Ты похож на священника, произносящего проповедь. Как это только у человека может уместиться в голове столько всякой премудрости? Ты просто профессор. Камалеан был преисполнен гордости. Единственными его веселыми часами были те, что он проводил с мулаткой: она им восхищалась, умела ценить его. Даже когда типография была переведена за город, он приходил по ночам навещать свою возлюбленную, совершая для этого длинные и рискованные поездки. Она тратила на Камалеана весь свой скромный заработок от стирки белья для живущих на соседних улицах семей – торговых служащих, полицейского агента с женой, лейтенанта военной полиции и телеграфиста на пенсии. Сама она жила на заброшенной уличке, где ютилось шесть-семь глинобитных лачуг. То были жилища прачек, кухарок, негритянского колдуна, у которого по субботам и воскресеньям танцевали макумбу[106], и безработного. По вечерам, когда приходил Камалеан, они ужинали и распивали кашасу. Подвыпив, Камалеан становился болтливым, рассказывал о партийных делах, жаловался на обиды. Из всего этого прачка вывела заключение, что типограф – важная персона, и гордилась своей близостью к нему; она была до такой степени тщеславна, что не смогла молчать и понемногу стала проговариваться любопытным соседкам о некоторых рассказанных им историях. Как-то вечером Камалеан пришел к ней в плохом настроении и рассказал путаную историю: его преследует полиция, он должен спрятаться, она не должна никому говорить, что он здесь. Камалеан решил, что самое лучшее для него после стычки с Карлосом – засесть в доме любовницы до тех пор, пока Сакила не будет освобожден и не решит его дальнейшую судьбу. Он оставил записку в редакции газеты, объясняющую, где Сакила сможет его найти, и обосновался в доме любовницы: большую часть дня, пока она стирала и сушила белье у ближайшего ручья, он спал; вечером, когда она возвращалась, напивался. Вскоре среди соседок начались пересуды, так как Камалеан стал понемногу выходить, завязывать знакомства, а раз даже сопровождал мулатку на макумбу в доме колдуна. Он представлялся как безработный типограф, но соседи уже начали перешептываться, что это преступник, разыскиваемый полицией. Некоторые поговаривали о краже, другие утверждали, что он – опасный убийца. Камалеан с каждым днем чувствовал себя все более отдаляющимся от прежней жизни. У него было теперь все, что он желал: еда, выпивка и женщина; он мог по вечерам выходить из своего убежища, никто не заставлял его работать. Когда к нему пришел Сакила, он не выказал особого интереса к предложению поступить на работу в типографию «А нотисиа». Он оказался разборчивым, не хотел наниматься на первое попавшееся место, заявив, что чувствует себя хорошо и ни в чем не ощущает недостатка. Он в нескольких фразах намекнул на то, что Сакила имеет по отношению к нему обязательства. – Ты отлично можешь устроить меня заместителем заведующего типографией. Ты секретарь редакции, распоряжаешься всем. В конце концов, ты мне многим обязан, и если бы я захотел… – Он не закончил фразы, и Сакила, струсив, обещал что-нибудь придумать. Он ничего не сказал партийному руководству о разговоре с Камалеаном и некоторое время не виделся с типографом. Лишь после заседания районного комитета он встретился с Камалеаном и принес ему экземпляр последнего номера «Классе операриа», где сообщалось об исключении его из партии. Сакила выполнил свое обещание и устроил Камалеана на работу в крупной типографии одного книгоиздательства. Он нашел Камалеана пьяным, и какой бы то ни было серьезный разговор между ними оказался невозможным. Когда типограф узнал о своем исключении из партии, сначала он заплакал, как ребенок. Возможно, у него сказались забытые, уже почти исчезнувшие чувства. Сакила попытался убедить его в необходимости добиться реабилитации. – Возвращайся на профсоюзную работу и там заслужи доверие партии. Нынешнее руководство делает глупость за глупостью; не вечно же оно будет в партии, скоро наступит наш час. Я сам был на волосок от исключения… Они вывели меня из комитета, направили на низовую работу… Во всем ты виноват, потому что я тебя защищал. Но положение изменится, я тебе гарантирую, ты вернешься в партию; обещаю тебе это. Ты сможешь даже выдвинуться. Опыт, полученный на работе в типографии, поможет тебе стать хорошим руководителем по вопросам агитации. После слез Камалеан перешел к возмущению, смешанному с яростью. Он ничего не хотел знать: на утешения и обещания Сакилы он отвечал горькими жалобами и резкой бранью. Так вот, значит, как его благодарят за то страшное время, которое он провел взаперти в типографии, не имея возможности выходить на улицу, получая с запозданием свою ничтожную заработную плату, жертвуя ради дела всем, вплоть до здоровья! Он начал всячески поносить партию, товарищей, даже Сакилу. Последний чувствовал одновременно и раздражение и страх. Он понял, что его ученик от него ускользает, а освободившись от влияния Сакилы, Камалеан мог решиться на что угодно; это испугало журналиста. Если он действительно хотел осуществить свои планы, ему нужно было, в особенности в этот сложный для него период, снова завоевать доверие партии. Между тем этот пьяный дурак способен все провалить. Сакила решил перейти в наступление. – По правде говоря, ты сделал глупость… – Глупость… Почему же? Даже и ты меня обвиняешь, видишь? Разве не ты запретил мне передавать типографию? – Одно дело – не передавать, а другое – уйти, бросить все, исчезнуть, как ты это сделал. У них возникли подозрения… – Я больше не хочу ни о чем знать… Я работал, как проклятый, жертвовал собой, а в результате получил коленкой под зад… Для меня все кончено… Сакила согласился: – Это верно, нечего об этом больше и говорить. Важно, чтобы ты начал теперь зарабатывать на жизнь. У меня есть для тебя место в типографии «Графика комерсиал». Дней через десять – с первого числа – можешь приступать к работе. Это место лучше, чем в газете… – Ладно… Спасибо… – Несколько протрезвившись, Камалеан снова стал держаться смиренно. – Я тебе друг, Сакила, и если когда-нибудь понадоблюсь… – Я тоже к тебе хорошо отношусь. Эта банда поступила несправедливо, исключив тебя, но не тревожься – правда на нашей стороне. Он дал Камалеану немного денег, велел прийти в конце месяца, чтобы направить его в типографию, и распрощался. Камалеан принялся снова пить, и когда мулатка вернулась домой, он валялся на полу около стола и бормотал угрозы. Пересуды на улице не прекращались, а полиция как раз в эти дни разыскивала преступника, обокравшего часовой магазин. Одна из прачек, поссорившись с мулаткой, намекнула ей, что ограбление, возможно, совершено Камалеаном, – никто, дескать, не знает, откуда он взялся. – Этот человек, которого ты прячешь у себя… Не он ли ограбил ювелирный магазин?.. Мулатка возмутилась: – Он не вор!.. Он честный человек и знает столько, сколько ни один доктор не знает… Он коммунист, поэтому и скрывается… Так новость покатилась из дома в дом, пока не дошла до полицейского агента. Тот заинтересовался этим делом и однажды ночью нагрянул вместе с помощником и забрал Камалеана, оказавшегося более пьяным, чем когда-либо, в полицию. На вопросы, заданные ему в момент ареста, Камалеан отвечал бессвязными фразами, но мулатка, напуганная угрозами агентов, выложила все, что ей было известно. Она рассказала, как начался ее флирт с типографом, когда тот жил в одиночестве, неподалеку отсюда, в уединенном доме, который ныне забит, хотя раньше в нем изредка появлялись какие-то люди. Она рассказала, что впоследствии он переехал из этого дома, но продолжал посещать ее, а однажды пришел и попросил спрятать его. Да, он коммунист, по крайней мере, Камалеан так говорил, а он умел рассказывать красивые истории, употребляя разные мудреные слова, которых прачка не понимала. Баррос, прежний шеф агентов охраны политического и социального порядка, тот самый, который много лет назад арестовал отца Марианы, считался лучшим специалистом сан-пауловской полиции по подавлению коммунизма. В вечер ареста Камалеана он обедал с Эузебио Лимой, и они обсуждали деятельность инспектора полиции. Баррос тоже считал его слабым и неопытным; этот мягкотелый адвокатишка безусловно не подходит для поста, имеющего исключительное значение в деле поддержания порядка. Но ему покровительствует наместник, и до сих пор, несмотря на нажим из Рио-де-Жанейро, его не удавалось уволить. В словах Эузебио Лимы – человека, связанного непосредственно с главою правительства, – Баррос с удовлетворением почувствовал намек на возможность занять место инспектора, о котором так давно мечтал. Когда вечером он вернулся в полицию, ему сообщили о новом арестованном. При первом допросе от типографа ничего не удалось добиться. Он был совершенно пьян, и из его бессвязных и бессмысленных слов ничего нельзя было понять. Все же этого оказалось достаточным, чтобы Баррос убедился, что это человек, связанный с коммунистами. Он велел поместить арестованного под холодный душ, пока не протрезвится, а на рассвете допросил его снова. Камалеан выглядел совершенно опустошенным, это была тряпка, а не человек. Баррос сказал ему своим хриплым, угрожающим голосом: – Или ты у меня начнешь говорить добром – и тогда с тобой ничего не случится, или ты увидишь, как мы расправляемся с упрямцами!.. – Я ничего не знаю… Клянусь, ничего не знаю… – Он протянул руки, весь дрожа; пиджак его был еще грязен после рвоты, мокрые волосы растрепаны. – Ах, так? Тогда перейдем в другое помещение – в зал для «спиритических сеансов»… – Баррос дал знак агентам, и те поволокли Камалеана, который отчаянно сопротивлялся. Баррос курил сигару, подаренную ему Эузебио Лимой в конце обеда, и наслаждался ее душистым ароматом. Он прислонился к двери, которую запер за собой. На устах его играла легкая улыбка. Камалеан испуганно обвел глазами орудия пыток, разложенные в зале. Баррос процедил: – Ну что ж, старина, приступим… Агенты грубо схватили типографа и начали привязывать к скамье. При первых же ударах он закричал: – Ради бога!.. Я все расскажу… Его снова отвели в кабинет Барроса. Они остались наедине, и он рассказал свою историю. Он не упомянул лишь о Сакиле, но выложил все, что знал, начиная с вступления в партию вплоть до своего исключения. Он выдал адрес типографии, описал Карлоса (имени его он не знал) и других товарищей, которые приносили и забирали материалы. Баррос показал ему фотографию Руйво, снятую в полиции, и спросил, не знает ли он его. Камалеан видел его один раз, но не знал, где он сейчас находится. Он точно так же не имел понятия, кто скрывается под именем товарища Жоана, не опознал по фотографии Зе-Педро – его он вообще никогда не видел. Теперь Баррос стал внимательным и любезным. Получив адрес типографии, он распорядился о подготовке облавы. Он усмехнулся про себя – теперь он знал, как добиться увольнения инспектора и занять его место. Он велел агентам ничего не говорить инспектору об аресте Камалеана и предстоящей облаве. Пока подготавливали автомобили, он продолжал разговор с Камалеаном. Угостил его сигарой, и еще не пришедший в себя типограф попросил у него защиты: он боялся мести товарищей – они могли напасть на улице. Баррос изучал Камалеана: это был подходящий для него субъект. Он предложил ему работать для полиции. Его освободят, дадут ему хорошее жалование, он должен будет постараться снова сблизиться с коммунистами и давать о них информацию… И тогда перед ним откроются блестящие перспективы. Камалеан кивнул головой в знак согласия. – Теперь ты поедешь с нами и покажешь дом, где находится типография. Подтвердишь свои слова делом. – А потом? Не сажайте меня в тюрьму вместе с ними, ради бога, не сажайте!.. – И он снова захныкал, охваченный паническим страхом. Камалеан был ничтожеством, подлым и грязным типом, и даже в этой мерзкой полицейской обстановке его человеческий облик оказался настолько презренным, что сам Баррос сумел это почувствовать. «Этот сможет быть нам очень полезным», – подумал он. – Не будь трусом! Не бойся… Мы позаботимся о твоей безопасности… Если только ты не солгал. В противном случае… Но Баррос знал, что Камалеан сказал правду. После рассказа типографа он прочел в последнем номере «Классе операриа» об исключении Камалеана из партии. Кроме того, у него был большой опыт по допросу арестованных коммунистов, он хорошо их знал и умел сразу различить трусов и слабовольных, найти тех, кто способен на предательство. Такие, к сожалению, думал он, встречались очень редко; большинство умело держать язык за зубами. Это были люди, психологию которых он никогда не мог понять, – люди, которые, не проронив ни слова, переносили самые страшные пытки. Поэтому он всегда радовался, если кто-нибудь из них – пусть даже уже исключенный из партии – начинал говорить. Это представлялось ему моральной победой, более ценной, чем облава с многими арестами, чем сенсационное раскрытие какой-нибудь подпольной организации. А сейчас эта радость умножалась, так как перед ним возникала возможность захватить подпольную типографию и арестовать ее руководителей без участия инспектора, для которого это должно было означать снятие с поста, тогда как ему, Барросу, это дело должно было принести желанный титул инспектора охраны политического и социального порядка. Когда он станет инспектором, коммунисты получат хороший урок… Он сказал одному из агентов, показывая на все еще хныкающего Камалеана: – Посади его в мою машину, он поедет с нами… Полицейский грубо подтолкнул типографа к двери. Баррос вмешался: – Не бей его. Он теперь наш. Будет с нами работать – оказался благоразумным… 22
Глубокой ночью из управления полиции выехало пять машин. Баррос распорядился, чтобы агенты хорошо вооружились: нельзя было предвидеть, какое они встретят сопротивление. Пока автомобили мчались по спящему городу, он продолжал расспрашивать Камалеана, сидевшего рядом с ним. Баррос опасался, что после того, как предатель покинул типографию, коммунисты перевели ее в другое место. Но он сомневался, что они успели это сделать; у них, пожалуй, могло нехватить времени. Во всяком случае, печатные станки там должны были остаться: нельзя же разобрать и собрать типографию за несколько дней, да и к тому же она была им нужна для печатания листовок, распространявшихся во время приезда Жетулио… И сейчас они наверняка печатают там новые листовки. Баррос прикидывал уже, какую выгоду он сможет извлечь из этой типографии, используя ее для печатания полицейских фальшивок. Такие материалы можно будет распространять среди рабочих, сея замешательство и выдавая за партийные документы то, что сочинено полицией, в чем она больше всего заинтересована. Он улыбнулся этой идее – однажды он уже с отличными результатами проделал это в Рио-де-Жанейро. Захват и использование подпольной типографии будет его первой работой как инспектора. Он докажет таким образом, что умеет не только избивать и уничтожать коммунистов, но и способен применять против них иные, более тонкие методы, переплетая то и другое: грубость и ловкость. Баррос покажет, что он человек, способный бороться против компартии в Сан-Пауло. Он обратился к Камалеану, который все еще дрожал от страха: – Если мы захватим эту типографию, я тебе дам хорошее место в полиции. Слово Барроса… Когда они оставили позади последние дома и выехали на широкое шоссе, Камалеан стал показывать дорогу. Оказавшись в открытом поле, они вышли из машин неподалеку от небольшого домика. В этот предрассветный час воздух был мягок, над землей поднимался запах трав, покрытых росой; все вокруг казалось спящим. Баррос начал расставлять своих людей. Они оцепили дом, заняли позиции под деревьями, окружавшими его. Баррос распорядился: – Старайтесь не причинить ущерба машинам… Я хочу воспользоваться ими… Два агента с револьверами в руках подошли к двери. Один из них резко и сильно постучал. Не получив ответа, он принялся колотить в дверь рукояткой револьвера. Этот стук нарушил тишину мягкой южной ночи. Подошел Баррос. – Как можно меньше шума… Не привлекайте внимания соседей. Тогда мы сумеем устроить здесь засаду и изловить всех, кому поручена связь с типографией. Надо, чтобы никто из соседей ничего об этом не знал. Будем действовать осторожно… – И он сам легонько постучал в дверь. – Как только откроют здесь, постарайтесь войти и через черный ход. И забирайте все материалы, какие только найдете… Теперь мы будем наводнять город коммунистическими листовками… только отпечатанными в полиции… Как только раздался стук в дверь, старый Орестес вскочил и начал будить Жофре: – Стучат! Вставай!.. Они прислушались. Юноша встал на колени и высунул голову в коридор. – Стучат рукояткой револьвера… – Это полиция… – сказал старик. Жофре утвердительно кивнул головой, вскочил, схватил револьвер; его юношеское лицо внезапно стало суровым и решительным. Теперь в дверь стучали тише, но Жофре своим тонким слухом кабокло различил шум шагов. – Они окружили дом. Орестес тоже взял в руки оружие. От возбуждения он рассмеялся. Жофре быстро оценил положение. – Важно, чтобы к ним не попали ни отпечатанные листовки, ни машины. Они могут использовать их, чтобы печатать подложные материалы. Мы им в руки не дадимся, будем стрелять. Поднимем как можно больше шума, чтобы соседи узнали о том, что здесь происходит. Тогда полиция не сумеет устроить засаду и переловить товарищей… – Сюда обычно приходит Мариана… – вслух подумал Орестес. – Иногда приходит сам Карлос… Поэтому, если мы даже погибнем, важно, чтобы об этом узнали. Задержи их, пока я попытаюсь взорвать машины и сжечь прокламации… – Нет… – сказал старик. – Предоставь это мне, я знаю, как сделать так, что и следов не останется… Ты беги, а я покончу с машинами и с самим домом… Жофре посмотрел на него и рассмеялся: он понял теперь пользу тех примитивных бомб, которые мастерил итальянец и над которыми Жофре всегда подшучивал. Он протянул Орестесу руку, и старик сказал: – Если спасешься, передай Мариане, что старый Орестес не сплоховал… Они вышли оба, итальянец – в помещение, где находились машины, Жофре – в большую комнату. Из-за двери послышался приказ: – Открывайте – или мы взломаем!.. Жофре, направляя револьвер на дверь, крикнул: – Первого, кто войдет, уложу на месте! Он услышал, как плечом высаживают дверь, и занял позицию позади стола. Из комнаты, где находился Орестес, начал выбиваться дым: старик сжигал материалы. Дверь понемногу поддавалась. Жофре услышал возню и у черного хода. Внезапно от сильного натиска дверь открылась, и в ней появилась фигура полицейского агента, на вид еще молодого. Жофре выстрелил, человек закричал, схватившись за раненую руку, и выронил револьвер. В дверях больше никто не показывался. Кто-то снаружи воскликнул: – Осторожно, они вооружены… Послышался голос Барроса: – Сдавайтесь, и я гарантирую хорошее отношение к вам!.. Если окажете сопротивление, – всех перебьем!.. Бросайте оружие и сдавайтесь! – Ну-ка, подойди, возьми меня!.. – ответил Жофре. – Он там один… – послышался чей-то голос в темноте перед домом. И почти в то же мгновение Жофре услышал, как взломали дверь с черного хода. «Оставаться здесь нет смысла», – подумал он, ползком перебрался в коридор и спрятался там за шкафом. Полицейские, осторожно войдя через черный ход, искали, где зажигается свет. Жофре снова выстрелил в направлении, откуда слышались шаги. Полицейские перебегали вдоль стен. – Он в коридоре… – сказал один из них. – Не зажигайте свет, тогда он не сможет целиться в нас… – посоветовал другой. Глаза Жофре привыкли к темноте, и он уже различал силуэты людей. Он прицелился и снова выстрелил. – Я ранен, – простонал один из полицейских. – Сейчас мы с ним покончим… – сказал Баррос, входя в большую комнату, захваченную полицейскими. Луч карманного фонаря осветил лицо Жофре. – Вот он здесь, за шкафом… Орестес, продолжая уничтожать материалы, насвистывал «Бандьера росса». Жофре улыбнулся: «Молодчина, старик!» Агенты уже пробрались в коридор с улицы и со двора. Жофре поднялся. «Лучше умереть стоя, как подобает мужчине…» Луч фонаря снова обнаружил его, и в этот момент он опять выстрелил. Но тут же упал под градом пуль, хотя многие из них застряли в шкафу. Он было прижался к стенке шкафа, но пошатнулся, при падении голова его стукнулась об пол, револьвер выскользнул из руки. Агенты поняли, что все кончено, и зажгли свет. Они увидели тело Жофре, распростертое на полу около шкафа; кровь лилась у него из груди. Но в тот же момент они заметили дым, выходящий из двери комнаты, где находились машины, и теперь уже совершенно отчетливо услышали звучный голос: Красное знамя победит… Баррос, склонившийся было над телом Жофре, быстро поднялся и крикнул своим людям: – Машины!.. Он поджег материалы… Скорей!.. Но раньше чем они успели двинуться с места, на пороге комнаты появился старый Орестес с револьвером в руке. Он громко запел: Пусть вечно живут коммунизм и свобода! – Берегитесь, Баррос!.. – предупредил полицейский. Шеф бросился на пол, упав на Жофре, он едва успел спастись от пули старика. Как раз перед этим Орестес взглянул на Жофре и прочел в его глазах настойчивый вопрос. Орестес хотел ему сказать, чтобы тот не опасался за машины, но в это мгновение его смертельно ранила пуля Барроса. Орестес снова поднял оружие; ему пришлось сделать огромное усилие, чтобы разрядить револьвер. Пальцы не слушались, это было его последнее усилие; он упал вниз лицом, и его непокорные седые волосы окрасились кровью, вытекавшей из груди Жофре. И почти немедленно вслед за этим страшный взрыв потряс дом. В воздух взлетели обломки стены, вскрылась часть крыши и показалось синее небо. Град из кирпичей и кусков железа посыпался на полицейских и на распростертые тела. Бомба старого Орестеса покончила с машинами. Жофре закрыл глаза, засыпанные пылью, и подумал: «Жаль, старый Орестес не смог этого увидеть». Крестьяне, жившие по соседству, собрались на дороге, полицейские разгоняли их. Баррос был разъярен: он не мог использовать типографию, чтобы печатать фальшивые листовки, он не мог устроить засаду в доме – дома не было. Весть об этом распространится за какие-нибудь часы. Проклятые коммунисты!.. Он ткнул ногой тело Жофре. – Этот еще жив… Тащите его в автомобиль. Полицейские уже вынесли раненых агентов; один был при смерти. Баррос сказал, взглянув на труп Орестеса: – Старая сволочь, это он взорвал машины… – И он наступил на лицо убитого тяжелым сапогом. – Этот, по крайней мере, уже околел… Он оставил тело Орестеса в покое, только когда полицейские пришли забирать труп. Камалеан из автомобиля, где он оставался, видел, как в другую машину укладывали тела. Его бросило в холодный пот, им овладел жуткий страх, ему мучительно захотелось бежать. Одному из полицейских пришлось удержать Камалеана силой. – Ты куда, кретин? В полиции, после того как раненые агенты были сданы на попечение дежурного врача, Жофре бросили на свободный стол в одном из кабинетов управления охраны политического и социального порядка. Труп Орестеса свалили на пол. Жофре дышал с трудом, кровь продолжала непрерывно течь из ран на груди. Лицо его снова приняло юношеское, почти мальчишеское выражение… Баррос вошел, посмотрел на него и только тогда отдал себе отчет, насколько молод этот коммунист. Он объявил находившимся в кабинете агентам, щеголяя своей осведомленностью: – Это Жофре Рамос. Он был приговорен трибуналом безопасности к восьми годам тюрьмы. Я его узнал там же, в типографии. Сейчас у себя в кабинете я сверился с фотографиями, полученными из Рио… Это он самый… С таким детски-наивным лицом. И так нас обманывал… – Он остановился возле Жофре, пальцами приоткрыл ему глаза и сказал: – Ну, Жофре, вот тебе и смерть пришла. А жалко, ты еще так молод… Такой решительный парень… Баррос был уверен, что Жофре знает многое, что он мог бы выдать партийную организацию Сан-Пауло, возможно, даже многих – в Рио. Вот он здесь, почти умирает, а в смертный час даже самые храбрые люди могут заколебаться, думал Баррос, готовый на все, лишь бы вознаградить себя за взрыв, произведенный Орестесом, за разрушенные машины, за потерянную возможность устроить засаду. Его хриплый голос стал мягким и вкрадчивым: – Мне нравятся такие решительные люди, как ты… Я восхищен, просто восхищен. Но ты, парень, уже при смерти. И вот я предлагаю тебе соглашение: ты рассказываешь, что тебе известно, – я вызываю дежурного врача, затем мы отправляем тебя в больницу – и ты спасен. А потом… – Собака! – бросил ему Жофре, и струйка крови показалась у него изо рта, голова снова упала на стол. Баррос сдержался и продолжал еще более вежливо: – Если ты захочешь говорить, я пошлю за врачом, он наверняка спасет тебе жизнь. Мы задаем вопросы – ты отвечаешь и остаешься в живых. Если будешь молчать, истечешь здесь кровью и умрешь… Еще есть время… Это вопрос жизни или смерти; не будь дураком, не разыгрывай из себя героя… Стоит мне распорядиться, и врач появится немедленно. Ведь ты еще молод, у тебя, конечно, есть и мать, и невеста… Подумай о них, подумай, как они будут горевать, если ты умрешь. Ну как, будешь говорить? Жофре собрал все силы, еще раз поднял голову. – Собака! – прохрипел он, и голос его прервался: Жофре захлебнулся кровью. Баррос сжал кулаки и, чтобы сдержать себя, начал ходить по комнате. Нет, ему не понять этих людей, которые предпочитают лучше умереть, чем проговориться… Что это за люди, откуда их упрямство, чего ради они так поступают, как это возможно? Баррос не мог этого постигнуть. Неожиданно ему пришла в голову идея; он распорядился привести Камалеана. Толкнув его к столу, показал на него Жофре и сказал как можно убедительнее: – Он уже нам рассказал все, что знал; он выдал нам все руководство партии. Нам уже все известно, но мы хотим только подтверждения. Кто такой Жоан? Где живут Руйво и Зе-Педро? Кто тебя послал сюда из Рио? Кто входит в состав Национального комитета? Говори, пока есть время, хотя бы потому, что нет смысла упорствовать, все равно мы уже все знаем и хотим только еще раз удостовериться в этом… Я велю позвать врача… А потом мы позаботимся о пересмотре твоего дела. Честное слово! Тускнеющие глаза Жофре остановились на землистом лице Камалеана. И в них было такое глубокое презрение, что типограф отступил, умоляя: – Уведите меня отсюда… Уведите отсюда… Он может… Баррос раздраженно накинулся на него: – Довольно трусить, дерьмо! Призраков боишься!.. – Он толкнул его к двери. – Уведите этого идиота… Баррос снова повернулся к Жофре, с лица которого уже исчезала жизнь. Затем бросил взгляд на ручные часы. – Сейчас около половины пятого утра. Если я не вызову немедленно врача, ты не проживешь и часа. Ты умираешь, – неужели тебе это непонятно? Так почему же ты молчишь?.. Не будь кретином… Говори! Жофре склонил голову набок, взглянул на труп Орестеса; ему показалось, что он видит счастливую улыбку на устах старика, прикрытых густыми седыми усами. Он сделал новое усилие; ему не удалось крикнуть Камалеану «предатель», как хотелось это сделать, – хватит ли у него сил, сумеет ли он теперь произнести свою последнюю здравицу в честь Коммунистической партии Бразилии, в честь товарища Престеса? Глаза его все больше заволакивало, силы покидали его вместе с кровью, сочившейся из ран; из уст его послышалось невнятное бормотание. Баррос заметил движение этих окровавленных губ, лицо его осветилось торжествующей улыбкой. «Он решил говорить…» И Баррос нагнул голову, чтобы лучше слышать, чтобы не потерять ни единого звука. И он услышал прерывистый голос умирающего: – Да здравствует коммунистическая партия!.. Он вышел из себя и, замахнувшись своей огромной, грубой ручищей, проревел: – Говори, щенок, говори, пока есть время, не изображай из себя храбреца! Я умею расправляться с такими героями… – И Баррос изо всех сил ударил Жофре. Только после второго удара он почувствовал, что избивает мертвеца. Он отошел, вытер об оконную занавеску запачканную в крови руку и сказал усталым, подавленным голосом: – Околел… Предпочел сдохнуть, проклятый, чем заговорить… Через оконные решетки входило утро; первые бледные лучи солнца осветили трупы. 23
В поисках хижины Гонсало Карлос на каноэ сирийца отправился вниз по реке. Его глаза горожанина широко раскрывались от изумления при виде окружающей дикой природы. Время от времени сириец тайком бросал на него недоверчивый взгляд. Карлос чувствовал себя подавленным величием окружавшей его природы: многоводной рекой, густым лесом и деревьями, переплетенными лианами. Человек выглядел здесь маленьким и незаметным; кабокло, позеленевшие от малярии, дрожащие от лихорадки, казались странными, призрачными видениями селвы. Карлос спрашивал себя: когда наступит день победы, когда удастся освободить от оков нищеты этого простого бразильского человека, сделав его могущественным властелином непокорной природы? Путешествие из Сан-Пауло в Мато-Гроссо поездом, затем на грузовике, потом на лошади явилось для Карлоса своего рода политическими курсами, оно дало ему неоценимый опыт: он познакомился с безграничной нищетой тружеников сельского хозяйства. И увидел, что по мере продвижения вглубь страны нищета все возрастает, становится все более трагической. Он видел колонистов на кофейных плантациях Сан-Пауло, потом трудящихся, которые работали, как рабы, на плантациях и скотоводческих фермах экс-сенатора Венансио Флоривала, на плодородных землях Мато-Гроссо. Было похоже, что он направлялся вглубь времен и попал не в другой штат бразильской федерации, а на предыдущую страницу истории человечества – в эпоху феодализма. Он видел людей, подобно рабам обрабатывающих землю без каких-либо орудий, кроме их собственных жалких рук, – людей, лишенных права пользоваться плодами этой земли. Даже скоту жилось лучше, чем им, ибо животные представляли большую ценность для плантаторов, чем люди. То была страшная нищета, неописуемая трагедия. Глаза молодого коммуниста мрачнели при виде этой все более возраставшей нищеты. После того что он видел на фазендах Венансио Флоривала, он решил, что познакомился с пределом нищеты, что более ужасная действительность просто невозможна. Карлос пробыл в гостях у экс-сенатора сутки. Он пустился на хитрость: прибыв в фазенду на грузовике, доставлявшем из Кампо-Гранде продукты для лавки, из которой снабжались по невероятно высоким ценам рабочие и колонисты, он представился плантатору как сан-пауловский журналист, которому Коста-Вале якобы поручил написать очерк о долине реки Салгадо. Венансио Флоривал, всегда относившийся к журналистам с почтением – он оплачивал их завтраки, обеды и коктейли в Рио и Сан-Пауло, – принял его весьма радушно. Он сказал Карлосу, что действительно ожидает и даже не одного, а целую группу журналистов, посланных газетой «А нотисиа», чтобы описать в серии статей современное состояние долины, где должно возникнуть мощное промышленное предприятие. Сам Венансио Флоривал как один из пайщиков новой компании был особо заинтересован в этих землях. Он прибыл сюда из Сан-Пауло вскоре после посещения города диктатором и по окончании операции с кофе, с тем чтобы по просьбе Коста-Вале подготовить на своей фазенде помещения для приезжающих журналистов, инженеров и техников. – Приедет даже поэт Сезар Гильерме Шопел, этот толстяк, похожий на откормленного борова, вы его, конечно, знаете?.. – сказал он Карлосу. – Шопел даже обещал написать поэму о землях моей фазенды… Карлос спокойно заверил его, что он близкий друг поэта Шопела (которого на самом деле он знал только по имени) и что он входит в состав прибывающей экспедиции, являясь как бы ее авангардом: он должен ехать впереди, чтобы все подготовить к их приему. Венансио Флоривал принял его наилучшим образом, великолепно угостил и, тщеславно гордясь фазендой, захотел показать ее Карлосу. Тот увидел огромные плантации кофе и бескрайние пастбища, на которых тучнел ленивый скот. Но он увидел также грязные лачуги колонистов, похожих на скелеты детей с раздутыми животами и бледными личиками, которые выполняли работу взрослых; он увидел женщин, состарившихся к тридцати годам; и все эти люди были лишены каких бы то ни было прав. Он услышал, как плантатор выкрикивает их имена, обращается с ними, как с рабами. И ему пришли на память слова Руйво о необходимости работать с крестьянами; он говорил об этом в докладе на последнем заседании районного комитета. Да, надо завоевывать эту массу людей, пробудить в них политическое сознание, установить их союз с пролетариатом. Без этого всякое усилие будет бесполезным, всякая борьба окажется бесцельной… На следующий день Венансио Флоривал дал ему двух проводников и лошадей, чтобы перебраться через горы. В течение всего долгого перехода Карлос расспрашивал своих спутников об условиях местной жизни. Так добрался он до лавочки сирийца на берегу реки. Проводники должны были ожидать его здесь – он обещал вернуться через два-три дня. Карлос рассказал торговцу кучу вымышленных историй насчет своей журналистской миссии и важных причин, по которым ему надо поговорить с Гонсало. Сириец слушал, наклонив голову; он был уверен, что Карлос – полицейский агент, которому поручено арестовать Гонсало. Уже давно сириец убедил себя, что Гонсало, по всей видимости, осужден за какое-то преступление: он не мог поверить, чтобы кто-нибудь просто решил поселиться здесь, на краю света, без причин, подобных тем, что привели сюда его самого. Он не отказался от того, чтобы отвезти журналиста в хижину гиганта, но потребовал, чтобы Карлос отправился туда один, без провожатых. И в течение всего пути сириец не проронил ни слова, а только подозрительно посматривал на молодого человека. Карлос полагал, что на фазенде Венансио Флоривала он столкнулся с последней степенью нищеты. Но еще ужаснее, еще страшнее оказалась нищета проживающего по берегам реки среди пышной тропической природы населения – этих беглецов от мира, этих полуголодных, больных, изможденных людей. Клочки земли, отвоеванные ими у лесной чащи и возделанные голыми руками, убогие посевы маиса, маниока и фасоли не обеспечивали им даже полуголодного существования. А вскоре им предстояло лишиться этой земли – единственного, что у них оставалось и то находилось под угрозой… Они прибыли к хижине Гонсало после полудня под палящими лучами солнца. Гонсало готовил каноэ для одной из своих обычных поездок по реке – от хижины к хижине кабокло. После того как сириец доставил ему газеты с известиями о создании «Акционерного общества долины реки Салгадо», он стал еще чаще навещать своих многочисленных друзей. Сириец выскочил из каноэ, подошел к Гонсало и указал на Карлоса, подымавшегося на берег. – Говорит, что он журналист. Хочет побеседовать с тобой, Дружище… Они были здесь втроем, на берегу реки, где из воды то и дело выскакивали вечно голодные пираньи; позади был лес, переплетенный бесчисленными лианами. Голос сирийца звучал решительно: – Я думаю, что он из полиции и прибыл за тобой. Он плохо сделал, что явился один… C'est зa… Мы тут же с ним покончим. А его проводникам я скажу, что он утонул и пираньи пожрали его… – И в руке у сирийца появился нож. Карлос быстро подошел к Гонсало. – Я от Витора. Гигант с благодарностью улыбнулся сирийцу. – Можешь спокойно оставить его у меня, я его знаю, он действительно журналист. Завтра я отвезу его на своем каноэ. Но прежде чем тебе уехать, зайдем ко мне, выпьем. – Он положил сирийцу руку на плечо. – Большое тебе спасибо!.. Когда каноэ сирийца исчезло вдали, они начали подробный разговор. Для Гонсало эта беседа была возвращением к жизни; он не мог скрыть радости, заполнившей его, увлажнившей глаза; она улыбкой разлилась по его лицу. Он не отрывал взора от Карлоса как бы для того, чтобы убедиться, что перед ним товарищ по партии, человек, прибывший с места борьбы, – человек, который был как бы частью его самого. – А Витор, как он поживает? – Думаю, что хорошо. Но я прибыл из Сан-Пауло, меня послали тамошние товарищи, которым Витор сообщил, что ты находишься здесь. Я даже не знаком с ним. Знаю только, что он ответственный работник партии на северо-востоке. – Больше чем ответственный работник: он руководитель. Карлос начал рассказывать об акционерном обществе. Гонсало, присев на корточки, как это в обычае у жителей сертана, внимательно слушал. – Газеты много рассуждают о национализме – печать ведь теперь под контролем правительства. Только и слышишь эту песню: «национальное предприятие», «национальный капитал»… Это все разговоры для усыпления бдительности рабочего класса. За всем этим стоят американцы. Они хотят завладеть скрытым здесь марганцем. А затем намечается раздел этих земель между несколькими капиталистическими акулами… Они захватят земли кабокло и отдадут янки этот кусок страны. Так выглядит на деле их национализм… Они долго обсуждали этот вопрос. Карлос изложил Гонсало программу его новой деятельности: – Мы должны воспользоваться конфликтом, который наверняка у них возникнет, – конфликтом с населением, живущим на берегах реки. Они хотят прогнать отсюда всех. Нужно, чтобы борьба, которая здесь разгорится, послужила сигналом и примером для всех крестьян. Скоро должны прибыть первые специалисты, чтобы начать разведку месторождений. Появятся и рабочие. Среди них будут и наши люди. Пошлем тебе на помощь кого-нибудь из товарищей. Потом договоримся о пароле, с которым он к тебе явится. – Он пристально посмотрел на великана, этого полулегендарного товарища, о котором он так много слышал. – Перед нами стоит задача – глубже проникнуть в крестьянскую среду. Борьба индейцев, которой ты руководил, открыла широкие перспективы во всей этой зоне. Пока мы не создадим настоящего союза между рабочими и крестьянами, мы не можем даже и думать о серьезном массовом движении. Здесь должны произойти события более важные, чем руководимое тобой восстание индейцев, – события, о которых будут рассказывать по фазендам, которые мы сможем использовать для воспитания крестьян, чтобы они осознали свое ужасное положение и поднялись на борьбу. Я сам не представлял себе, насколько велика нищета в этой глуши… Нужно было приехать и увидеть все собственными глазами. Они проговорили до тех пор, пока не наступила ночь, тропическая ночь с черным небом, усеянным звездами. Их окружали мириады москитов, но Гонсало как будто ничего не замечал. Он поджарил мясо на углях у костра, разведенного перед хижиной. Они скромно поужинали. Затем Карлос рассказал ему о партийных делах, о товарищах. Передал новости политической жизни, сообщил подробности государственного переворота, описал события, происшедшие в связи с приездом Варгаса в Сан-Пауло. Потом он стал слушать Гонсало, и великан долго рассказывал ему о долине реки Салгадо. Он хорошо изучил ее за эти годы, знал ее неисчислимые богатства; его голос звучал вдохновенно, когда он говорил об этой земле и об этой реке: – Долина может стать настоящим раем… во времена социализма… Карлос прервал его. – Но сначала должна произойти революция… А для этого нужны люди… Нам нужно вселить революционный дух в этих кабокло, рабов Венансио Флоривала… Гонсало посмотрел на тысячезвездное небо, затем перевел взгляд на лес и реку и, наконец, стал внимательно всматриваться в едва различимые очертания убогих хижин. – Эх, товарищ, ты не знаешь этих кабокло! Все они – замечательные люди. Больные и униженные, они храбры и добры, щедры и честны. В тот день, когда мы им поможем осознать, в какой нищете и эксплуатации они живут, в этот день они станут солдатами революции. Кабокло покажут, на что они способны. Ибо, – смею тебя заверить, – жить здесь – это уже героизм; подлинное чудо, что они выживают. Рев ягуара прорезал тишину ночи, он разбудил обезьян, поднявших испуганные крики. Гонсало встал; его гигантское тело, казалось, было подстать этим высоким, могучим деревьям. – Когда наступит час и здесь начнутся волнения, – ты, товарищ, получишь представление о том, чего стоят эти кабокло. Возвращайся спокойно, мы справимся с гринго[107]. Я подниму против них все и вся, вплоть до змей и ягуаров… Мы им покажем: бразильский народ – это совсем не то, что продажные шкуры из правительства! Мы им покажем, что эта земля – наша земля! Он сделал руками широкий жест, как бы для того, чтобы защитить лес и реку, и минералы, покоящиеся под землей, и животных в селве, и кабокло в их первобытных хижинах. Глава четвертая  1
Негр Доротеу со своей негритянкой Инасией гулял по набережной порта. Это был порт Сантоса – принадлежащие «Компании доков Сантоса»[108] бесконечные склады, наполненные мешками кофе, гроздьями бананов, тюками хлопка. Рельсы, автомобили, холодильники, радиоприемники, какие-то невиданные машины, ящики консервов и фруктов извлекались на поверхность подъемными кранами из глубоких недр трюмов грузовых судов, стоящих на якоре в порту. Сладкий аромат спелых яблок смешивался с соленым запахом моря; темную тропическую ночь, расслабляющую и ленивую, по временам пронизывал порыв свежего ветра, примчавшегося откуда-то издалека. Печальный напев матросской песни временами заглушался неистовым грохотом подъемных кранов, криками матросов и грузчиков, тоскливыми гудками судов, покидавших причалы порта и уходивших в широкие просторы океана. Но порой какая-нибудь нота песни звучала особенно громко, покрывая все остальные шумы, и долго звенела в воздухе; казалось, песня облегчает труд докеров. Эту песню на каком-то странном языке нельзя было понять, даже если бы каждое ее слово было отчетливо слышно, но, тем не менее, все – докеры, моряки разных национальностей, грузчики, даже таможенные чиновники, – все понимали, что песня эта говорит о любви, что она возникла где-то вдалеке, в ней слышалась печаль разлуки. И больше чем кому-нибудь другому это было понятно негру Доротеу, шедшему рядом со своей Инасией. Для него песни не составляли тайн: он мог постичь и самую загадочную из них, даже не зная языка певца, – какого-нибудь матроса, певшего огням Сантоса о своей тоске по любимой, некогда встреченной и сразу же утраченной в Шанхае или в Констанце, в Нью-Йорке или в Гваякиле, в Амстердаме или в Стамбуле. Негр Доротеу умел также распознавать язык моря: он разгадывал его шум, различал флаги судов и понимал, что означают изменения оттенков воды в разное время суток. Об этих тайнах моря он рассказывал своей негритянке Инасии, когда они вдвоем в свободное от работы вечера проходили по огромному порту, говоря о своей любви, рассказывая разные истории, напевая песни, улыбаясь встречным, потому что улыбка и смех доставляли наивысшее удовольствие и для Доротеу, и для Инасии. Пепе, хмурый испанец с лицом, как бы изваянным резцом скульптора, человек полный сарказма, имел обыкновение, сидя в портовом кабачке за стопкой кашасы, говорить, что негр Доротеу и его негритянка Инасия наилучшим и самым убедительным образом доказывают существование взаимного притяжения противоположных полюсов (и тут же объяснял присутствующим неграм и мулатам, в чем состоит это взаимное притяжение). Инасия, девушка двадцати лет, представляла собой идеальный образец тех «баиянских кукол», что так охотно покупаются всеми туристами: тело великолепного сложения, упругие груди, твердые налитые бедра, выточенные ноги, нежный профиль лица, задором и лукавством искрящиеся глаза, чувственные губы, белые ровные зубы, душистые, пахнущие корицей и гвоздикой волосы. Когда она проходила – этот черный цветок порта, этот вожделенный, еще не совсем созревший плод, – докеры (белые матросы с севера, арабы со сластолюбивым взглядом, низенькие оливкового цвета греки) задавали себе вопрос, как это негру Доротеу удалось завоевать ее сердце, к какому колдовству он прибег, какому святому молился, чтобы поймать в сети любви – и какой любви: горячей, преданной! – такую девушку?.. Негр Доротеу был низкого роста, худой, с плоским лицом и толстыми губами; он не производил впечатления мужчины, способного воспламенить любовью женское сердце. Достаточно было взглянуть на его огромные ручищи, слишком большие для него и отличавшиеся страшной силой. Даже те из докеров, что слыли атлетами, никогда не протягивали ему для пожатия руку иначе как сжав ее в кулак или подставив запястье: в руках Доротеу таилась опасность – его пальцы были, как клещи. Но эти огромные безобразные руки иногда осторожно брали маленькую губную гармонику и извлекали из нее самые нежные напевы, способные успокаивать души людей, делать их мечтателями и романтиками; умели они извлекать и другие мелодии (когда слушатели вокруг были людьми хорошо знакомыми и надежными) – мелодии, вдохновлявшие на борьбу и восстание. Он никогда не учился музыке: у негра Доротеу нехватало для этого времени, и то немногое, что он знал, постиг на набережной порта Сантоса; он выучился этому в доках, на погрузке и разгрузке кораблей, у матросов, у грузчиков, у моря и ветра, выучился в профсоюзе. И в него влюбилась негритянка Инасия – цветок порта. Он проходил вдоль пристани, среди грузов и подъемных кранов, и вместе с ним шла его Инасия. Они смеялись; их смех был подобен то нежному плеску ручейка, то резкому звону бьющихся стекол, то звучал гулкими раскатами оркестра. И все спрашивали себя, как объяснить эту праздничную любовь, украшенную смехом, песнями и поэзией портовых доков? «Взаимное притяжение противоположных полюсов», – определил хмурый, умудренный жизненным опытом испанец; «житейское дело», – философски произнесла негритянка Антония, продававшая с лотка сласти. А старик Грегорио, старый докер, объяснял это качествами самого Доротеу: «Превосходный негр, верный и мужественный, такого другого не найти ни в этих доках и нигде на свете…» Каждая из этих трех точек зрения имела своих приверженцев, и иногда между ними дело доходило до ожесточенных споров. Но тайна продолжала оставаться неразгаданной – одна из тех тайн, что встречаются в любом порту, в любых доках и никогда не получают исчерпывающего объяснения. Не знал разгадки и сам Доротеу. Уже полгода прошло с того дня, как он, сопровождаемый большой группой докеров и матросами с судов, привел Инасию для регистрации брака; весть об этом вызвала бурю толков. Они познакомились во время карнавала. Он купил ей на ярмарке маленькое зеркальце и красную гребенку, сыграл для нее на своей волшебной гармонике, спел песни на пяти языках, ловко прошелся в пляске с острым ножом в руках, выбивая каблуками искры из земли. Вместе они бродили по набережной, гуляли за городом по белым пескам, у самого океана. Вместе смотрели в кино фильмы о ковбоях. И когда в один прекрасный день он ей предложил «с соизволения сеньора судьи, заключающего браки, объединить свой убогий скарб», она весело согласилась. Она работала горничной в одном большом отеле на побережье, где останавливались отечественные богачи и туристы-гринго, приезжавшие сюда ради морских купаний, ради рулетки и баккара, причем эти азартные игры были для них более притягательными, чем синий океан и белый песок. Многие из гостей в отеле бросали на нее плотоядные взгляды, но она неизменно отвечала на них презрительной гримасой своих сжатых, чуть подкрашенных маленьких губок: никогда никакой другой любви, другого желания, другой ласки не возникало в ее невинном сердце, кроме тех, что пробудил в ней Доротеу с его худым лицом, огромными жилистыми руками и пламенной душой человека, преисполненного поэзии, жизни и надежды. Но Инасия не захотела бросить работу, и когда Доротеу попросил ее остаться дома и озарять своим присутствием домашний очаг, она ответила его же словами, которые он говорил ей во время сватовства: – Что это за коммунист, который хочет иметь жену в качестве украшения? Потом прижалась к его груди так, что запах корицы и гвоздики, исходивший от ее волос, ударил Доротеу в ноздри, и с лукавым смешком добавила: – Я люблю работать и буду работать, пока мой живот не вырастет и я уже не смогу… Дни, наступившие после свадьбы, были сплошным праздником. Она смеялась и пела, он учил ее всему, что знал сам. Он ведь обладал совершенным знанием флагов на судах; умел даже различать флаги стран Британской империи – Англии, Канады, Австралии, Южно-Африканского Союза, столь похожие друг на друга по расцветкам и рисункам. Как-то раз перед великолепной набережной Сантоса показалось судно с любимым, но доселе еще не виданным здесь флагом. Власти не позволили кораблю войти в порт, и тогда рабочие Сантоса все вышли на набережную, чтобы приветствовать алый, увенчанный серпом и молотом флаг звезды завтрашнего дня. Впереди всех шел негр Доротеу со своей негритянкой Инасией, а когда стемнело, они зажгли небольшие фонарики и ими, в знак любви и солидарности, салютовали флагу и кораблю, капитану и матросам, далекому миру, откуда, пересекши моря и океаны, пришел советский пароход, который не пропустили в порт. Это походило на праздник огней, вспыхнувших на прибрежных песках; в ту ночь бразильские богачи и туристы-гринго не отважились выйти на прогулку по побережью океана. Даже сидя в своих хорошо защищенных отелях и клубах за рулеткой и баккара, они испытывали страх, и руки их, бросавшие ставки на номера, дрожали: это был страх перед кораблем и фонарями, страх перед красным советским флагом. Негр Доротеу поднимал и опускал свой фонарь, и на корабле, отвечая на его приветствие, поднимались и опускались фонари. Доротеу заиграл на своей гармонике, а Инасия, скинув башмаки, заплясала на песке. Люди на корабле, конечно, не слышали музыки, не видели пляски, но именно для них играл негр Доротеу и танцевала его негритянка Инасия. И тогда докеры заметили слезы в маленьких глазках Пепе – испанца с хмурым лицом, словно изваянным резцом скульптора. Так в любви, работе и празднествах проходила жизнь негра Доротеу и его негритянки Инасии. Вдвоем они гуляли по набережной ночного Сантоса, среди кофе, бананов, подъемных кранов и судов. И больше чем обычно улыбались они в эту ночь друг другу и всем встречным, даже спешившим пассажирам, которые замешкались при высадке с трансатлантического, огромного как город, парохода. Они смеялись и радовались – Инасия, пряча голову на косматой груди мужа, только что сказала своему Доротеу, что у нее начинает расти живот: пустила ростки новая жизнь, возникшая на празднестве любви между прекрасной негритянкой Инасией и ее веселым негром Доротеу. И сейчас радость Доротеу была так велика, что он оказался не в состоянии сохранить ее только для себя одного, почувствовал необходимость поделиться ею со всеми своими друзьями в порту – с товарищами по работе в доках, грузчиками, его постоянными собеседниками, и со случайными знакомыми – моряками стоящих в порту судов. И так этот негр Доротеу, подпрыгивая на своих кривых ногах, переходил от группы к группе, отрывал людей от работы и рассказывал, хохоча от удовольствия, а вместе с ним шла его негритянка Инасия, застенчиво улыбаясь и пряча лицо на груди своего милого всякий раз, когда он провозглашал чудесную новость: через несколько месяцев должен родиться на свет ребенок – маленький Доротеу или маленькая Инасия – черный, как его родители, и такой же веселый, как они. И подобно им, ребенок будет расти на берегу Атлантического океана, в порту Сантоса, будет слушать морские истории и революционные повествования из уст испанцев и итальянцев, греков и славян, французов и шведов, бразильцев с кожей разных цветов: белых, негров и мулатов. Они переходили от группы к группе; они уже успели выбрать имя для мальчика, если родится негритеночек, а не негритяночка, они назовут его Луис Карлос – таково имя Престеса. В те, да и в последующие годы грузчики Сантоса не называли своих сыновей иначе, как именем осужденного и заточенного в тюрьму революционера. Поэтому-то в стране и утвердилось за Сантосом прозвище «красного порта», и бразильская полиция с ненавистью и опаской взирала на этот мирок в порту, на этих грубых и могучих людей, сгибающихся под мешками кофе, которые затем подхватывались подъемными кранами и исчезали в корабельных трюмах. Суда – пассажирские и грузовые – сменяли друг друга у причалов порта; некоторые из них задерживались в порту подолгу. Только что пришел большой английский трансатлантический пароход, с него торопливо сходили пассажиры, и негр Доротеу приветствовал их своей улыбкой: ведь он сейчас узнал от своей негритянки Инасии потрясающую новость. В это время другой пароход, с польским флагом на корме, выходил из порта, и негр Доротеу помахал ему на прощанье рукой; как ему хотелось крикнуть пассажирам и матросам, капитану с биноклем, машинистам и кочегарам, что у него должен родиться сын, что его имя будет Луис Карлос и что он будет докером в порту Сантоса. Или, может быть, станет матросом и будет плавать по огромному миру, заходя из порта в порт, но неизменно сохраняя в сердце память о красном Сантосе, о коммунистах его порта. Теперь, когда Доротеу появлялся со своей Инасией на набережной, слухи о счастливой новости уже опережали их. Весть эта распространилась по складам и портовым тавернам, где за залитыми вином столиками грузчики и матросы пили за здоровье будущего сына негра Доротеу и негритянки Инасии; за сына, которого будут звать Луисом Карлосом и который вырастет настоящим рабочим Сантоса. И тогда негритянка Антония, оставив свой лоток со сластями на попечение надежного негритенка, пробралась через мешки и тюки, чтобы обнять Доротеу и его Инасию. Пришел и старый Грегорио, набросив мешковину на седеющие волосы, – еще крепки у него плечи, но согбенны возрастом и непосильным трудом. Пришел и Пепе, испанец, потягивая окурок сигареты. Он заключил в свои объятия Доротеу, поздравил Инасию. И пришло еще много других, пришел весь портовый люд; можно было подумать, что они собрались на один из тех антифашистских митингов, которые теперь были запрещены. Они приходили оживленные и протягивали мозолистые руки негру Доротеу и его негритянке Инасии. Вокруг супружеской четы собралось уже столько народу, что это вызвало беспокойство постовых полицейских. Но когда запела волшебная гармоника Доротеу, спрятанная у его губ под огромной ладонью, полицейские решили, что это импровизированный праздник, в который лучше не вмешиваться, потому что докеры Сантоса не любят полицию и им не нравится, когда она суётся в их игры и развлечения. А с любовью и ненавистью грузчиков красного порта Сантоса шутить не следовало: кровь у них горячая, и рука быстро выхватывает нож. Доротеу играл на своей маленькой губной гармонике, а Инасия танцевала на пристани перед подъемными кранами. Матросы толпились у бортов своих кораблей, чтобы лучше слышать его и видеть ее; они хлопали в ладоши, как дети. Свисток грузового парохода, входящего в порт, заглушил мелодию самбы Доротеу, прервал танец его Инасии. Черная громада судна медленно приближалась, и все они – докеры, грузчики, матросы, прохожие, продавщица сластей негритянка Антония – все они посмотрели на корабль и внезапно стали серьезными. Доротеу опустил свою волшебную гармонику; он был хорошим знатоком флагов и умел их распознавать. И он подтвердил тревожную догадку остальных, когда глаза его раньше других различили на корме становившегося на якорь грузового судна ненавистную тряпку, грязный флаг, отвратительный штандарт. Старик Грегорио, учащенно дыша, сказал: – Вот он, явился. Но он не вывезет отсюда кофе, ох, не вывезет, покуда есть в порту Сантоса люди! Клянусь богом!.. – Это германский пароход… – повторил Доротеу, и в эту минуту позабыл даже о своем будущем сыне; его огромная рука, державшая губную гармонику, угрожающе сжалась. Испанец Пепе сделался еще мрачнее обычного; он энергично сплюнул, глаза его расширились. Еще несколько дней назад распространились слухи, будто грузчики Сантоса решили отказаться грузить пароход, который явится сюда за кофе, посылаемым «новым государством» в подарок Франко. Тысячи и тысячи мешков кофе заполняли склады, а судно для его перевозки все не появлялось. Вскоре стало известно, что для перевозки этого груза зафрахтован германский нацистский пароход. Однако его никто так скоро не ждал, и собрание профсоюза, которое должно было наметить план действий, еще не созывалось. Доротеу, позабыв даже о своей Инасии, крикнул товарищам: – Необходимо созвать профсоюзное собрание!.. – И возможно скорее!.. – Не позже, чем завтра!.. – И принять решение!.. – отозвались собравшиеся. Со всех сторон подходили люди, толпа росла; все взгляды были устремлены к причалам, где бросало якорь судно. – Они явились за кофе для бандита Франко!.. – Это – оскорбление грузчикам Сантоса!.. Доротеу спрятал в карман губную гармонику, взял под руку Инасию и поспешно ушел. Сейчас у него было много дел; вечер уже не принадлежал ему, праздник кончился, надо было предпринимать какие-то меры. В этот вечер Освалдо – секретарь партийной ячейки грузчиков – был свободен. Он вернулся домой, отработав дневную смену, и теперь, наверное, уже спал, устав после долгих часов погрузки и разгрузки под солнцем, обжигавшим как огонь. Необходимо было пойти и разбудить его, сказать о прибытии парохода. Наступил час начинать забастовку. Рабочие готовы – надо только созвать собрание профсоюза… Тот, кто увидел бы негра Доротеу, когда он возвращался из порта в город с сосредоточенным, серьезным лицом, озабоченным взглядом и бьющимся сердцем, тот, быть может, понял бы, почему ею так любила негритянка Инасия с ее идеально сложенным телом, с волосами, пахнувшими корицей и гвоздикой. В этот вечер Доротеу и его любимая поспешными шагами шли по набережной. Черные тучи покрывали небо, дул свежий ветер наступающей ночи: это был ветер, возвещавший бурю, словно сама природа протестовала и выражала свою солидарность с грузчиками Сантоса. Так черны были тучи, принесенные резким ветром с юга, что глаза негра с трудом могли различить ненавистную свастику на тряпке, свешивавшейся с кормы грузового судна. Доротеу, не замедляя быстрого, подобного бегу, шага, еще ближе прижал к себе свою Инасию; с сегодняшнего дня ее тело казалось еще более совершенным и прекрасным: оно стало священным, ибо в нем зародилась и росла новая жизнь. Казалось, он хотел защитить это тело от отвратительной тени флага смерти и террора. О! Докеры и грузчики Сантоса сумеют ответить на этот вызов, на эту провокацию! Кофе не попадет в руки предателя Испании Франко! Доротеу подумал о своем сыне, который должен родиться через несколько месяцев, и шепнул жене: – Когда наш негритеночек вырастет большой и станет грузчиком в порту, все флаги уже будут красными, все флаги побратаются между собой… Вот за что любила его Инасия: за то, что он умел выразить голосом или звуками своей гармоники и что он умел делать, не страшась полиции, не страшась тюрьмы, не страшась самой смерти (Доротеу неведомо, что такое страх), за то, что он хотел поднять порт и море на борьбу против фашистов. А на пристани, где обычно назначались профсоюзные собрания, группами собирались люди, шептались, взгляды их были направлены на черное судно. Больше других переживали докеры-испанцы: кофе на складах был предназначен для Франко. Над морем повеяло дыханием забастовки, в ближайших горах прозвучал, возвещая грозу, раскат грома. Оставив набережную, почти бегом шли к дому Освалдо негр Доротеу и его негритянка Инасия. 2
Борьба с полицией началась еще до того, как вспыхнула забастовка: уже на профсоюзном собрании. Многие из грузчиков и докеров не были охотниками до собраний и, обсуждая организационные, финансовые и технические вопросы, частенько поругивали свой союз. Они предпочитали просиживать в тавернах или просто отсыпаться после изнурительной работы в порту. Однако когда речь шла о политических вопросах, можно было заранее сказать, что помещение профсоюза будет заполнено, все стулья окажутся занятыми, многим придется стоять; и люди будут протискиваться вперед, чтобы лучше видеть и слышать. В профсоюз грузчиков и докеров Сантоса полиции и агентам из министерства труда еще не удалось проникнуть. Несмотря на все усилия, их попытки овладеть руководством оказались безуспешными. Агенты министерства и полиции шныряли вокруг, пробирались на собрания, старались внести разногласия, но пока их интриги и угрозы не увенчались каким-либо успехом. В руководстве союза продолжали оставаться коммунисты и сочувствующие им, и также благодаря этому Сантос получил наименование «красного порта». Управление охраны политического и социального порядка штата Сан-Пауло уделяло грузчикам и докерам много внимания. Списки докеров с биографическими данными заполняли архивы полиции, и перед многими именами стояла пометка «неблагонадежный». Однако мало кто из сыщиков обладал достаточным мужеством, чтобы следить за политической деятельностью докеров и грузчиков Сантоса. Уже не одному из тех, кто пробовал фланировать вдоль пристани, пришлось поплатиться за это вынужденным купанием в водах порта. Рабочие Сантоса обладали своеобразным чувством юмора, которое плохо оценивалось полицейскими. Так, однажды некий сыщик, решивший применить новейшие методы слежки, почерпнутые им из американских детективных романов, попытался сдружиться с группой, докеров в таверне, где они пили так, как умеют пить только докеры. Он представился как коммивояжер, находившийся проездом в городе, но при первых же нескромных вопросах был сразу разоблачен. Докеры перемигнулись, притворились простачками, поддержали начавшийся разговор, а сыщик в глубине души уже торжествовал, предвкушая благодарность своего шефа Барроса за драгоценную информацию. Агент не считал, сколько он выпил за здоровье докеров полных до краев стаканчиков кашасы. Очнулся он на пристани голым, мокрым, без документов и с плакатом на груди – куском картона с надписью синим карандашом: «Осторожно! Полицейская ищейка. Кусается!» Прохожие от души смеялись. Перед началом собрания двое грузчиков встали в дверях, чтобы не могли войти посторонние. Один из них был кривой. Рядом с ним другой курил дешевую сигару, дым которой отравлял воздух. Когда явились сыщики, решившие во что бы то ни стало проникнуть на собрание, между ними и охраной в дверях завязался спор. Помещение профсоюза находилось во втором этаже; дверь, за которой начиналась лестница, была узка, и оба грузчика загородили ее. Тот, что курил сигару, потребовал у полицейских – они сначала скрыли, кто они такие, – их профсоюзные документы. Сыщики ответили, что они журналисты и им поручено дать отчет о собрании. Одноглазый грузчик сказал, что профсоюзное руководство само пошлет в редакции газет официальный отчет о прениях, а на собрании разрешается присутствовать только членам союза. Тогда сыщики резким тоном заявили о том, что они из полиции. Их было трое – у всех наглые физиономии. Они попытались ворваться силой. – Потише, парень, потише… – посоветовал одному из агентов грузчик с сигарой во рту. – Не волнуйтесь и не спешите. Мы это обсудим… – Нам нечего обсуждать. Мы войдем… – Это еще как знать, приятель! Сеньор утверждает, что он из полиции, но только что перед этим он назвался журналистом. Значит, прежде всего докажите, что вы действительно шпики… – Он отчеканил последнее слово по слогам, сделав его этим еще более оскорбительным. Кончик его дымящейся сигары почти касался лица полицейского. Одноглазый объявил небольшой группе грузчиков, собравшейся у входа и ожидавшей, когда можно будет войти: – Шпики… Кто-то задал вопрос! – А что они собираются здесь вынюхивать? Грузчики вплотную придвинулись к двери. Споривший полицейский отогнул лацкан пиджака и показал свой значок. Двое других последовали его примеру. – В настоящее время профсоюзные собрания не могут проводиться без разрешения и присутствия полиции, – заявил сыщик. – Мы подали заявку сегодня утром… – Но не получили еще на нее ответа… Один из руководителей профсоюза спустился с лестницы узнать, что происходит. Грузчик с сигарой коротко объяснил ему положение: – Вот три шпика. Хотят войти силой… Профсоюзный руководитель обратился к сыщикам: – Собрание созвано совершенно законно, уведомление о нем было послано полиции. – Ни одно профсоюзное собрание в настоящее время не может происходить без представителей полиции… – Они пришли сюда шпионить, – произнес тот же голос из группы, дожидавшейся возможности войти. Профсоюзному руководителю было известно, что после провозглашения «нового государства» присутствие полиции на профсоюзных собраниях обязательно. Однако это был первый случай, когда полиция явилась на собрание грузчиков Сантоса. – Впустите их! – распорядился он, не давая страстям разгореться. Важнее было провести собрание и голосованием решить вопрос о том, какую занять позицию по отношению к погрузке кофе для Франко. Грузчики, охранявшие дверь, неохотно расступились. Сыщики, подозрительно озираясь по сторонам, начали подниматься по лестнице. Зал был переполнен. За столом президиума сидело несколько человек, среди которых находился Освалдо, секретарь партийной ячейки и член руководства профсоюза, еще молодой человек, худой и высокий, мускулистый, с острым подбородком и начинающей лысеть головой. Здесь же заняли свои места испанец Пепе и старый Грегорио. Уже многие годы старик являлся председателем профсоюза. Первым секретарем был мулат по имени Аристидес, с коротким туловищем почти без шеи. Он ходил по залу с листом, прося присутствующих на собрании расписаться. Зал был бедный, на голых оштукатуренных стенах висело всего лишь три портрета: двух грузчиков, убитых во время последней забастовки, и Жетулио Варгаса, обязательный для всех помещений профсоюзов. Освалдо видел, как в зале появились три сыщика и разошлись в разные стороны. Он поднялся из-за стола президиума, что-то сказал товарищам, среди которых находился и Доротеу, и они тоже смешались с толпой. Через несколько минут собрание началось. Старый Грегорио взял со стола колокольчик и зазвонил, призывая к тишине. Постепенно шум утих, и председатель открыл собрание. Он вкратце изложил причины, побудившие руководство профсоюза созвать это собрание: правительство подарило генералу Франко, главарю испанских мятежников («Предателю!» – крикнул кто-то из зала) большую партию кофе. В порту Сантоса сейчас стоит германский («Нацистский!» – послышался чей-то голос) пароход, который прибыл за этим кофе. Речь идет о том, какую позицию должны занять в данном случае рабочие порта Сантоса: грузить пароход или отказаться? – Прошу желающих высказаться, – сказал в заключение председатель. Первым выступил Освалдо. – Что такое война в Испании? – задал он вопрос, подняв худые и мускулистые руки. И сам же на него ответил: – Это война, которую фашисты и реакционеры ведут против трудящихся Испанской республики, против демократического правительства. Вместе с тем это война против трудящихся всего мира. На стороне Франко сражаются германские нацисты и итальянские фашисты. То, что они пытаются сделать с испанским народом, с рабочим классом Испании, они – если это им там удастся – сделают и с другими народами, с рабочим классом других стран, с бразильским народом и с бразильским рабочим классом. Трудящиеся всех, даже самых отдаленных, стран выражают свою солидарность с испанскими рабочими, точно так же, как силы международной реакции – свою солидарность с Франко. Бразильская реакция, кофейные плантаторы, предприниматели, эксплуататоры рабочих, посылают этот кофе в подарок Франко. Мы бедны, мы не в состоянии послать несколько тысяч мешков кофе в подарок нашим испанским товарищам. Но у нас есть другой способ выразить им свою солидарность: не грузить этот кофе на германский пароход, на пароход Гитлера, который пришел за ним. Испанцы сказали фашистам: « iNo pasarаn!»[109]. И нам нужно помочь испанцам претворить этот лозунг в жизнь. По залу загремели аплодисменты, и Пепе уже просил слова, чтобы выступить от имени многочисленных испанцев – грузчиков Сантоса, но в это время один из сыщиков – тот самый, что спорил в дверях, – подошел к столу президиума и, наклонившись к Грегорио, о чем-то тихо начал ему говорить. Остальные члены президиума вытянули шеи, стараясь расслышать его слова. Люди в зале привстали со стульев. Кто-то спросил: – Что ему надо? Другой потребовал: – Пусть говорит громко, чтобы все слышали. Двое других сыщиков подошли и встали рядом со своим коллегой. Старый Грегорио громко объявил: – Он сказал, что собрание продолжаться не может. – Почему? Почему? – раздалось со всех сторон. Полицейский, прохаживаясь по сцене, заговорил: – Это собрание было созвано для обсуждения вопросов, касающихся «классовых интересов», а здесь говорят о политике. Это запрещено. Профсоюзы не имеют права заниматься политикой. Я объявляю собрание закрытым, поскольку оно приняло явно коммунистический характер… Удар кулака, обрушившийся на стол, заставил умолкнуть вспыхнувший было ропот, вызванный заявлением полицейского. Испанец Пепе, полный решимости, вскочил с поднятыми руками; на его смуглом, будто изваянном, лице сверкало пламя ненависти. – Товарищи! – крикнул он. – Какие же другие вопросы могут нас интересовать? Мы заявили, что на нашем собрании будут обсуждаться вопросы, касающиеся наших классовых интересов, и это правда. Я не вижу в этом ничего политического: речь идет о нашей работе. Мы не хотим работать на фашиста Франко, не хотим работать на нациста Гитлера. Я предлагаю продолжать собрание… Поднялся страшный шум. Люди вскакивали со своих мест, становились на стулья и неистово аплодировали. Старый Грегорио тщетно пытался восстановить тишину. Один из полицейских, выполняя приказ старшего, вышел. Освалдо сделал знак Доротеу, и тот вышел вслед за полицейским. Спустя несколько минут он возвратился и прошептал на ухо Освалдо: – Он звонит по телефону… Наконец Грегорио удалось восстановить относительный порядок, и он предложил собравшимся решить голосованием вопрос, продолжать ли собрание. Какой-то субъект попросил слова. Почти всем присутствующим он был известен: еще несколько лет назад он работал грузчиком, потом его завербовало министерство труда, однако он продолжал оставаться членом профсоюза. Все его сторонились. Ему было лет пятьдесят, он был толст, и во рту у него поблескивали два золотых зуба. – Товарищи! Не будем лишний раз играть на руку коммунистам. Какое мы имеем отношение к тому, что происходит в Испании? Наша обязанность – нагружать и разгружать суда, не спрашивая, для кого предназначены грузы. Коммунисты хотят втянуть нас в новую забастовку теперь, когда доктор Жетулио Варгас, друг и покровитель трудящихся… – Хорош покровитель, который приказывает стрелять в народ, как он сделал в Сан-Пауло!.. – прервал его Доротеу. – …когда доктор Жетулио Варгас, повторяю, готов уделить внимание всем законным требованиям нашего класса… – Ваш класс – в министерстве, а наш – в порту! – снова перебил Доротеу, и слова его были встречены аплодисментами. – Я не отвечаю коммунистам… Продолжаю: теперь, когда забастовка является преступлением, предусмотренным конституцией, что мы выиграем? Мы только на ней потеряем: наши семьи будут терпеть нужду, правительство применит к нам репрессии. Какое нам дело до Испании? Только из-за того, что здесь работает несколько испанцев, по большей части – зловредных элементов… – Зловредный элемент – это твоя мать, наглец ты эдакий!.. – И один из испанцев вскочил на стул. Старый Грегорио потрясал колокольчиком. Полицейский жестом поощрил оратора. – Собрание надо отменить. Я голосую за закрытие собрания… – продолжал соглашатель. На стул вскочил негр Доротеу; каждому в зале стала видна его небольшая подвижная фигура. – Эта рожа – переодетый полицейский. Кто говорит о коммунистах? Здесь нет коммунистов или не коммунистов. Здесь – только рабочие, а рабочие всего мира составляют единую семью. Если мы не будем друг другу помогать, кто нам тогда поможет? Реакция? «Компания доков Сантоса»? Я предлагаю вышвырнуть вон полицейских и продолжать собрание. И сделать это поскорее, пока к ним не прибыли подкрепления, которые один из этих молодчиков вызвал по телефону… Долой Франко! Да здравствует Испанская республика! Не пришлось даже голосовать. Одноглазый грузчик, ранее охранявший дверь и особенно обозлившийся на шпиков после пререканий с ними, двинулся вперед, на полицейских; за ним последовали другие. Полицейские бегом стали спускаться по лестнице; провокатор из министерства вприпрыжку пустился вслед за ними. Освалдо снова взял слово. Он напомнил о необходимости принять решение возможно скорее, пока не успеет нагрянуть полиция. Имелось конкретное предложение: грузчики и докеры Сантоса не станут грузить кофе для Франко ни на германский, ни на какой другой пароход. Забастовки они пока не объявляют, но начнут ее, если только будут применены репрессии к профсоюзу в целом или к кому-либо из товарищей в отдельности. Кто-то внес добавочное предложение: так как созвать новое собрание окажется затруднительным, облечь руководство союза правом объявить забастовку, если это будет необходимо. Оба предложения были приняты, и старый Грегорио просил присутствующих возможно скорее очистить помещение, пока еще не явилась полиция. Аристидес, секретарь профсоюза, собрав документы, последним спустился по лестнице, запер двери, положил ключ в карман. В эту минуту на улице показались автомашины, набитые полицейскими. Освалдо договорился с Доротеу о созыве собрания партийной ячейки для обсуждения создавшейся ситуации. – Будет присутствовать один товарищ из районного руководства, – сказал он. 3
Германский пароход стоял у причалов, недалеко от того места, где были расположены склады с грузом кофе. Из города пришли любопытные посмотреть, что происходит в порту. Но жизнь шла нормально: суда нагружались и разгружались. Одна лишь бригада грузчиков, назначенных для работы на германском пароходе, не вышла. Вместо нее должны были вызвать другую бригаду. Утренние газеты ничего не сообщили о происходившем накануне собрании. Они ограничились информацией местного управления политической полиции о том, что помещение профсоюза грузчиков занято полицией и опечатано ввиду угрозы волнений со стороны экстремистских элементов. Тем не менее весть о принятом грузчиками решении распространилась по всему городу и уже достигла Сан-Пауло, откуда в Сантос были направлены грузовики с полицейскими. Баррос, ставший теперь инспектором охраны политического и социального порядка, вел долгие телефонные переговоры с полицией Сантоса. Он отдал решительный приказ: если до наступления вечера грузчики не начнут погрузку, начать аресты. – Необходимо показать этим мерзавцам, что теперь не времена либерального режима… Теперь у нас Новое государство: или повинуешься, или получаешь взбучку. Никаких полумер! Надо сразу же отсечь коммунистам голову. И я ее отсеку. Мне предоставлена полная свобода действий, и я ничего не боюсь, Если понадобится стрелять, стреляйте! Я пришлю вам еще людей… Завтра кофе должно быть погружено, завтра – самое позднее. В случае необходимости, я лично приеду в Сантос. Этим же утром в Сантос с первым автобусом приехал Руйво. Он встретился с Жоаном в доме товарища, у которого тот остановился. Жоан ему сказал: – Нам придется нелегко. Все будет зависеть от того, удастся ли вызвать движение солидарности, когда забастовка будет объявлена. Полиция не замедлит применить репрессии к союзу грузчиков. Она следит за всеми руководителями профсоюза. Забастовка может надолго затянуться: портовые рабочие – это нечто исключительное, их боевая готовность огромна. Однако сколько времени они смогут продержаться? Вот в чем вопрос. Надо немедленно позаботиться о двух вещах. Во-первых, начать в Сан-Пауло, здесь, в Сорокабе, в Кампинасе, в Сант-Андре – во всех рабочих центрах кампанию за финансовую поддержку забастовщиков. И, во-вторых, одновременно с этим надо развернуть агитацию на фабриках за объявление забастовок солидарности с грузчиками Сантоса… – А как обстоят дела здесь? – Ты читал мой доклад? Вот что я в нем писал… Организация чрезвычайно слабая. Все называют и чувствуют себя коммунистами, а между тем партийная организация крошечная. Когда я сюда прибыл, даже ячейка грузчиков представляла собой почти пустое место: хорошие, преданные партии товарищи, но заражены сектантством, боятся вербовать новые кадры. Положение несколько улучшилось после моего вмешательства. Как бы то ни было, но теперь ячейка уже направляет работу союза грузчиков. В нем все люди наши; среди них нет ни жетулистов, ни интегралистов, ни армандистов. Несколько анархистов, главным образом среди испанцев, но в данном случае им с нами по пути… Хуже обстоит дело на предприятиях: во многих совсем нет организаций, в некоторых – два-три товарища… Я постарался создать новые ячейки: за эти два месяца было сделано все возможное. Представь себе, среди персонала крупных отелей побережья не было партийной ячейки. Но я нашел молодую негритянку, жену одного нашего товарища, и она оказалась способным партийным работником. Думаю, что, несмотря на все трудности, мы можем рассчитывать и здесь, в Сантосе, на энергичное движение солидарности. Вот уже два месяца, как я подготовляю для него почву… Вчера провел собрание ячейки грузчиков, все с ними обсудил. Как я уже сказал, их боевой дух просто замечателен… – Эта забастовка будет иметь огромное значение. Если нам удастся добиться расширения забастовочного движения, мы сможем сокрушить фашистскую конституцию. Если нам удастся доказать рабочим, что, несмотря на запрещение «новым государством» забастовок, они возможны, мы нанесем сокрушительный удар по конституции Жетулио. Когда ночью Руйво возвратился в Сан-Пауло вместе с надежным шофером машины, груженной аргентинскими фруктами, положение стало еще более напряженным. Один из секретарей профсоюза, а также старый Грегорио и испанец Пепе были арестованы после того, как третья по счету бригада грузчиков, назначенная грузить кофе, не вышла на работу. Наряд военной полиции охранял германский пароход, и полицейские посты у въезда в город обыскивали приходящие из столицы штата или отправляющиеся туда автобусы. Известие об аресте профсоюзного руководства пришло в порт во время ночной смены. Его принес Доротеу вместе с решением, вынесенным оставшимися на свободе членами руководства: в знак протеста против арестов работа должна быть немедленно прекращена. Комиссия, составленная из профсоюзных руководителей и грузчиков, собиралась отправиться в полицию для переговоров об освобождении арестованных. Несколько минут спустя работа в порту остановилась. Грузчики собирались группами и обсуждали события. Передавали, что полиция при аресте избила Пеле на глазах его жены. Солдаты военной полиции в боевой готовности охраняли германское судно. Двери склада, где находился предназначенный к погрузке кофе, еще оставались открытыми в ожидании грузчиков, которые должны были начать работу. Доротеу уселся на выгруженные с какого-то судна рельсы, извлек свою гармонику и принялся наигрывать мелодию, которой его научил один французский моряк. Это была зажигавшая сердца людей «Марсельеза». Приступили к выбору делегации, которая вместе с менее известными полиции профсоюзными руководителями должна была отправиться для переговоров. Полицейские агенты и молодчики из министерства труда вертелись тут же, вслушивались, старались завязать разговоры с грузчиками, советовали им грузить кофе и не затевать такой глупости, как забастовка. Время от времени в той или иной группе вспыхивал громкий спор, раздавались ругательства. К одиннадцати часам вечера делегация наконец-то была составлена и направилась в полицию. Были сформулированы требования: освобождение трех арестованных товарищей, возвращение профсоюзу его помещения. В случае принятия этих требований забастовка не будет объявлена и грузчики ограничатся отказом от погрузки кофе для Франко. Если же требования будут отклонены, весь порт с завтрашнего утра начнет забастовку. Под остановившимися подъемными кранами, около неподвижных машин собирались группами докеры. Теперь, когда помещение союза было захвачено полицией, рабочие сходились здесь, на набережной, у самого моря. Весть об аресте профсоюзного руководства достигла убогих рабочих кварталов, и докеры, грузчики, носильщики шли в порт узнать новости. Доротеу следил по часам на здании таможни, сколько прошло времени после ухода делегации. Было уже половина первого ночи, а делегаты все не возвращались. Людьми стало овладевать беспокойство. Негр Доротеу поднялся с места, вытер о рукав куртки свою гармонику, на которой он только что кончил играть самбу, и сказал: – Они очень задержались. Им уже давно пора вернуться. Все это мне не нравится. А что если мы пойдем и станем ждать их на площади против здания полиции? С Доротеу отправилось около тридцати человек. Близ порта на центральных улицах уже было пустынно. Оставались открытыми лишь несколько ночных кафе; только сыщики сновали по улицам, обыскивая редких прохожих. Чтобы избежать встреч с полицией, грузчики пошли самыми глухими улицами. Здание полицейского управления было ярко освещено. Вдоль тротуара стояла вереница автомобилей. Рабочие остановились на противоположной стороне улицы и стали дожидаться. Не прошло и минуты, как в дверях управления появилось несколько полицейских, которые, перейдя улицу, подошли к рабочим. Один из них спросил: – Что вы здесь делаете? Что вам надо? – Мы дожидаемся делегации профсоюза грузчиков, которая пошла на переговоры с начальником полиции, – ответил Доротеу. Полицейский резко возразил: – Отправляйтесь по домам. Скопления на улицах запрещены. Тем более перед зданием полиции. – Они еще долго задержатся? – Как знать… А вы уходите отсюда. И поживее, если не хотите угодить за решетку вместе с остальными. – Их арестовали? – И вас арестуют, если в течение пяти минут вы не уберетесь отсюда. Ну, живей, по домам! И если у вас есть головы на плечах, завтра с утра выходите на работу. – Это мы еще посмотрим!.. – в ярости ответил Доротеу. Но один из товарищей уже подталкивал его. – Пойдем, пойдем отсюда. Не надо делать глупостей… На другой день доки были пусты: забастовка началась. 4
На расстоянии многих и многих лиг[110] от океана, в негостеприимной глуши, в глубине Бразилии, где раскинулись феодальные фазенды размерами с целую страну, в которых не имеют силы писаные законы городов и куда не доносятся отклики событий, происходящих на побережье, верхом на выносливых лошадях продвигался многолюдный караван, состоявший из инженеров, техников и журналистов. Он держал путь к долине реки Салгадо. Достигнув подножья гор, путешественники сделали первый продолжительный привал. На лесной опушке усталые всадники слезли с лошадей и в ожидании обеда растянулись на земле, прячась от палящего солнца в прохладной тени деревьев. Светловолосые американские инженеры осматривались по сторонам, делали снимки маленькими фотоаппаратами. Одного из них привлекли сопровождавшие караван оборванные и изможденные кабокло на фоне великолепного пейзажа девственной природы. Караван производил внушительное впечатление, и его участникам вплоть до вчерашнего дня путешествие казалось увеселительной прогулкой и сплошным пиршеством, состоявшим из завтраков, обедов и ужинов с обильными возлияниями. Дни, проведенные перед последним этапом пути на фазенде Венансио Флоривала, были великолепны. Бывший сенатор встретил путешественников с поистине царским гостеприимством. Этот прием напомнил, по меткому определению Эрмеса Резенде, о величии времен империи, когда собственники сахарных энженьо[111] и чернокожих рабов принимали в своих усадьбах самого императора, принцев и знатных иностранных гостей. – Вот это – Бразилия, настоящая Бразилия, – говорил Эрмес Шопелу, сидя с ним за столом, уставленным яствами. – Здесь истинная, великая, бессмертная культура Бразилии… Вся эта блестящая оболочка городов нам чужда; только здесь, в этих чащах, можно еще встретить подлинную Бразилию. В этом великолепии блюд и лакомств, в блеске золота и серебра, в идиллической сельской жизни… Поэт Шопел в это время пожирал цыпленка, поджаренного на вертеле. – Ах! Как я понимаю Дона Жоана VI[112], друг мой! Вот такой цыпленочек, позлащенный огнем, истекающий жиром… Этот цыпленок – целая поэма, мальчик, и нет в мире стихов, которые стоили бы одной капли этого жира!.. Эрмес Резенде – пользующийся успехом социолог и историк – предпочитал рыбу, приготовленную на кокосовом молоке, но, за исключением этой детали, в остальном был согласен с поэтом. – Нет сомнения, что наш гостеприимный владелец фазенды воплотил в себе настоящую бразильскую культуру. Даже будучи полуграмотным, он обладает всеми благами богатого стола, покойного сна, комфортабельного жилища, понимает, что такое роскошь цивилизации. Посмотри на этот помещичий дом и сравни его с неудобными жилищами обитателей городов. Наша городская буржуазия лишена вкуса, она подражает Парижу или Нью-Йорку, и только владельцы фазенд сохранили в неприкосновенности истинно бразильский стиль жизни… – Ты прав, мой друг, абсолютно прав: Венансио Флоривал – единственный культурный человек в Бразилии; он оплот нашей старой доброй цивилизации. Вот увидишь, когда я вернусь, я раструблю эту истину по всей стране, буду воспевать его в стихах и в прозе… Шопела и Эрмеса Резенде уговорил примкнуть к экспедиции в долину реки Салгадо Антонио Алвес-Нето, на фазенде у которого они оба гостили. Несколько лет назад Эрмес Резенде выпустил свое первое произведение – исследование о роли бразильского императора Педро I в жизни страны, – и критика с энтузиазмом приветствовала автора. По его адресу зазвучал хор похвал, странный по своему единодушию: все приветствовали его и цитировали эту книгу. Некоторая репутация левого придавала романтический оттенок ореолу его славы в литературных кругах, где его мнение было законом, где многие клялись его именем. Шопел, расстегнув после сытного обеда верхнюю пуговицу брюк, доктринерствовал: – Зло Бразилии заключается в нынешней мании индустриализации, в машинах и технических школах. Вот что делает наш народ несчастным, создает трудности, переполняет наши города пролетариатом, нищим, умирающим с голода. Нет ничего вернее избитой истины, утверждающей, что Бразилия в основе своей – страна аграрная. Если бы мы удовольствовались нашим крупным сельским хозяйством, если бы вся Бразилия состояла из одних фазенд, – мы были бы много счастливее… – А между тем вы, сеньор лицемер, возглавляете «Акционерное общество долины реки Салгадо», собирающееся индустриализировать глубинные районы страны!.. Вот и поймите… Поэт, не зная, что возразить, расхохотался: – Надо ведь жить, сынок, надо жить… Но когда я нахожусь здесь, среди этого счастливого изобилия, я ясно вижу нашу огромную ошибку. Шопел поднялся из-за стола и перебрался на веранду в гамак. Он лежал в нем неподвижно; его тучное округлое тело застыло, подобно питону, медленно переваривающему пищу. Эрмес Резенде, сопровождаемый владельцем фазенды, обходил плантации, питомники для скота, беседовал с батраками и рабочими. Иногда их сопровождал начинающий журналист, корреспондент газеты «А нотисиа», – молодой человек, никогда до сих пор еще не выезжавший из города, немного симпатизировавший коммунистам, но далекий от какой-либо политической активности. Его приводили в ужас невежественные, по большей части больные, со всеми признаками истощения и недоразвитости работники фазенды, обходившиеся минимальным запасом слов, преисполненные смирения, рожденного страхом. Как-то вечером, когда Венансио Флоривала с ними не было, журналист обратил внимание Эрмеса Резенде на бедственное состояние работников фазенды. – Они не живут, а прозябают… Чем это отличается от времен рабства?[113] Рядом с изобилием и роскошью дома сеньора кричащий контраст: вопиющая нищета колонистов. И он рассказал Эрмесу о том, как один из испольщиков, отвечая на его вопрос, сказал: «Все эти земли, вся округа, все поселки, леса, зверье и даже мы, люди, – все принадлежит сеньору полковнику Флоривалу…» Социолог на это возразил: – Даже и в этих жалких условиях они чувствуют себя счастливыми. – Счастливыми? – удивился журналист. – Да, мой дорогой. Они не знают о том, что они несчастны. Сознание, понимание нищеты – вот что делает людей несчастными. Как раз то, что происходит с городскими рабочими. Они несчастны, потому что революционная агитация разъяснила им, в каких условиях эксплуатации они живут. Не будь этой агитации, они бы примирились со своей участью и, следовательно, были бы счастливы. Так именно обстоит дело с сельскохозяйственными рабочими. Они примирились со своим положением, не стремятся ни к чему лучшему; они единственные счастливые существа в нашей стране… Им, в их нищете, можно только позавидовать… Они, как обманываемый женой супруг: он становится несчастным только тогда, когда узнает об измене… Не то ли и здесь? – Отсюда приходится сделать вывод, что лучше оставить все как есть?.. – А что же делать? Провести аграрную реформу, наделить их землей? Это значит превратить эти простодушные, далекие от всяких социальных проблем человеческие существа в людей, одержимых стяжательством и терзаемых этими самыми социальными проблемами. Кусок земли, который каждый из них при этом получит, не принесет ему счастья. Они по-прежнему останутся несчастными, но утратят свою социальную невинность… Журналист задумался. – Да… Может быть, оно и так… – Сами коммунисты держатся такого же мнения. Совсем недавно, еще будучи в Сан-Пауло, я разговаривал с Сакилой, и он тоже высказался против аграрной реформы. Он считает, что эта реформа может быть проведена только после индустриализации страны; я разделяю его точку зрения… Так оставим же в покое этих кабокло и не будем нарушать девственной нетронутости их мироощущения. Я социалист, но я против каких-либо радикальных мер, которые только сделают жизнь этих людей еще более тяжелой. Так как Сакила был для молодого журналиста единственным знакомым коммунистом, он считал его непререкаемым авторитетом. Он уважал также и мнение социолога и поэтому умолк, погрузившись в обдумывание тезиса, высказанного собеседником. Но его глаза не могли оторваться от картины потрясающей нужды работников фазенды. Он охотно написал бы серию очерков о нечеловеческих условиях существования тружеников фазенд. Но газета их бы не напечатала, в особенности теперь, когда весь материал, предназначенный для опубликования, контролировался департаментом печати и пропаганды. И молодому журналисту пришлось ограничиться описанием тривиальных событий во время путешествия и рассказывать читателям, как восхищались североамериканские инженеры красотами дикого сертана, великолепием оказанного им Венансио Флоривалом приема, речью, произнесенной профессором доктором Алсебиадесом де Мораисом, которому было поручено наметить план оздоровления долины. Однако молодой журналист не испытывал удовлетворения от этой литературной деятельности и чувствовал себя словно в паутине обмана. Он должен был (это рекомендовал Сакила, облекая его миссией специального корреспондента) подчеркнуть национальный характер нового индустриального предприятия, а в действительности увидел североамериканских специалистов, которые распоряжались всем, выступая в качестве бесспорных руководителей экспедиции, и по мере того как путешествие подходило к концу, дали ясно понять, что они вовсе не иностранные специалисты, нанятые бразильским предприятием, но подлинные и полновластные хозяева экспедиции, а в последующем – и всего предприятия. Шопел был всего-навсего декоративной фигурой; он даже не продолжал путешествия в долину, а остался на фазенде Флоривала дожидаться возвращения экспедиции. Плантатор, со своей стороны, уже говорил о землях, прилегающих к реке, как о своих новых владениях – оставалось только очистить их от кабокло. И в довершение всего Эрмес Резенде еще хотел уверить журналиста, что эти злополучные труженики ведут счастливую жизнь!.. Что произойдет в этой долине, к каким достижениям сведутся планы, о которых шумела пресса: железные дороги, фабрики, электростанции, больницы, школы – весь процесс превращения этой необитаемой долины в часть цивилизованного мира? Американцы – а ведь, несомненно, что ключ к выполнению этих задач в их руках – интересуются, как можно было понять, только местонахождениями марганца. На добычу марганца направлена вся их разнообразная деятельность, и молодой журналист не замедлил убедиться в том, что специалисты приехали сюда из Соединенных Штатов только ради этих пресловутых залежей марганца в долине; марганец составляет для них единственную ценность. И по мере того как журналист уяснял это себе, в нем росло чувство неопределенного, но неудержимого протеста. Его звали Жозино Рамос, он был хорошим газетчиком. Трудная часть путешествия только начиналась. Путь до фазенды Венансио Флоривала был легок и приятен: специальный комфортабельный самолет доставил участников экспедиции в столицу штата Мато-Гроссо. Автомобили, предоставленные в их распоряжение властями штата, привезли их на фазенду бывшего сенатора. Однако дальше в горах не было других средств передвижения, кроме лошадей. И вот участники экспедиции, изнемогающие от усталости, сделали первый привал у крутых склонов гор. Один из американских инженеров что-то объяснял по-английски Эрмесу Резенде. Жозино Рамос прислушался: инженер говорил о неотложной необходимости раньше всего построить аэродром по ту сторону гор, а потом уже приступать к разведывательным работам и строительству дорог. Американец доказывал социологу всю важность устройства' аэродрома: в случае войны этот аэродром имел бы огромное стратегическое значение… А разве Бразилия не союзница Соединенных Штатов? 5
Жилища работников были рассеяны по огромным территориям фазенд далеко одно от другого, и многие из их обитателей встречались изредка в поселке лишь в базарные дни. Поселок вырос у края дороги еще до того, как Венансио Флоривал скупил или отнял все эти земли у прежних владельцев. Рынок бывал здесь бедный: в немногих жалких ларьках можно было приобрести лишь кашасу, табак, керосин и кое-какие фрукты. Большую часть женского населения поселка составляли проститутки – больные и одряхлевшие, достигнувшие последней ступени падения. В дни, когда колонисты и испольщики со всех фазенд привозили на рынок и продавали здесь плоды своих трудов, единственная, вечно покрытая грязью улица поселка несколько оживлялась. Присев на корточки, кабокло разговаривали между собой, обменивались новостями, слушали пение слепых гитаристов. Мало-помалу земли Венансио Флоривала, владения которого неуклонно разрастались в сторону долины реки Салгадо, окружили поселок. И наступил день, когда обитатели поселка оказались на земле, уже принадлежащей бывшему сенатору; отныне они были вынуждены подчиняться его неписаным законам, голосовать за него на выборах, в день святого Жоана и на рождество подносить ему подарки, выполнять все его приказания. Он назначил в поселок субпрефекта. Школу в поселке закрыли за отсутствием учительницы, а обедню в часовне служили раз в год, когда приезжал священник-миссионер, посвятивший себя обращению в христианство диких индейцев. В солнечные дни проститутки усаживались у дверей своих глинобитных хижин, вычесывали друг у друга вшей и дожидались наступления ночи, надеясь, что какой-нибудь редкий гость с плантаций наведается к ним справить убогий праздник покупной любви. На самых подробных географических картах поселок был отмечен крошечной точкой; он именовался Татуассу. Однако вся округа знала его как «поселок полковника Венансио». Воскресенья были днями базарной торговли, и в поселок собирались работники и колонисты со всех окрестных плантаций. Рассказывали друг другу новости, сообщали о смертях и рождениях. Тем для бесед находилось не слишком много, разговоры часто перемежались долгим молчанием; фразы никогда не договаривались до конца, одни и те же немногочисленные слова повторялись помногу раз. И, несмотря на это, все же воскресенье для всех обитателей фазенд было единственным праздником; к нему готовились, о нем мечтали в течение целой недели. Для этого дня проститутки напомаживали дешевым брильянтином жесткие волосы, облекались в выстиранные платья, закупали кашасу. Иногда мужчины перепивались, дрались между собой и пускали в ход ножи; бывало, на рыночной площади оставался труп, а убийца исчезал в горах, спасаясь от возмездия. Так продолжалось уже много лет, и до самого недавнего времени все думали, что так будет продолжаться до скончания века. Однако за последние месяцы что-то начало изменяться в жизни поселка; это трудно поддавалось определению, но упорно разрасталось, расширялось и мало-помалу становилось главной темой разговоров крестьян, сходившихся на воскресный рынок. Сюда в глушь, почти на край света, проникли новые идеи. Они, разумеется, не могли быть выдумкой Нестора, служившего на кофейной плантации Венансио Флоривала; не могли они возникнуть и в голове Клаудионора – скромного мулата, отца пятерых детей и испольщика на другой плантации владельца фазенды. Но эти двое были их самыми восторженными поборниками; они не дожидались даже воскресенья для беседы с остальными обитателями поселка, а вечерами пробирались к соседям, усаживались на корточках у порога и начинали говорить. Может быть, эти идеи принадлежали сеньору Жозе, человеку огромной силы и гигантского роста; он неизвестно откуда взялся и время от времени тайком показывался на землях фазенды; он приносил с собой лекарства, лечил больных, рассказывал одно, объяснял другое, раскрывал на многое людям глаза. Этот человек представлялся колонистам каким-то таинственным существом, а между тем он жил в долине как простой колонист; там у него была хижина и участок, засеянный маниоком. Но теперь все жители поселка вспоминали, что такого рода идеи возникали у них и раньше, только им не приходило в голову, что их можно претворить в жизнь; они и раньше думали, что земля, которую они обрабатывали, должна быть их землей, должна принадлежать им. Почему такое огромное пространство земли принадлежит только одному человеку, притом человеку, который никогда не склонялся над ней, никогда не орошал ее своим потом? Почему только он получает от земли все ее богатства, а остальным приходится довольствоваться жалкими крохами? Ведь и раньше, встречаясь в воскресенье на рынке, им приходилось говорить друг другу со вздохом: – Эх! Если бы в один прекрасный день у меня оказался собственный клочок земли!.. Но раньше они не шли дальше тщетного вздоха, безнадежной жалобы. А теперь приходит Нестор и говорит им: «Люди, обрабатывающие землю, должны быть ее хозяевами…» И приходит мулат Клаудионор и убежденно шепчет: «Если бы всю эту землю поделить между теми, кто на ней трудится, то еще осталось бы и для других… Можно было бы жить с сытым брюхом и растить детей, которые теперь мрут с голоду…» А разве это не правда? Это просто себе представить, но как получить землю, обладать ею, пользоваться ее плодами? И Нестор объяснял: «Нас много – он один. Мы, объединившись вместе, будем сильнее, чем он». А Клаудионор рассказывал: «В одной очень далекой стране, которая называется Россией, поступили так: взяли землю и поделили ее между бедняками. Мы должны сделать то же самое». Однажды – это случилось после первого появления Жозе Гонсало на фазендах – батраки отправились к Венансио Флоривалу и просили заключить с ними письменный договор. Это походило на светопреставление. Владелец фазенды (в ту пору он еще был сенатором) совсем озверел. Он приказал избить Онорио – и так уже полумертвого от болотной лихорадки батрака – за то, что несчастный изложил просьбу товарищей. Сенатор выгнал их с территории усадьбы, пригрозил полицией, плетьми… Никогда еще они не видели своего хозяина в таком бешенстве. Снова появился Гонсало и, узнав о случившемся, объяснил батракам, что они должны были не просить, а требовать. На этот раз пришелец из долины пробыл в поселке несколько дней, остановившись в доме старого торговца кашасой, которому когда-то вылечил застарелую рану на ноге. Туда ночью к нему пришли Нестор и Клаудионор, пришли и другие. После этого они утвердились в мысли о том, что могли бы стать хозяевами земли, и еще яснее поняли, как несправедливо поступали с ними. Так среди жителей поселка Татуассу возник новый, интересующий всех вопрос, и колонисты и батраки теперь с удвоенным нетерпением ожидали воскресного дня, когда соберется рынок, чтобы обсудить между собой то, о чем с каждым днем все больше и больше говорили им Нестор и Клаудионор. В последнее время появились даже печатные листовки, которые Гонсало получил из Сан-Пауло; в них разъяснялось, что такое аграрная реформа, говорилось о необходимости для крестьян бороться за землю. Немногие грамотные жители поселка читали их вслух многим неграмотным. Колонисты слушали и медленно кивали головами в знак одобрения. Только несколько самых старых, уже стоявших одной ногой в могиле, нашли, что все это – выдумки дьявола, который вводит во искушение честных людей. Слепые музыканты, имевшие обыкновение отзываться на все местные события, уже складывали песни, в которых отражались эти новые идеи; Земля вся станет нашей, Найти ли жизнь нам краше? Ведь каждый будет сыт. Устроим детям школы, И в классах рой веселый Детишек загудит. Слепой Дока Фагундес, лишившийся зрения более двадцати лет назад, питал с тех пор глубокую ненависть к своему хозяину – Венансио Флоривалу. Как-то под вечер он работал неподалеку от господского дома; хозяин позвал его помочь зажечь керосиновые лампы, привезенные из города; как роскошное новшество. Одна из лампы взорвалась, пламя обожгло Фагундесу лицо, он лишился обоих глаз; сенатор не оказал ему никакой помощи, не выразил даже сожаления. С тех пор Фагундесу пришлось жить на подаяние за песни, которые он складывал и пел на рынке. И он откликнулся на эти шопотом ведущиеся между колонистами и батраками фазенды разговоры: Здесь на землях беспредельных Восседает злой паук. У крестьян же безземельных Все богатство – пара рук. Для сеньора Флоривала Недалек расплаты час: Коммунизм – отличный малый И заступится за нас. Коммунизм нагрянет скоро Для свершения суда: Он отнимет у сеньора Эти земли навсегда Они воображали себе этот Коммунизм – о нем им все время твердили Нестор и Клаудионор – в виде одного из легендарных существ, рассказы о которых передавались из поколения в поколение, от бабушек к внукам, – рассказы о великанах, мулах без головы, оборотнях, вампирах. Таким представляли и воспевали Коммунизм слепые музыканты в своих песнях: он явится отдать землю тем, кто ее обрабатывает, отняв ее у господ, которым она до сих пор принадлежала вместе с жизнью работников. Как-то раз в округе здешней Коммунизм я повстречал. – Ты куда, мой друг сердечный? – Коммунизму я сказал. – На фазенды Флоривала,– Он промолвил мне в ответ. – У него земли немало, У других же вовсе нет. Беднякам обиды пущей Дожидаться не хочу: Я защитник неимущих, Беспощаден к богачу. Так пели слепые музыканты в поселке Татуассу, на землях Венансио Флоривала, в то время когда экспедиция инженеров, техников и журналистов верхом на лошадях вступала в предгорье, направляясь в долину реки Салгадо. 6
Подсев к примитивному светильнику, который чадил и мигал красноватым огоньком, Нестор детскими каракулями старательно выводит трудные очертания букв. На лице его – напряженное внимание к тонкой и сложной работе: надо следить за рукой, держащей карандаш, не позволять ей уклоняться в сторону, к чему она имеет поползновение. Нестору уже двадцать пять лет, но только теперь он учится читать и писать. Это нелегко; иногда ему кажется, что не совладать с непослушной рукой, не заставить ее правильно выписывать гласные и согласные. Жозе Гонсало, Дружище, живущий в долине, исписал для него два листа линованой бумаги гласными и согласными буквами. Сначала каждой в отдельности, потом соединенными в слова. Нестор смотрит на эту вереницу букв, которые он должен списать, с чувством глубокого восхищения перед правильностью их очертаний, перед четкостью, с которой они выписаны. Как воспроизвести их, ни в чем не исказив? Как закруглить хвостик буквы «а», как добиться, чтобы обе ножки «н» были одинаковой величины, как помешать букве «с» превратиться в «о»? Оказывается, это еще труднее, чем чтение, – сначала по слогам, потом целыми словами. Искусство письма стоит ему гораздо больших усилий: глаза свыклись с буквами легче, чем огрубевшая от работы рука. Когда Нестор, выполняя совет великана, принялся за освоение тайн букв по старой азбуке, добытой в поселке, он не мог с ней справиться на первых порах: буквы смешивались, путались, плясали у него перед глазами. В первые дни, когда глаза его застилало туманом и они отказывались различать, каждый в отдельности, эти таинственные знаки алфавита, он впадал в отчаяние и чуть не плакал от бешенства. Но для Нестора это было необходимо: как он будет читать другим листовки и книжки, разъясняющие правду, если не научится читать сам? Как изучит книги, о которых говорил ему Гонсало? Недостаточно чувствовать, как пламя протеста разрастается в твоей собственной груди, – надо уметь разжечь его у других, а для этого нужно уметь читать и писать. Голос великана из долины звучит в его ушах; он дает ему все тот же, много раз повторяемый совет: «Твоя первая задача, Нестор, – выучиться читать и писать». В конце концов, его глаза привыкли различать и не смешивать буквы, схватывать каждую из них в отдельности. Губы складывали эти буквы и слоги в знакомые ему слова, а также и в другие слова, дотоле ему неизвестные. Теперь он уже мог с некоторым усилием почти бегло читать. Гораздо труднее для него было письмо: рука оказалась куда менее послушна, чем глаза; рука с мозолями, натертыми топором и косой, тяжелая, не умеющая обращаться с карандашом, разрывающая бумагу, выводящая буквы вкривь и вкось. Как научиться вычерчивать эти буквы с округленными загибами и соразмерными линиями? Капельки пота выступают у него на лбу, несмотря на прохладу ночи. Нестор чувствует острую боль в руках, держащих карандаш. Карандашом труднее работать, чем топором при рубке деревьев, чем заступом, когда копаешь землю. Но он не должен и не может сдаться. Густой чад от коптилки волнами расплывается по глинобитной хижине и сквозь ее щели вырывается наружу, в ночь. Нестор с усилием выводит каракули. Старик растянулся на деревянной койке. Он кашляет от хронического катара легких, лицо его изборождено морщинами. Из-под грубой холщевой рубашки видна исхудалая грудь. Он с волнением и страхом следит за внуком. Что он там делает, склонившись над бумагой, теряя время, вместо того чтобы лечь спать, отдохнуть от дневной страды на плантации? Что это еще за выдумка – учиться читать и писать? Разве до сих пор он не жил без этого? К чему простому сельскохозяйственному рабочему полковника Венансио Флоривала эта роскошь? Старик живет на этих землях уже больше шестидесяти лет; здесь родились, жили и умерли его дети – среди них и отец Нестора – жили, работая сначала на отца бывшего сенатора, потом на него самого. И никто из них не умел читать, никто из них не умел писать. Какой в этом прок, если их удел – обрабатывать землю, собирать урожай кофе, сушить на усадьбе фрукты, выгонять на пастбище скот? Читать и писать – это для городских жителей, для докторов и политиков, для владельцев фазенд и их управляющих. А им – арендаторам-колонистам и батракам – эти выдумки ни к чему. Их дело – рождаться и умирать, а в промежуток между рождением и смертью гнуть от зари до зари спину, чтобы зарабатывать на кусок хлеба и на тряпье для одежды. Чего добивается Нестор разговорами о том, что нужно отнять землю у полковника Венансио и разделить ее между арендаторами и батраками? Найдется ли во всем свете человек, который осмелится пальцем шевельнуть против Венансио Флоривала? Против владельца огромных пространств земли, миллионов кофейных деревьев, тысяч голов скота, имеющего собственную охрану, распоряжающегося военной полицией штата, – человека, голос которого заставляет дрожать людей на много лиг в округе? Конечно, Нестор – одержимый: в него вселился злой дух. Эти затеи с чтением и письмом – выдумка дьявола, который свободно разгуливает по ту сторону гор, в лесах долины. Старик кашляет еще сильнее и шепчет слабым хриплым голосом, в котором звучит упрек: – Ах, какое дурное дело ты затеял! Бес в тебя, видно, вселился… Ты всех нас погубишь: восстаешь против законов господа бога… Нестор отрывает усталую руку от бумаги. Он светлокожий кабокло с черными зачесанными назад волосами; его узкие, похожие на монгольские, глаза постоянно улыбаются. Он переводит взгляд на лежащего на койке старика, своего деда. В этих краях стариков мало: здесь люди умирают молодыми. Много болезней гнездится в этих местах; малярия и туберкулез здесь врожденные. Врачей нет, и единственное лекарство, которое можно получить в поселке, – хинин. Вот почему к старикам – к тем, кто сумел прожить долгие тяжелые годы, – здесь относились с нежной почтительностью; стариков слушались, их советы были законом. Но Нестору с момента его первой встречи с Гонсаланом нынешний год открыл много нового. Мудрость стариков утратила для него прежнее значение: она была мудростью рабов, наукой беспрекословного повиновения; она шла от хозяев земли, ее проповедовали святые отцы. Она сводилась к нескольким пословицам, к многократно повторяемым утверждениям, полным смирения и боязни, безнадежности и покорности судьбе. «На все воля божья; судьба от бога», – поучали старики и думали, что этим объясняется все: почему одни родятся для богатства и власти, а другие – для нищеты, тяжелого труда и слепого повиновения. «Никому не дано изменить свою судьбу», – добавляли они. А Нестор узнал от Гонсалана (это же узнали мулат Клаудионор и еще некоторые и стали передавать остальным), что каждый человек – хозяин собственной судьбы, каждый может изменить жизнь – и свою и тех, кто его окружает. Все зависит от себя самого, а мудрость стариков бывает обманчивой. – Ты потерял свое здоровье, дедушка, трудясь на этих землях. Ты поседел, возделывая кофейные плантации, обрабатывая на волах землю для полковника Венансио. А что ты за это получил? Грудь твоя надорвана, ты худ и истощен, и все это – чтобы разжирел полковник. Чего ты добился? Ты даже не выучился читать, но зато полковник научился, как легче тебя обманывать, как лучше грабить. – Как у тебя хватает дерзости называть полковника вором? Разве ты не знаешь, что он может приказать схватить тебя, отстегать плетьми, может приказать убить тебя, если захочет? – Он может только потому, что мы это допускаем, дедушка. – Он хозяин земель, хозяин всего. – Он хозяин земель только потому, что мы это допускаем, дедушка. Мы все спим, у нас закрыты глаза, дедушка, мы ничего не видим. Нас одолевают болезни, мы голодаем, наши дети мрут как мухи, а наш кофе, скот, маниок и маис мы отдаем полковнику. А какой нам от этого прок, дедушка? Мы обрабатываем землю, орошаем ее своим потом, мы родимся и умираем с лопатой в руках, и все это оттого, что земля принадлежит ему, А кто ему ее дал? – Бог дал, а бог знает, что делает. – Не бог ему дал землю – полковник сам захватил ее, обманув одних и ограбив других. Он никогда не брал в руки лопату; почему же ему все принадлежит? Если мы объединимся, земля станет нашей, и мы будем ею распоряжаться. – Какой дьявол в тебя вселился? Ты накличешь беду на себя и на всех нас. Я стар, я знаю больше твоего – ведь ты родился совсем недавно. Никто ничего не может сделать с полковником Венансио: он хозяин. Ты только вовлечешь людей в беду… – Дедушка, я хочу только добра, поверь мне. Ты стар, но не знаешь того, что знаю я. Ты думаешь, что повсюду на свете дело обстоит как у нас? Есть страна, где люди, подобные нам, уже устроили жизнь по-новому – так, как я тебе рассказываю. Он поднялся, открыл сделанную из переплетенных прутьев дверь, чтобы чад вышел на улицу, взял кусок жевательного табаку, разделил его пополам, дал половину старику, и они принялись жевать. У старика обнажились розовые, лишенные зубов десны. Нестор подошел к койке, но не лег; через открытую дверь он вглядывался в бесконечную ночь, раскинувшуюся над полями. – Даже если нам придется умереть, дедушка, то лучше умереть с ружьем в руке, сражаясь против полковника, чем умирать под плугом, на пашне, как подыхает скот. Пусть даже ценой наших жизней, но мы возьмем эти земли, разделим их между всеми. И если нам доведется прожить как хозяевам земли всего лишь один-единственный день, за это стоит заплатить жизнью. Выучиться читать и писать! Читать книги, газеты. Объяснять, выражать все, что чувствуешь и думаешь. Да, это необходимо! Чтобы убедить вот таких, как его дед, – старых и отчаявшихся, неверящих, преждевременно одряхлевших от нужды, примирившихся и трусливых. Нестор смотрит на свою большую руку: крепкая ладонь, шершавая, как напильник, толстые пальцы, черные от земли ногти. И он решительно поворачивается к доске, где под колеблющимся красноватым огоньком коптилки видны бумага и карандаш. Нестор берет карандаш, придерживает левой рукой лист бумаги и снова выводит каракули; черточки и петельки складываются в неуклюжие кривые буквы. Он пишет, пока его глаза не слипаются окончательно, и засыпает над бумагой, над каракулями. Дедушка просыпается – короток старческий сон, – гасит светильник, взмахами руки разгоняет чад. Над хижиной и над фазендой занимается утренняя заря. Можно подумать, что она родилась из бумаги, исписанной первым, робким почерком ученика и отсюда восходит над полями и хижинами. 7
Первое сообщение о долине реки Салгадо, напечатанное в вечерних газетах среди других телеграмм – о войне в Испании, о международных событиях и забастовке в Сантосе (сведения о последней сводились к извещениям полиции и информации, разосланной департаментом печати и пропаганды, – не произвело большого впечатления. Это была радиограмма, отправленная из девственных лесов на берегах реки Салгадо экспедицией специалистов и принятая радиостанциями в Куиабе. Радиограмма сообщала, что большая часть оборудования, необходимого для проведения изысканий, ночью похищена из лагеря экспедиции. Было ли это предостережением со стороны какого-нибудь дикого индейского племени, о существовании которого в долине до сих пор ничего не было известно, – молчаливым советом исследователям поворачивать обратно, или делом рук тамошних кабокло, чье враждебное отношение к экспедиции обнаружилось с первых же дней? В радиограмме высказывались обе эти гипотезы и подчеркивалось, что специалисты готовы остаться в долине и приступить к работам, как только будут присланы новые инструменты. На следующий день газета «А нотисиа» в утреннем выпуске напечатала более обстоятельное сообщение Жозино Рамоса – своего специального корреспондента при экспедиции. Коснувшись исчезновения ящиков с материалами (в некоторых из них находились ценные технические приборы, каких нет в Бразилии, привезенные североамериканскими инженерами), журналист затем описывал жизнь экспедиции, разбившей свой лагерь на берегу реки, у просеки девственного леса, кишащего москитами. Участники экспедиции большую часть времени отдавали охоте. Между строчками, посвященными живописным пейзажам, сценам охоты на ягуаров или изречениям Эрмеса Резенде, можно было благодаря нескольким сдержанным намекам понять, что «бандейранты долины реки Салгадо» находятся в состоянии, близком к панике. Жозино Рамос упоминал о том, что североамериканские специалисты нервничают ввиду «отсутствия духа сотрудничества со стороны рассеянного по побережью туземного населения, которое проявляет мало склонности видеть в участниках экспедиции носителей прогресса и цивилизации в этой чудесной долине, где, может быть, сосредоточены самые большие залежи марганца в мире». Кабокло при приближении кого-либо из членов экспедиции покидают свои хижины и исчезают в селве. Изыскателей окружает атмосфера изолированности, «даже, – писал корреспондент, – от леса и реки поднимались глухие угрозы против экспедиции». Более ясное и сильное впечатление от событий в долине реки Салгадо публика получила несколькими днями позже, когда газеты посвятили свои столбцы сообщениям о возвращении на фазенду полковника Венансио Флоривала части экспедиции с просьбой о помощи. Среди беглецов находился и Эрмес Резенде; его рассказ о событиях был напечатан во всех газетах. Социолог привел ряд соображений относительно «первобытной психологии» жителей побережья реки Салгадо, стоящих на такой низкой ступени культуры, как он утверждал, что она мало чем отличается от жизни диких зверей в девственной чаще. Не оставалось никаких сомнений, что именно кабокло ночью подожгли лагерь и этим поставили экспедицию в беспомощное положение. Большая часть лошадей разбежалась во время пожара, и возвращение участников экспедиции пешком через горы являло собой поистине плачевное зрелище. Часть инженеров и техников осталась на границе владений Венансио Флоривала в ожидании средств и материалов для работы в долине, а несколько человек добрались до фазенды сообщить о случившемся и просить помощи. Что касается самого Эрмеса Резенде, то он возвратится в столицу: он уже сделал достаточно наблюдений для своей новой книги. В газетных сообщениях подчеркивалось, что бывший сенатор Венансио Флоривал во главе надежных людей лично отправился навстречу экспедиции. Шопел, хотя и не присутствовал при драматических событиях, тоже дал интервью представителям прессы. Одна фраза из этой беседы была напечатана жирным шрифтом. Она гласила: «Мы приобщим к прогрессу этих несчастных кабокло, введем их в лоно цивилизации даже против их собственного желания. В этом – наш патриотический долг». В телеграмме, двумя днями позже отправленной Венансио Флоривалом Коста-Вале, бывший сенатор убеждал банкира в необходимости обеспечить специалистов, направляемых в долину, надежной охраной из солдат военной полиции. Он просил банкира срочно разрешить вопрос о владении землями долины, применив к кабокло силу. Полковник считал, что нельзя гарантировать безопасность исследовательских работ, пока кабокло будут оставаться хозяевами посевов маиса и маниока. Коста-Вале связался по телефону с Куиабой и просил наместника штата послать Венансио Флоривалу столько солдат, сколько ему понадобится. После этого он пригласил к себе Артура Карнейро-Маседо-да-Роша, который считался специалистом и в аграрных вопросах; своей адвокатской славой он больше всего был обязан именно громким «земельным процессам». 8
Уже было арестовано более сорока грузчиков, и против некоторых из них – профсоюзных руководителей и членов делегации, выделенной бастующими для переговоров с полицией, – было возбуждено судебное преследование. Однако забастовка продолжалась, и германский пароход все еще стоял в ожидании погрузки. В первые две недели забастовки дирекция доков Сантоса, агенты министерства труда и полиция пытались, пустив в ход обещания и грозя жестокими репрессиями, заставить грузчиков возобновить работу и погрузить предназначенный для Франко кофе. Если вначале в городе чувствовалось известное возбуждение, то к концу второй недели забастовки повсюду восстановилось полное спокойствие. Было настолько спокойно, что туристы, расположившиеся в роскошных отелях побережья, восприняли прибытие министра труда как приятный великосветский визит, который должен был оживить летний сезон и дать повод к празднествам и приемам, хотя в сообщении департамента печати и пропаганды, опубликованном в газетах, прямо указывалось, что министр приезжает с официальной миссией изучить in loco[114] создавшееся в Сантосе положение. Когда его превосходительство высадился из самолета и направился в правительственный дворец, где он должен был остановиться, мнения в Сан-Пауло разделились. Некоторые считали, что ехать теперь в Сантос – неосторожно, так как возбужденные страсти забастовщиков могли вылиться в бурную демонстрацию. Таково было мнение Барроса – инспектора охраны политического и социального порядка, а также наместника штата, который из-за своих прежних связей с армандистами чувствовал себя не очень уверенно на своем посту и боялся его лишиться, если бы с министром что-нибудь случилось. Баррос высказал свое мнение откровенно, без недомолвок, своим обычным грубым языком, который резал слух привыкших к юридической терминологии наместника и министра (и тот и другой были профессорами юридического факультета университета Сан-Пауло, а наместник, заслуженный старый профессор, раньше занимал даже пост декана этого факультета). – Забастовщики могут оскорбить ваше превосходительство, могут даже выгнать вас из города… – А для чего существует полиция? Неужели вы, сеньор, не в состоянии гарантировать мне безопасное пребывание в Сантосе? – По крайней мере, позвольте мне сначала самому навести там порядок… Коста-Вале держался диаметрально противоположного мнения. Банкир, к которому министр вечером заехал выпить виски (как ночной гуляка и любитель алкоголя, он был известен по всей стране, и про него ходили разного рода анекдоты), был раздражен. Из долины реки Салгадо получены дурные вести: лагерь экспедиции сожжен, и она оказалась вынужденной возвратиться на фазенду Венансио Флоривала. Забастовка грузчиков тоже ударяла по его интересам: его банк был тесно связан с «Компанией доков Сантоса». Когда министр, уставившись пустыми пьяными глазами на декольте Мариэты, объявил свое решение не ехать в Сантос, а послать вместо себя Эузебио Лиму, банкир потерял свое обычное спокойствие. – Что за мысль? Кто тебе вбил ее в голову? – Сам инспектор охраны политического и социального порядка сказал, что не может гарантировать мою безопасность… Коста-Вале поднялся с кресла. Привычным движением отер платком пот с лысины. – Послушай, Васконселос! Это дело нешуточное. Ты поедешь в Сантос и я с тобой. Мариэта выедет сегодня же в компании с комендадорой да Toppe. А мы – завтра и… покончим с этой забастовкой… Министр выпил стаканчик виски, желая придать себе мужество. – Ты считаешь это необходимым? – А ты как думаешь? Или ты находишь, что все это шутки, игра в забастовку? Эта забастовка – самое серьезное событие в Бразилии за последние годы. Понимаешь ли ты, что это значит, если Сантос – самый крупный порт по экспорту во всей Латинской Америке – приостановил работу? Можешь себе представить размеры убытков? Сколько мы теряем каждый день? И все это только потому, что несколько рабочих захотели иметь свое собственное мнение о международной политике! Неужели ты настолько слеп, что не видишь опасности? Со скрещенными на груди руками он остановился перед министром и тот, опустив осовелые от алкоголя глаза, пробормотал: – Да, я понимаю… Это все черти – коммунисты. Не так-то легко, однако, уладить дело. Я человек кабинетный, книжный. И мне кажется, что такие дела не решаются применением грубой силы. У идей тоже есть сила, Жозе. Банкир иронически улыбнулся, почти жалея министра. Мариэта немного подалась вперед, чтобы лучше наблюдать эту сцену. В такие моменты она восхищалась своим супругом. «Он хозяин», думала она, радуясь тому, что она его жена, хотя и не любила, а иногда даже презирала мужа. – Ты забыл, что ты адвокат – представитель интересов «Компании доков Сантоса»? Это одна из причин, благодаря которым ты стал министром труда. – Вот именно… И коммунисты используют это обстоятельство… – Для коммунистов у нас есть Филинто Мюллер, Баррос, полиция… Это их дело. А твое дело – поехать в Сантос и воздействовать на забастовщиков своим авторитетом министра. Я уверен, что тебе удастся все уладить. Ты красноречив, знаешь, как надо обходиться с этой публикой, тебя считают левым. Самого факта, что к забастовщикам обратишься ты, министр, будет достаточно, чтобы охладить бушующие страсти, – грузчики станут шелковыми. Немного попугать, немного пообещать, и они нагрузят все суда, какие ты только пожелаешь… – Хорошо… В Сантосе Эузебио Лиме – теперь он являлся начальником кабинета министра – было поручено ведение предварительных переговоров с забастовщиками. Баррос прибыл в Сантос днем раньше и распорядился об аресте некоторых, наиболее опасных подстрекателей. Тем не менее несколько человек, чьи имена стояли в привезенном Барросом списке, ускользнули от полиции; среди них был и Освалдо. Многочисленные сыщики охраняли отель, где остановились министр и Коста-Вале и где уже находились комендадора да Toppe со своими племянницами, Мариэта Вале и Артур Карнейро-Маседо-да-Роша. Они образовали центр великосветской жизни тех, кто проводил летний сезон на побережье. Войдя в отведенные для него апартаменты, министр нашел на столе, под хрустальной пепельницей, листовку: «Внимание, товарищи, внимание! Габриэл Васконселос, министр труда тирана-Варгаса, адвокат «Компании доков Сантоса», известный как «Габриэл-Пьяница», приедет сюда, чтобы попытаться обмануть забастовщиков Сантоса. Он пообещает все что угодно, лишь бы мы прекратили нашу справедливую забастовку и погрузили на гитлеровский пароход бразильский кофе, предназначенный для убийцы Франко, который нанес удар ножом в спину доблестному испанскому народу! Товарищи! Испанские рабочие сражаются за правое дело: за свободу, против гнета и нищеты. Их дело – наше дело! Вот наш ответ на демагогические предложения «Габриэла-Пьяницы»: Ни одного зерна кофе для Франко! Свободу всем арестованным забастовщикам! Прекращение судебного преследования против профсоюзных руководителей! Только при выполнении этих требований мы снова приступим к работе. Долой фашистское «новое государство»! Вон из Сантоса фашистского министра! Да здравствует международная солидарность трудящихся!» Были поставлены на ноги все сыщики, но им так и не удалось выяснить, каким образом листовка попала в номер министра. Несомненно, это было дело рук кого-нибудь из служащих отеля, связанного с забастовщиками. Но как его обнаружить? Негритянку Инасию, горничную на этом этаже, никто даже и не заподозрил. Среди переполоха, вызванного листовкой, она смотрела такими испуганными и такими невинными глазами, что один из самых ретивых сыщиков хитро ей улыбнулся и заметил своему коллеге: – Аппетитная негритяночка… Эузебио Лима на основе своих предварительных переговоров в порту внес предложение о конфискации находящихся в банке фондов профсоюза грузчиков. Оно было одобрено министром и проведено в жизнь. По мнению Эузебио, забастовка субсидировалась за счет этих фондов и продолжительность ее во многом зависела от них: на эти деньги существовали забастовщики и их семьи. Как только профсоюз не сможет использовать эти фонды, сопротивление забастовщиков будет сломлено. В охраняемом полицией холле отеля Эузебио объяснял министру и Коста-Вале: – Главари арестованы – Баррос хорошо поработал; он человек опытный. Когда бастующие будут лишены профсоюзных фондов, придется только подождать, чтобы голод доделал остальное. Пройдет еще несколько дней, и им не на что будет купить фасоль и муку. А когда пустое брюхо предъявит свои требования, у них не окажется другого выхода, как уступить, кончить забастовку и приняться за погрузку кофе для генерала Франко. За бокалом виски министр подписал декрет о конфискации профсоюзных фондов. Одновременно с этим он заявил о своей готовности вступить в переговоры с ответственной комиссией от рабочих, чтобы найти путь к прекращению забастовки. С этим предложением министра Эузебио Лима снова отправился в порт. А съехавшиеся на летний сезон великосветские гости окружили министра и просили дать согласие на устройство в его честь завтра «фантастического бала». Сузана Виейра, полуобнаженная, в модном купальном костюме, решительно заявила министру: – Нельзя так много работать, сеньор министр! В конце концов и заболеть можно. Лучше поговорим о костюмах для маскарада. Кем угодно быть сеньору? Что касается меня, то я буду царицей Клеопатрой… Сеньоры и сеньориты щебетали, лакеи разносили прохладительные напитки. Погода стояла чудесная. Из окон отеля была видна синяя ширь океана и огромная лента прибрежных песков, позолоченных солнцем. Здесь не говорили о забастовке, казалось даже, никто о ней и не знает, – все внимание было сосредоточено на приготовлениях к балу. К концу лета лучшее общество Сан-Пауло собралось здесь, в отелях Сантоса, и празднество в честь министра обещало быть чем-то сенсационным. Бертиньо Соарес с небесно-голубым платочком на шее, в отороченной кружевами шелковой рубашке и светлых полосатых брюках жеманился и своим женственным, срывающимся от волнения голосом объявлял всем: – Я придумал нечто гениальное: я наряжусь забастовщиком! Одним из этих страшилищ, спаси нас от них, боже! Кругом засмеялись, и громче всех смеялась Мариэта Вале, сидевшая за столиком у широко открытого окна и не сводившая глаз с Пауло, который тоже приехал на несколько дней в Сантос, чтобы, выполняя свой долг, поухаживать за племянницей комендадоры да Toppe. Уже всем было известно, что вскоре будет официально объявлена их помолвка, а на рождестве состоится свадьба. Сузана Виейра облокотилась на кресло, в котором покоился министр, и близость ее обнаженного, еще влажного от купанья тела довершала для его превосходительства ощущение полного блаженства, вызванного пребыванием в комфортабельном холле роскошного отеля, царившим вокруг оживлением, щебетанием дам, элегантной публикой, холодком мороженого в хрустальной вазочке, возбуждающим запахом коктейлей. «Приятные и хорошие люди, – думал он, – а их веселью угрожает темная, первобытная, варварская рабочая масса. По какому праву нарушает она эту радостную атмосферу цивилизованной жизни, это увлекательное веселье?..» Министр повернулся к сидевшему рядом Коста-Вале – единственному из присутствующих, кто, казалось, не интересовался предстоящим балом-маскарадом. – Эта забастовка окончится сегодня же. Я проявлю энергию. Сузана Виейра, услышавшая эти слова, дернула министра за пиджак и тоном упрека сказала: – Неужели сеньор не может забыть об этих противных вещах? Даже когда я около него? Я чувствую себя почти оскорбленной… Министр взял влажную руку Сузаны, к которой пристали мельчайшие песчинки, и поцеловал пальцы. – Это моя обязанность. Или вы думаете, хорошенький чертенок, что легко быть министром? Я должен оберегать всех вас. Вы наивны, вы не видите нависающей над вами опасности… А я должен быть на страже ваших интересов. Он потянулся за бокалом, но Сузана предупредила его, сама подала ему виски со словами: – Позвольте вас напоить, бедняжка. Вы так устали… Вы – наш защитник от красных… В это самое время Инасия выходила из отеля через служебный подъезд, неся руководителям забастовки деньги, собранные ею для бастующих грузчиков среди прислуги отеля. Она спешила также передать весть о конфискации профсоюзных фондов. В холле раздавался смех. Служащие украшали цветами и разноцветными фонариками главный зал, где должен был состояться бал. 9
На пристани, где замерла работа, грузчики собирались группами перед складами и беседовали. Суда будто спали на солнце перед неподвижными подъемными кранами. Германский пароход перенес свою стоянку подальше от берега на рейд, где и стоял теперь на якоре, – это было сделано из предосторожности. Солдаты военной полиции, с ружьями наперевес, охраняли ворота доков. Среди грузчиков шныряли полицейские шпики; забастовщики провожали их подозрительными взглядами. Повсюду громоздились горы ящиков и мешков, подлежащих погрузке на суда. Было около полудня, когда Эузебио Лима подъехал в министерском автомобиле к большим воротам доков. Он приказал одному из солдат позвать с пристани старшего сыщика. Это оказался молодой человек атлетического телосложения, присланный из Рио-де-Жанейро федеральной полицией. Из-под расстегнутого пиджака у него торчал револьвер. Эузебио Лима пожал ему руку. – Я хочу переговорить с забастовочным комитетом. – А чорт их знает, где у них здесь комитет, – ковыряя спичкой в зубах, сказал сыщик. – Члены комитета меняются каждый день. С тех пор, как мы кое-кого арестовали, они стали дьявольски осторожны. – Я хочу говорить с кем-нибудь из главарей… – Мы слишком миндальничаем с этими типами. Здешняя полиция словно боится забастовщиков. У нас в Рио другие методы. А здесь хотят, чтобы арестованные заговорили без зуботычин. Где это видано? Я надеюсь, что теперь, когда сюда прибыл сеньор Баррос, положение изменится. – Может быть, все уладится сегодня же. Здесь министр, и он хочет говорить с представителями стачечного комитета. – Покончить с забастовкой при помощи хороших слов? Этого никогда не бывало. Ну что ж, пойдемте… Забастовщики разговаривали, сидя на рельсах. Эузебио, сопровождаемый полицейским, приблизился к одной из групп и широко улыбнулся: – Добрый день… На него внимательно посмотрели. Некоторым было известно, кто он. Ответили на приветствие и молча ждали. – Я начальник кабинета министра труда. Министр прибыл в Сантос, чтобы уладить недоразумение. Я хочу переговорить с комитетом, возглавляющим забастовку, и условиться о встрече с министром… Один из забастовщиков начал было: – Вот этот това… Но другой перебил его: – Заткни глотку!.. Ты что, хочешь выдать товарищей? Разве ты не видишь, что он из полиции? Эузебио Лима истекал потом на полуденном солнце, спина у него была уже совсем мокрая. – Я не из полиции. Я из министерства труда. Даю честное слово, что явился сюда не с тем, чтобы кого бы то ни было арестовать. Я хочу только назначить встречу для переговоров стачечного комитета с министром. Ради благополучного завершения всего дела… Один из забастовщиков поднялся. – Довольно с нас переговоров, приятель! Уже одна наша комиссия отправилась в полицию да там и осталась; всех их арестовали… Кто поручится, что теперь не произойдет то же самое? – Но сеньор уже дал вам честное слово… – вмешался сыщик, прибывший из Рио. – А если наших ребят арестуют, что нам делать с его честным словом? Ведь им людей из тюрьмы не вытащить!.. Полицейский агент возмутился: – Не знаю, почему я до сих пор тебя не арестовал… – Попробуй, возьми!.. – сказал другой грузчик, поднимаясь с рельсов. Со своих мест встали еще несколько человек. Вид у них был угрожающий, они окружили своего товарища, говорившего с пришедшими. Эузебио Лима протянул руки, как бы желая внести успокоение. – Ничего подобного. Никого не собираются арестовывать. Я явился сюда не от полиции, а от министра труда. Я беру на себя ответственность… – Что вы предлагаете? – спросил один из грузчиков. – Ответственные представители забастовочного комитета должны обсудить вопрос с министром. Пусть комитет изложит ваши предложения. – Забастовочного комитета сейчас не существует, – возразил рабочий. – Комитет – это все мы, вместе взятые. Поэтому сначала нужно узнать общее мнение. Полиция арестовала руководство профсоюза, и теперь, для того чтобы решить, надо узнать мнение всех… Привлеченные спором, к группе подходили все новые люди, и очень скоро она разрослась, включив в себя почти всех грузчиков, находившихся в это время в порту. Новоприбывшие спрашивали, в чем дело. Тот, что разговаривал с Эузебио Лимой, объяснял: – В город прибыл министр труда… – Это нам известно… – …а вот этот тип, здесь перед вами, – он ткнул пальцем в Эузебио, – из его кабинета. Говорит, что министр хочет вести переговоры с комитетом. Эузебио в поисках тени, которая защитила бы его от палящих лучей солнца, отошел немного в сторону и оттуда наблюдал за обсуждающими его предложение людьми, ожидая их решения. Он велел отойти в сторону и полицейскому агенту: сейчас не надо им мешать. Мнения забастовщиков разделились: одни были за то, чтобы послать делегатов, другие требовали, чтобы министр сам приехал в порт. Примиряющее решение нашел Доротеу: – Зачем отвечать немедленно? Пусть он приедет после обеда. У нас будет время все спокойно обсудить. Такие вопросы сразу не решаются. Надо ведь выслушать также и других… – На слове «других» он сделал особое ударение, и всем стало ясно, что он имеет в виду Освалдо и остальных профсоюзных руководителей, скрывшихся от полиции. Тот, что раньше говорил с Эузебио, отделился от группы и снова подошел к нему. – Мы обсудим ваше предложение и дадим ответ к трем часам. Может быть, к тому времени будет составлена и комиссия, готовая отправиться с вами для переговоров. Но до этого нам надо все обсудить. После ухода Эузебио и полицейского забастовщики заспорили между собой еще горячее. Вокруг шныряли шпики, и Доротеу предостерег: – Ребята, тише! Здесь полиция. Он предложил пока разойтись и собраться снова к двум часам, созвав всех бастующих, а также пригласив профсоюзных руководителей. Собраться здесь же, в порту. Полиция не осмелится арестовать ни одного человека, если они соберутся все вместе. В два часа они окончательно решат, что им делать, и решение это будет принято всеми. Доротеу ушел из порта с одним товарищем. Предварительно удостоверившись, что за ними не следуют шпики, они отправились за Освалдо. К двум часам все грузчики были в порту. Они расположились перед складом, где хранился предназначенный для Франко кофе. Но Доротеу и профсоюзные руководители еще не появлялись. Освалдо послал товарища за остальными профсоюзными руководителями, еще оставшимися на свободе. Сам же он вместе с Доротеу пошел к товарищу Жоану. Изложили ему дело, втроем обсудили его со всех сторон, Жоан высказал свое окончательное мнение: – Наша задача – перейти в наступление. Министр желает вести переговоры с забастовочным комитетом? Очень хорошо. Забастовочный комитет готов разговаривать с министром. Но только большинство членов комитета арестовано. Пусть их выпустят на свободу – и комитет будет вести переговоры с министром. Пусть в первую очередь освободят руководителей профсоюза: Грегорио, Пепе и остальных. Это должно быть нашим первым условием. Хотите обсуждать вопрос? Очень хорошо. Но люди, которые могут вести переговоры, арестованы. Освободите их – и они придут с вами разговаривать. Вот что нужно им предложить. А в ожидании ответа надо подготовить большую уличную демонстрацию и, в случае отрицательного ответа, привести ее к отелю, где остановился министр. Других комитетов для ведения переговоров у нас нет: или арестованные товарищи – или вся масса рабочих. Таким путем мы сорвем маску с «Габриэла-Пьяницы» и в корне пресечем его демагогию. И второе наше условие – потребовать отмены решения о конфискации профсоюзных фондов. Освалдо и Доротеу принялись обсуждать каждый вопрос в отдельности. Жоан посоветовал: – Прежде всего соберите товарищей по ячейке и обсудите с ними положение. Я думаю, что рабочие согласятся с предложением – вести переговоры лишь в том случае, если в них примут участие арестованные товарищи. Но необходимо убедить их выступить с демонстрацией против министра, если он откажется освободить арестованных. Тогда мы сможем выгнать его из Сантоса, а это будет большое дело; оно послужит новым стимулом для продолжения забастовки. И еще одно: вы, профсоюзные руководители, должны все явиться сегодня на собрание. Прятаться нельзя. Это нужно для поднятия вашего престижа в глазах массы, которую вам предстоит убеждать. Народ защитит вас, не позволит схватить! Но даже если кого-нибудь и арестуют, все равно сегодня надо выйти из подполья. Заседание ячейки продолжалось. До этого много времени ушло на то, чтобы собрать товарищей – некоторых было очень трудно разыскать, – затем обсуждался вопрос о том, должен ли Освалдо присутствовать на собрании. Большинство товарищей высказалось против того, чтобы он подверг себя опасности быть схваченным. Полиция разыскивала его повсюду и, очень вероятно, попытается арестовать его на собрании. В конце концов, все же решили, что он пойдет под охраной нескольких выделенных для этого товарищей. Было уже почти половина третьего, когда Освалдо и Аристидес – первый секретарь профсоюза, которого полиция тоже повсюду разыскивала, – в сопровождении группы товарищей появились в порту. Грузчики, собравшиеся перед складами, встретили их аплодисментами. Расставленные поблизости полицейские всполошились. Но прежде чем они успели добраться до Освалдо и Аристидеса, толпа рабочих уже поглотила их. Освалдо улыбнулся и сказал Доротеу: – Войти было легко, труднее будет выйти… Шпики расположились у входа в порт и около складов. Их было с десяток, и они не спускали глаз с профсоюзных руководителей. Кто-то из грузчиков предложил начать собрание, потому что Эузебио Лима мог явиться за ответом с минуту на минуту. Собравшиеся сели и Освалдо заговорил: – Товарищи! Приезд министра труда в Сантос и его предложение начать переговоры с забастовочным комитетом – это уже наша победа. Я считаю, что мы должны принять предложение министра и вступить с ним в переговоры. Для этого нам незачем составлять какую-то комиссию: пусть с министром разговаривает руководство профсоюза… – Но почти все они арестованы… – перебил чей-то голос. – Совершенно верно: большинство руководителей профсоюза схвачено, поэтому надо их немедленно освободить, чтобы они могли вступить в переговоры с министром. – Толпа разразилась аплодисментами. – Таков должен быть наш ответ на предложение министра: мы готовы вести переговоры, но только пусть он распорядится сначала освободить наших профсоюзных руководителей. А если он на это не согласится, тогда вести с ним переговоры отправимся мы все – все забастовщики, все без исключения. Или руководство профсоюза – или мы все. Прибывший в это время Эузебио Лима услышал конец речи и гром аплодисментов, покрывший слова Освалдо. Полицейский агент из Рио-де-Жанейро подошел к нему и что-то прошептал. Эузебио ответил: – Не сейчас. После того как я уеду, не раньше. Аристидес, за отсутствием Грегорио председательствовавший на собрании, спросил: – Кто-нибудь еще хочет высказаться? Попросил слова один грузчик и предложил до начала всяких переговоров потребовать освобождения не только профсоюзных руководителей, но и всех арестованных участников забастовки. Пришлось ему объяснить, что вопрос об освобождении всех арестованных будет обсуждать комитет в переговорах с министром. Пока следует ограничиться требованием освободить руководителей профсоюза и тех, которые могли бы вести переговоры. Предложение Освалдо было принято единогласно. Решение сообщили Эузебио Лиме, и тот печально покачал головой. – Вы только усложняете положение. Министр полон самых благих намерений, он приехал сюда уладить конфликт. А вы сразу же начинаете требовать невозможного… – Невозможного? Освобождение четырех наших товарищей? Разве не сам сеньор говорил, что министр хочет вести переговоры с ответственной комиссией? Кроме руководства профсоюза, другой комиссии нет. Из руководства на свободе всего двое, а этого мало для ведения ответственных переговоров. Так что – или пусть освободят остальных, или мы все пойдем разговаривать с министром. – Хорошо, я доложу, но ничего не обещаю. Вы могли бы составить новую комиссию, а она, помимо всего прочего, просила бы министра об освобождении арестованных. – Нет. Единственная комиссия – это руководство профсоюза. – Вы злоупотребляете терпением министра, терпением правительства. Правительство хочет все разрешить по-хорошему, а вы противитесь. Будет хуже, если… – Если что? – Ну, хорошо, не будем сейчас спорить. Я передам министру ваше предложение. Но не думаю, чтобы он его принял. – Мы будем здесь ждать ответа. – Я протелефонирую. Не успел Эузебио Лима уйти, как раздался гудок полицейской машины. В воротах появился агент из Рио и с ним отряд полицейских. Грузчики столпились перед складом. – Они пришли арестовать Освалдо и Аристидеса! – крикнул Доротеу. – Выйдем отсюда все вместе… – предложил один из грузчиков. – А кто останется дожидаться ответа министра? – Пусть остаются четыре-пять человек, а остальные пойдут с Освалдо и Аристидесом. И вся масса двинулась к выходу. Это была внушительная толпа: крепкие, суровые люди решительно направлялись к воротам, где стояли полицейские. Агент из Рио выступил вперед и сказал: – Выдайте двух главарей и тогда можете уходить. – Попробуй, возьми! Толпа продолжала двигаться вперед. Полицейские, по приказу начальника, вынули револьверы. На миг забастовщиками овладело сомнение, нерешительность. Но тут снова закричал Доротеу, показывая на ящики, где находились ножи. Эти ящики предназначались для погрузки и отправки в северные порты. – Ножи! В несколько мгновений ящики были взломаны, и толпа вооружилась ножами. Полицейские не стали дожидаться, чтобы забастовщики двинулись дальше, – они побежали к автомобилям. – Живее! – крикнул Освалдо. – Все по домам! Полиция еще возвратится. Все по домам, никому не оставаться в порту!.. Однако не все послушались совета профсоюзного руководителя. Некоторые, увидев, как Освалдо и Аристидес под защитой товарищей сели в машину и уехали, решили остаться. Они обсуждали происшедшее, смеялись над бегством полицейских. Большинство побросало свое оружие; несколько грузчиков отправилось в ближайшие таверны, по дороге показывая ножи негритянке Антонии, сидевшей за лотком с фруктами и сластями и, как всегда, улыбавшейся. Однако минут через десять из-за угла выехало несколько машин, из которых выскочили с револьверами и автоматами в руках полицейские и сразу же открыли стрельбу. Перед складами началась паника. И почти тотчас же вслед за полицейскими машинами прибыли грузовики с солдатами. Солдаты заняли порт. Полицейские в ярости бросились на грузчиков и многих из них арестовали. Один из грузчиков сопротивлялся, агент из Рио выстрелил в него из револьвера. – Довольно вас, коммунистов, кормили мармеладом! Теперь попробуйте горького! Теперь мы вам покажем, как бастовать… Антония, чей лоток с фруктами и сластями был опрокинут в свалке, увидела, как грузчик упал, обливаясь кровью, и поспешила к нему, но полицейский навел на нее револьвер. – Прочь, черная ведьма, иначе я и тебя пристрелю! – Но он же умирает…– в смятении пробормотала негритянка. – Прочь, несчастная! – заорал полицейский агент и ударил ее рукояткой револьвера. С минуту она молча стояла между убитым и агентом полиции. Глаза ее расширились, слова замерли на губах. Вдруг в груди ее вспыхнула острая ненависть и нашла себе выход в исступленном крике: – Убийца! Убийца! 10
Пауло не любил сумерек: они вызывали в нем чувство беспокойства и грусти, какую-то смутную тревогу. В этот неопределенный час между днем и ночью, когда по небу скользят тени и повергают в печаль человеческие сердца, молодому дипломату жизнь представлялась бесполезной и лишенной всякого интереса. Из окна своей комнаты в «Гранд-отеле» он наблюдал за тем, как вечерние тени ложились на море, на элегантные виллы, на фигуры последних купальщиков на пляже. Но когда на столбах зажгутся электрические фонари и окончательно наступит ночь, – все станет лучше и проще. Около игральных столов или в танцевальном зале ему не придется задумываться, испытывать горечь от воспоминаний о Мануэле или Розинье да Toppe – племяннице комендадоры. Что за странное унизительное свойство человека, – думал он, облокотившись на выступ окна в этот час поздних сумерек, – его неспособность освободиться от страдания? Однажды в кругу литераторов, ведя спор с Шопелом, Пауло со свойственной ему циничностью утверждал, что нравственного страдания не существует вовсе. Только физическая боль является бесспорным фактом, и во власти самого человека – освободиться от всякого нравственного страдания, избавившись от всех предрассудков, от устаревших представлений о добре и зле, ставя себя выше всего этого. Кто может сказать, где кончается добро и начинается зло? Самое важное – это определить свою линию поведения, и он ее себе начертал: жить в свое удовольствие, брать от жизни все хорошее, что она могла ему дать, пренебрегая всем остальным, жить для себя и только для себя. Практически для Пауло это означало – не работать, располагать деньгами для своих причуд, читать кое-какие книги, посещать выставки, празднества, проводить время в обществе красивых женщин. Как легко было утверждать это в компании литераторов, выслушивая лицемерные возражения Сезара Гильерме Шопела: – Ты циник… И отвечать, выпуская клубы душистого сигарного дыма: – Я просто искренен. Куда труднее, однако, было на деле освободиться от моральных страданий, которые он объявлял несуществующими. И в особенности в этот мучительный час сумерек, когда кажется, что солнце, умирая, уносит с собой всю жизнь. Зачем, хотя бы одно мгновение, страдать из-за Мануэлы? Зачем беспокоиться о ней, о слезах, которые ей предстоит пролить? Зачем думать об ужасе, который отразится на ее нежном, напоминающем голубой фарфор, лице? Если все хорошенько взвесить, Мануэла должна быть ему только благодарной. В итоге нескольких месяцев их любви («В конце концов, что такое любовь, как не желание вначале, вслед за этим – обладание и затем – бесконечная усталость?» – определил он для самого себя) она многое приобрела, приобрела даже нечто такое, на что никогда и не смела надеяться: он вырвал ее из ее жалкого окружения, из гнетущей бедности и приниженности и ввел в блестящую сферу театральной жизни, в литературную и артистическую среду. Он подарил ей неожиданную известность, дал имя и славу, свиту поклонников и карьеру. Чего большего могла она желать? К чему же эта нелепая мысль – выйти за него замуж, связать себя друг с другом раз и навсегда? Откуда этот глупый стыд перед положением любовницы, по мнению Пауло, гораздо более привлекательным и романтическим, чем амплуа жены? Разумеется, он не женится: по многим причинам такой брак совершенно невозможен. Прежде всего – кто такая Мануэла, чтобы сметь претендовать на брак с Пауло Карнейро-Маседо-да-Роша, носителем славной фамилии, отпрыском старинного аристократического рода, сыном знаменитого адвоката, выдающегося политического деятеля, одно имя которого уже представляет собой несметный капитал? Может быть, она претендует на брак только потому, что, сходясь с ним, была девственницей? Но ведь это же феодальный предрассудок, давным-давно исчезнувший в других менее отсталых странах Латинской Америки, не говоря уже о Европе, где такой аргумент вызвал бы лишь смех. Пауло знал, что он не создан для брака. Домашний очаг, семья, детские колыбельки, привязанность и ласка супруги – все это для него были слова, обозначающие скучные чувства и ощущения, нечто пошлое и неудобное. И однако Пауло знал также, что ему все равно придется жениться, потому что отцовских денег недостаточно, чтобы вести тот образ жизни, какой ему хотелось. Он был бы не прочь еще несколько лет пожить на свободе, без этих брачных цепей, но случай, представившийся в настоящее время – племянница комендадоры да Toppe с ее миллионами, – принадлежал к числу таких, которыми нельзя пренебрегать. И брак этот не означал бы для него ни домашнего очага, ни семьи, ни плачущих детей, ни прикованности к другому существу. Он явился бы простой коммерческой сделкой: Пауло дал бы миллионерше – племяннице разбогатевшей проститутки – свое славное имя в обмен за гарантию никогда не испытывать нужды, не унижать себя работой, продолжать оставаться одним из дорогих украшений дипломатического корпуса, иметь возможность выбирать себе посты, какие ему больше понравятся, стоять выше министерства и министра. Его жизнь останется прежней, и жизнь племянницы комендадоры будет проходить рядом с ним, но отдельно от него, предоставленная ее собственным интересам. Иной будет любовь Пауло, иной любовь Розиньи, и если они окажутся благоразумными, то совсем не будут мешать друг другу. Избежать деторождения легко, когда располагаешь неограниченными средствами, легко избежать и скуки. Брак же с Мануэлой означал бы не только бедность – молодому дипломату пришлось бы клянчить, прибегать к протекции, чтобы не прозябать на скромных должностях где-нибудь в захолустных консульствах; пришлось бы всецело зависеть от политических колебаний в карьере отца – в этом браке он бы оставался в плену страсти Мануэлы, ее нелепого представления о любви, в плену ее докучливой и сентиментальной привязанности. Не изъявила ли она готовность отказаться от только что начатой карьеры танцовщицы, чтобы жить исключительно для него, для Пауло; быть его супругой, заботясь о доме, о детях, когда они появятся («ах, это страшная угроза – дети: шумные, дерзкие, несговорчивые существа!»)? Все это создавало перед ним перспективу рутинной жизни мелкого буржуа, одной мысли о которой было достаточно, чтобы привести его в ужас! Жениться на Мануэле, – но, великий боже, ради чего? Правда, он обещал ей жениться, но чего только он ни готов был пообещать в те дни, когда она все еще пыталась сопротивляться, а он желал ее больше всего на свете? Он сделал это в наивысший момент того чувства, которое Пауло называл любовью, но этот момент уже давно миновал; Мануэла теперь была для Пауло телом без тайн, началось пресыщение, и уже почти наступило время закончить этот роман. Несколько раз он испытывал желание откровенно сказать ей: «Моя дорогая, для всякой любви наступает конец, – наступил он и для нас. Давай разойдемся без гнева и останемся добрыми друзьями. Ты мне дала часы великого наслаждения, я создал тебе положение в артистической среде, и, если тебе удастся его использовать, ты далеко пойдешь в жизни. Мы с тобой квиты, ни один ничего не должен другому». Но почему он молчал? Почему не рассказал о том, что уже объявлена его помолвка с племянницей комендадоры? Почему и друзей своих просил ничего не говорить об этом Мануэле? Почему продолжал давать ей обещания, уверять, что он только ждет повышения, чтобы жениться на ней и вместе уехать. Почему он оказался трусом, несмотря на то, что рассуждал с такой холодной ясностью, был способен взвесить каждый аргумент и прийти к выводу, что от их романа Мануэла выиграла гораздо больше, нежели он сам?.. Чем она была раньше? Бедной девушкой из предместья, без всякого образования, лелеявшей несбыточную мечту стать танцовщицей и не обладавшей ни малейшей практической возможностью для претворения своей мечты в жизнь, обреченной вести скучное, скромное существование с перспективой выйти замуж за какого-нибудь мелкого приказчика из магазина или незначительного чиновника. А теперь благодаря тому, что она встретилась с ним и стала его любовницей, она танцует перед самим президентом республики, примет участие в гала-спектаклях муниципального театра; рецензенты уже заполняют газетные столбцы восхвалениями ее искусства, ее портреты помещаются в журналах, ее имя у всех на устах; дирекция крупного варьете предложила ей чрезвычайно выгодный контракт, и она уже ангажирована для съемки на амплуа инженю в бразильском кинофильме. Кто – даже в Бразилии, где репутации создаются и рушатся в мгновение ока, – сделал когда-нибудь такую быструю и головокружительную карьеру? Чего еще могла она желать? Выйти замуж? Но кто мешает ей это сделать? Претендентов найдутся дюжины, особенно – в легкомысленной среде артистов и литераторов, которая теперь составляла ее мир. Так почему бы не пойти к ней и не сказать откровенно: «Выбрось из головы мысль о том, чтобы стать моей женой. Найдутся многие другие, кто пожелает на тебе жениться и даст тебе то, чего ты хочешь: домашний очаг, детей, супружескую верность, постоянную любовь. И это не помешает твоей карьере, ты создашь себе еще большую славу, достигнешь еще больших успехов. Ты сможешь даже, если захочешь, в свои свободные часы сохранить меня в качестве своего любовника. Так разрешается всё – без драм и без слез…» И однако – где почерпнуть мужество, чтобы сказать ей все это? Беда в том, что его любовь к Мануэле в корне отличалась от любви Мануэлы к нему. Врожденная трусость не позволяла Пауло хладнокровно заставлять страдать других. А он знал, что Мануэла будет страдать и что он – как бы этого ни хотел – не сможет остаться безучастным к ее страданиям: он сам будет страдать за нее, кошмары будут преследовать его по ночам, потянется вереница мучительных дней. Вот почему он все время оттягивал час решительного объяснения. Ах, если бы не чувствовать, не обращать внимания на слезы, на рыдания, на горестное изумление Мануэлы… С тех пор как он приехал в Сантос, она уже успела трижды ему телеграфировать. Длинные телеграммы с требованием вестей о себе, с повторными заверениями в любви, вопросы о его здоровье. У Пауло даже нехватило духу написать ей письмо; он ограничился несколькими почтовыми открытками с видами побережья, сопроводив их формальными заверениями в любви. Когда он их писал, ему было очень скучно. В час, когда зажигались огни и исчезали неопределенные тени мучительных сумерек, в комнату к Пауло вошла Мариэта Вале. Услышав шаги, он оторвался от окна и улыбнулся ей, но без всякой радости. – А! Это ты!.. Она уже была одета к обеду; длинная черная юбка, плотно облегавшая ее талию, и простая белая блузка молодили ее. Она опустилась на стул и вынула из вазы розу. – Прости, если я тебе помешала. Но я не могла оставаться дома: там министр совещается с Жозе, с Артуром и еще с этим дурно воспитанным типом из министерства – ну, с тем, у которого вечно потные руки… – Эузебио Лимой?.. – Это ужасно, Пауло, что нам приходится общаться с такими субъектами! Они начинают с того, что являются в банк к Жозе, но неизменно кончают тем, что проникают к нам в дом, и мы вынуждены их принимать… – Увы, они необходимы, Мариэта. Именно эти люди оберегают твои миллионы от коммунистов… Нам никак не обойтись без этих Эузебио и Барросов. Точно так же, как ни один дом, сколь бы он ни был прекрасен и роскошен, не может обойтись без уборной… – Это ужасное свинство… – засмеялась Мариэта, стараясь прикрепить розу у выреза блузки. – Этот Баррос… Я его совершенно не перевариваю. На днях он был у нас и, пока дожидался Жозе, знаешь, о чем он мне рассказывал? О методах, к которым он прибегает, чтобы заставить говорить арестованных коммунистов: как он их избивает, подвергает пыткам… Этот человек – чудовище. – Но это чудовище тоже нам необходимо, Мариэта. Его приемы допроса могут действовать на твои и мои нервы, возмущать нашу гуманность. Но… что же делать? Даже этими методами не удается покончить с коммунистами. Вообрази, что произошло бы, если бы у нас в полиции работали мягкосердечные люди… Через два дня Престес захватил бы власть, а мы очутились бы в тюрьме… По существу, эти люди защищают наше право быть гуманными. – Мне это понятно; я ведь не сентиментальна. Но я не могу выслушивать описание пыток… То, что мне рассказал этот человек, – ужасно. Неужели он действительно все это делает? Вырывает ногти, избивает, гасит папиросы о тела арестованных? И он еще смеет говорить, что все это – только скромное начало. Я не позволила ему продолжать это описание… – На самом деле он делает еще гораздо больше и страшнее. Но это необходимо. Только ему не следовало об этом рассказывать; тебе вовсе незачем знать, каких страданий стоит твое счастье… – Мое счастье? Если бы оно на самом деле существовало… – Разве ты не счастлива? Я всегда считал тебя самым счастливым человеком из всех кого знаю… У тебя есть всё. Твой муж – самый могущественный человек Бразилии, и он исполняет все, что ты захочешь… В конечном итоге, ты самое могущественное лицо в нашей стране. Она поднялась, держа в руке розу. На лице у нее появилось выражение, которое его поразило. – Ты ничего не замечаешь, Паулиньо: ты слеп, настолько слеп, что ровно ничего не можешь разглядеть… – Чего именно? – спросил он обеспокоенно. – Ничего… – И она вышла из комнаты. Пауло открыл платяной шкаф, чтобы достать смокинг. Что происходит с Мариэтой? Почему она назвала его слепым? Неужели Шопел прав? Поэт незадолго до своего отъезда в долину реки Салгадо как-то вечером, когда они вместе пили чай в доме Коста-Вале, сказал ему: – Мой мальчик, дона Мариэта Вале не спускает с тебя глаз… и каких глаз!.. Она тебя ими пожирает, Паулиньо. – Ты – бессовестный! Мариэта могла бы быть моей матерью… – Она еще лакомый кусочек… – Совсем не то. Она знает меня с колыбели, фактически я вырос у нее на глазах. Да, она меня любит, но это чисто материнская любовь. – Материнская? Но где это видано, чтобы матери бросали на своих сыновей такие пламенные взгляды? Ты просто слеп… «Ты слеп»… И вот теперь сама Мариэта сказала ему те же самые слова. А что, если это правда? Действительно, Мариэта – великолепная женщина, и она, очевидно, могла бы быть исключительной любовницей. Пауло улыбнулся. Рядом с мелкими и раздражающими светскими обязанностями по отношению к Розинье да Toppe, с одной стороны, и пресыщением от приключения с Мануэлой – с другой, взгляд и неожиданные слова Мариэты представились ему началом нового волнующего романа, самого неожиданного и (как знать?), может быть, самого страстного. Он никогда не думал о Мариэте как о женщине, которую бы он желал; он никогда не смотрел на нее другими глазами, кроме глаз дружбы, – как на человека, чьи советы были всегда полны здравого смысла и чей интерес к его жизни всегда представлялся ему искренним. Но теперь он не мог больше думать о ней по-прежнему. В нем зародилось желание; он представил ее себе сидящей здесь, на стуле, с глубоким декольте, обнажавшим холеные плечи и шею, представил себе ее вспыхнувшие огнем глаза, жадные и пересохшие губы, когда она назвала его слепым. Неужели это правда? Он решил в дни своего пребывания в Сантосе выяснить все, что поможет ему раскрыть истинные чувства Мариэты. Но он не мог рисковать, не установив сначала действительного смысла ее последних слов, – ведь Мариэта была больше, чем друг: очень многое в его жизни зависело от помощи, которую она ему оказывала, – даже женитьба на племяннице комендадоры. А что, если и этот взгляд и эти слова не означали ничего иного, как признания того, что она была несчастна в замужестве, не любила своего мужа и чувствовала себя одинокой? Нет, он ничем не должен был рисковать, пока не выяснит лучше, а это, может быть, и не так уж трудно… В комнате и на улице зажегся свет. Он начал одеваться, уже не ощущая теперь мучительного гнета сумерек. Тревога и печаль исчезли, его скучающее лицо скептика выражало все возраставший интерес. Такого рода роман с женщиной, как Мариэта, – зрелой по годам, но еще прекрасной, богатой по жизненному опыту, но еще юной сердцем – о! – он мог быть интересным… Кто-то постучал в дверь. Это оказался Бертиньо Соарес, облаченный в белый «dinner-jacket»[115]. Он был очень взволнован. – Знаете новость, Паулиньо?.. Произошло столкновение между полицией и забастовщиками. Убит один рабочий… Говорят, волнение разрастается, забастовщики собираются напасть на отель. Я вне себя от испуга… Пауло вынул из вазы розу, схожую с той, что унесла Мариэта. Прикрепил ее в петлице смокинга. – Какое мне дело до забастовок, уличных стычек, убитых рабочих? Разве это может касаться моей жизни, моей большой, настоящей жизни? На свете, мой милый Бертиньо, важно только одно – это любовь… 11
Морской бриз принес с собою ласковую ночь конца лета. Полная луна проливала свой свет на порт, охраняемый солдатами. На асфальте против доков остались пятна крови – там, где был убит грузчик. Вдали на корабле кто-то пел, но слова этой песни не достигали города. Солдаты с опущенными ружьями, группами по двое, по трое, расхаживали около портовых складов. На следующий вечер из Сан-Пауло в Сантос прибыл Руйво. Сочувствующий компартии Маркос де Соуза, друг Марианы, взялся доставить Руйво на своем автомобиле. Чтобы проехать по улицам, охранявшимся полицией, Руйво пришлось спрятаться в машине. Его лихорадило; несмотря на жару, ему пришлось надеть плащ. Когда они подъехали к набережной, архитектор спросил, куда его отвезти. Руйво назвал улицу. Теперь архитектор вел машину молча: в течение всего пути он беседовал со своим спутником об искусстве и немало удивлялся, как этот простой рабочий мог столько знать и обладать такой эрудицией, как он мог так свободно рассуждать на темы, столь явно далекие его профессии, как живопись, архитектура, стиль церквей, скульптуры Алеижадиньо[116]. Руйво, смеясь над его удивленным видом, объяснял: – Политика означает для нашей партии жизнь – жизнь во всей ее полноте. Ничего из того, что интересует человека, нам не чуждо. И меньше всего – искусство. Знаете, почему вы удивлены? Потому что, несмотря на ваши симпатии к делу рабочего класса, вы еще продолжаете считать, что искусство должно оставаться уделом избранных. Вас изумляет, что какой-то рабочий может всем этим интересоваться. А мы, мы хотим, чтобы искусство, наука, литература стали достоянием всех, чтобы каждый человек мог понимать и обсуждать эти вопросы… – Именно, именно так. Вы правы. Никогда бы не подумал! Я представляю себе, что коммунизм – это пища и жилье для всех; меньше бедности и больше изобилия, меньше несправедливости и больше радости. – А почему искусство не должно быть для всех? – Возможно, вы правы… но я должен об этом поразмыслить… Маркос всмотрелся в пылающее лицо собеседника – тот, должно быть, очень болен. Маркос испытывал восхищение перед этими преследуемыми людьми, стремившимися изменить облик мира. Он чувствовал себя ничтожным в своем дорогом автомобиле, виноватым, что недостаточно помогает этому делу, в справедливости которого он не сомневался. Когда Руйво подал ему знак остановиться и сказал: «Я выйду здесь. Очень вам признателен», – он ответил ему: – Если хотите, я могу вас подождать, чтобы отвезти обратно в Сан-Пауло. – В этом нет необходимости. Я пробуду здесь несколько дней. – А что еще я бы мог для вас сделать? Говоря откровенно, мне хотелось бы сделать для вас еще что-нибудь. Мне нелегко объяснить, но, встречаясь с кем-нибудь из вас, я чувствую себя виноватым перед целым светом, что так мало делаю… – Я понимаю. Но вы нам помогаете достаточно. В другой раз, когда я возвращусь, мы об этом поговорим. Я извещу вас через Мариану. Я хорошо понимаю ваше чувство. Это – хорошее чувство. Маркос несколько смущенно улыбнулся. – Мариана просила у меня денег для поддержки бастующих. Я дал… Но теперь мне кажется, что этого мало. Я мог бы дать больше… – Он опустил руку в карман, вынул бумажник и протянул Руйво деньги. – Возьмите… Они вам нужны гораздо больше, чем мне. – Благодарю вас. Ночь, окутавшая улицу, поглотила Руйво. А Маркос де Соуза, направив машину к побережью, где были расположены фешенебельные отели, погрузился в размышления. Хорошо ли он делает, продолжая жить в комфорте, безопасности, покое, тогда как такие люди ведут борьбу в трудных, опасных условиях? Горя в лихорадке, Руйво спешил выполнить какую-то опасную миссию, тогда как он, Маркос, уверенный в справедливости и благородстве их дела, спокойно ехал в роскошный отель, чтобы там под звуки оркестра заняться изысканным обедом, как будто на свете не существует никакой неправды. Он всегда считал себя порядочным, хорошим человеком. Но если он таким представлялся для других, мог ли он искренно утверждать это сам о себе? Ах, если бы сейчас началась новая схватка между полицией и забастовщиками, он принял бы в ней участие так, словно бастовал вместе с другими. Когда автомобиль Маркоса отъехал, Руйво подумал: «Этот интеллигент переживает кризис, но это – хороший кризис. Он честный человек, может даже прийти к партии; ему надо помочь». Машина скрылась. Руйво поспешно зашагал к дому, где остановился Жоан. Они обсудили последние события в Сантосе. Партия решила послать Руйво в помощь Жоану, так как работы стало больше и задачи усложнились. – Несколько дней я пробуду здесь с вами, – сказал Руйво. – Это – решение руководства. Дело здесь все усложняется, и работы прибавится. Я займусь главным образом вербовкой новых членов партии. Забастовка должна быть использована для расширения партийной организации. Надо привлечь к себе наиболее боевых, закаленных и сознательных рабочих. Нужны новые кадры, чтобы заполнить бреши, пробитые в наших рядах реакцией… Жоан обрисовал положение в Сантосе. Сообщил о последних предложениях министра и об откликах на эти предложения среди бастующих: – Конфискация профсоюзных фондов многих поколебала. Нелегкое дело. Столько народу голодает… люди с большими семьями – и нечем кормить детей! Я предвижу угрозу массового отступления. Необходимо проводить самую энергичную агитацию. – И поддерживать солидарность с бастующими, – добавил Руйво. – Надо дать им почувствовать, что они не одни, что с ними все рабочие штата. Я привез с собой деньги, собранные в Сан-Пауло. – Столкновение с полицией, убийство одного забастовщика подействовали на массу как удар электрического тока. Рабочие и слышать не хотят о переговорах – настаивают на продолжении забастовки. Но сколько времени сможем мы удерживать такое положение? А если не начнутся забастовки солидарности?.. – Они начнутся. Может быть, первые из них вспыхнут уже завтра в Сан-Пауло и в Санто-Андре. Известия о сегодняшних событиях всколыхнут массу и поднимут ее на борьбу. Мы уже печатаем листовки о событиях в Сантосе, которые будут распространяться на фабриках и в рабочих кварталах. Руйво сообщил о работе, проведенной в столице и в индустриальных центрах внутренних штатов страны. Вести из Сантоса и в особенности сообщение об убийстве грузчика быстро распространились среди рабочих Сан-Пауло. Партийная машина пришла в действие, и, невзирая на полицейский террор, движение солидарности, возникшее с самого начала забастовки, быстро крепло. Предложение о проведении коротких забастовок протеста продолжительностью в полчаса – час всюду встречало хороший прием, а на некоторых фабриках такие забастовки даже возникали стихийно, и Руйво уверял, что завтра они вспыхнут на многих крупных предприятиях. Зе-Педро и Карлос работали в низовых партийных организациях, призывали товарищей мобилизовать все для выполнения этой задачи. Так же обстояло дело с финансовой помощью бастующим: и здесь можно было рассчитывать на новый подъем в связи с известием о конфискации профсоюзных фондов. – К несчастью, – добавил Руйво, – партийная организация еще слишком малочисленна, чтобы во всем объеме справиться с вставшими перед ней задачами. Поэтому необходимо усилить вербовку новых членов, охватить деятельностью партии все предприятия, увеличить число активистов. – Организационные вопросы очень беспокоили его. – Только теперь, – говорил он, – мы до конца поняли, какой вред нанесла партии сектантская политика Сакилы и его сторонников. Якобы желая оградить партию от проникновения провокаторов, они препятствовали вступлению в нее лучших представителей трудящихся, закрывали доступ новым кадрам. Они хотели низвести партию к горстке людей, к ничтожному числу боевых активистов. Нами уже многое сделано для исправления положения, но как много еще остается сделать!.. Немало еще у нас людей сектантски мыслящих… Нам предстоит совершить еще одно большое усилие именно теперь, когда полиция решила так или иначе уничтожить нас. Тебе известно заявление Филинто Мюллера? – Жоан отрицательно покачал головой. – На совещании в министерстве в Рио он сказал, что в течение полугода покончит с нашей партией во всей Бразилии. А Баррос повсюду кричит о том, что еще раньше этого срока в Сан-Пауло не останется ни одного коммуниста. Полиция развертывает бешеную деятельность, в особенности – после начала забастовки. Несколько наших товарищей арестовано… Его начал душить приступ кашля. В течение нескольких секунд Руйво боролся с ним; лицо его побагровело, он прижал платок к губам. Жоан, вглядываясь в Руйво, нашел его еще более похудевшим, совсем больным на вид. Несомненно, болезнь прогрессировала, а у Руйво по-прежнему не было времени лечиться. Когда приступ прошел, Жоан спросил: – Ты был у доктора? Руйво сделал неопределенный жест рукой. – Очевидно, я простудился во время последнего путешествия в Сантос. Меня привез Маркос. Он хороший человек, все теснее связывается с партией. Следует уделить ему больше внимания. Это интеллигент совсем иного рода, чем Сакила и вся его замкнувшаяся в себе сектантская клика. Это человек скромный и прямой. Беседа продолжалась. Жоан изложил планы завтрашней демонстрации, приуроченной к похоронам убитого грузчика. Они обсудили все детали. Затем Руйво заговорил об известиях из долины реки Салгадо, где продолжались волнения. Подведя первые итоги забастовки, они приступили к обсуждению плана дальнейшего развития стачечного движения. Если удастся воспрепятствовать погрузке кофе для Франко, «новое государство» потерпит первое крупное поражение… Только в конце беседы, когда уже были обсуждены все партийные дела, перед тем как отправиться на совещание с местными руководителями, – только тогда Жоан спросил о Мариане. Руйво улыбнулся и сказал, как бы оправдываясь: – Вообрази себе, я так увлекся делами, что до сих пор не удосужился сказать тебе о Мариане. Она чувствует себя хорошо и, как всегда, отлично работает, очень нам помогает. Просила меня позаботиться о тебе. Кстати, – он похлопал своей исхудалой рукой по плечу Жоана, – для тебя новость… – Новость? Что за новость? – Ребенок… Мне-то она ничего не говорила, но сказала моей жене… И Олга мне передала. Суровое лицо Жоана, носящее на себе следы усталости от огромной работы этих дней, просветлело, и он сказал проникновенным шопотом, как бы про себя: – У нас будет ребенок… Она ничего не написала мне об этом… А я получил от нее письмо неделю тому назад… – Он повернулся к улыбающемуся Руйво. – Ты знаешь, я всегда мечтал о сыне. Еще задолго до женитьбы. Я всегда любил детей. Когда меня послали в Сан-Пауло, тяжелее всего мне было расстаться с маленьким племянником. И в самые трудные дни, когда я чувствую, что мне не справиться с усталостью, когда во мне возникает желание все бросить и отдохнуть, – я всегда вспоминаю о детях, о малютках, которые умирают с голоду вскоре после рождения, или о тех, кто продолжает влачить жалкое существование, скитаясь по улицам. Достаточно мне вспомнить о них, чтобы почувствовать прилив новых сил… – Он немного помолчал, словно стараясь вникнуть в смысл полученного известия, и затем продолжал: – У меня здесь есть товарищ, один негр – безобразный, как дьявол, по имени Доротеу… – Я его знаю. – Так вот его жена тоже ожидает ребенка. Он все время об этом говорит. На днях он мне сказал примерно следующее: «Хорошее дело – бороться за будущее детей, но особенно остро это ощущаешь, когда среди этих детей находится и твой собственный ребенок…» Если это действительно так, я надеюсь, что отныне буду работать еще лучше. – Мариана ничего мне не сказала, но еще до того, как я узнал правду, я понял, что с ней что-то происходит, – достаточно было взглянуть на ее лицо. И работает она еще энергичнее. Жоан вышел и зашагал по уснувшим ночным улицам. Товарищи, должно быть, уже дожидались его. Дорогой он обдумывал, что им сказать, какие передать директивы, вытекающие из сообщений Руйво; взвешивал в уме политические аргументы, которые собирался им изложить. На всем пути его мысль ни на миг не отрывалась от вопросов, связанных с забастовкой, с предстоящим собранием. Но все это время Мариана находилась рядом с ним: он чувствовал ее ласковое присутствие, ощущал тепло ее любви. Уже очень давно они не виделись: после женитьбы ему приходилось редко бывать дома. В сущности, после того как они познакомились, он очень мало бывал с нею. Тем не менее ему казалось, что он знал ее всегда, что она постоянно, неразлучно находилась рядом с ним. Он полюбил ее сразу же после того вечера, когда они встретились на праздновании ее дня рождения, и никогда с тех пор никакое другое чувство не нарушало целостности его любви и – он знал – так же было и с Марианой. Для Жоана любовь была совершенно иным чувством, чем для Пауло, или для Мариэты Вале, или даже для Мануэлы. Когда он думал о своей любви и о своей любимой, это сливалось со всем, что его окружало: с его борьбой, с его мечтами, с его прекрасной надеждой на завтрашний день и с суровой действительностью сегодняшнего дня. Они были так тесно связаны друг с другом, что, когда он собирался встретиться с товарищами, ему достаточно было подумать об этом, чтобы тотчас же ощутить рядом с собой и Мариану, настолько живо, будто она сама – его жена, его безграничная любовь – только что приехала из Сан-Пауло; особенно дорога Мариана была ему теперь, когда он узнал, что она беременна, что она носит ребенка – плод их любви. Может быть, в эту самую ночь и Мариана идет по улицам Сан-Пауло, выполняя задание партии. И рядом с ней будет шагать Жоан. Потому что, как бы далеко они ни были один от другого, душой они всегда вместе, – ничто не может их разлучить. 12
– Сюда, прошу вас… – пригласил Маркоса де Соузу метрдотель, указывая на свободный столик в переполненном зале ресторана. Но из-за другого стола кто-то его окликнул: – Маркос! Маркос! Сюда, к нам! – И Сузана Виейра приподнялась со своего места, чтобы ему легче было ее заметить. – О! Сузана… И Пауло… Архитектор не проявил большого восторга. Приезжая в Сантос, он имел обыкновение останавливаться именно в этом отеле, но сегодня, после того как портье сообщил ему, что здесь находится его превосходительство министр труда, он предпочел бы другой отель. Он так и собирался поступить, но лифтер уже успел завладеть его небольшим чемоданом. Теперь Маркос спустился к ужину, и праздничная атмосфера ресторана, обилие света и цветов, великолепный оркестр, замороженное во льду шампанское, танцующие пары – все это раздражало, почти оскорбляло его. Он вспомнил горящего в жару Руйво, истерзанного чахоткой; вспомнил, как он тайком провез его незамеченным мимо полицейских патрулей; вспомнил бастующих рабочих и кофе, сложенный на портовых складах; вспомнил сражающийся испанский народ; вспомнил убитого грузчика. А он, Маркос де Соуза, солидарный с этой суровой и неравной борьбой, находится здесь, в роскошном ресторане одного из шикарных отелей побережья, и собирается приступить к изысканному ужину в компании хозяев этой полиции, этого кофе, этих пуль, этих союзников Франко. И он по-прежнему остается в обществе своих знакомых, своих клиентов… «Моих хозяев…», – подумал он. Ведь это он построил особняк для родителей Сузаны Виейра, загородную виллу Артура Карнейро-Маседо-да-Роша; ведь это он принимал участие в проектировании дворца Коста-Вале и был главным архитектором при сооружении здания его банка. «Они меня содержат: оплачивают мой покой и комфорт», – думал он, пробираясь между танцующими парами к столику, откуда Сузана Виейра, сидевшая в обществе Пауло, Бертиньо Соареса и Розиньи да Toppe, подавала ему знаки рукой. «Вот почему мне никогда не приходилось думать об искусстве иначе, как о достоянии избранного общества, привилегированной касты. В сущности, я запродан им, но никогда ясно не отдавал себе в этом отчета», – продолжал размышлять Маркос. Ему казалось, что он все еще слышит голос Руйво, громивший абстрактную живопись, говоривший об искусстве – включая и архитектуру, – созданном народом и находящемся на службе у народа: «Гражданин и художник – одно существо, – говорил рабочий лидер. – Невозможно мыслить в условиях социализма о земельной собственности или при капиталистических отношениях – о подлинном искусстве. Это нелепо». И, однако, в течение долгих лет это не казалось Маркосу нелепым: предоставлять свой дом для созыва нелегальных коммунистических собраний, ежемесячно давать деньги партии – и вместе с тем иметь об искусстве такие же представления, как поэт Шопел или дипломат Пауло Карнейро-Маседо-да-Роша; наслаждаться той же самой какофонической музыкой, которая приводила в восторг женоподобного Бертиньо Соареса. И лишь сейчас в этом ярко освещенном зале с цветами и винами, где слышались взрывы веселого смеха, где главенствовал министр труда режима диктатуры, – Маркос внезапно отдал себе отчет, что во всем этом было что-то глубоко несправедливое. Он был недоволен собой и усомнился в самом себе. Мысль о том, что совсем недавно был убит рабочий, не выходила у него из головы; перед его глазами все еще стоял образ горящего в жару Руйво, прячущегося от полиции и несмотря на это довольного жизнью, радующегося ей! Маркос всегда считал себя порядочным человеком, но теперь он видел, как мало значила его «порядочность» по сравнению с достоинством и человеческой гармоничностью Руйво. В самый горячий момент их дискуссии Руйво сказал ему: «Мой дорогой, есть много людей, особенно среди интеллигентов, которым хочется одной ногой стоять в лагере пролетариата, а другой – в лагере буржуазии. Это называется оппортунизмом». «Порядочный человек? – спросил себя Маркос де Соуза. – Оказывается, я всего-навсего оппортунист», – ответил он самому себе, протягивая руку Сузане Виейра. Его встретили с радостью. Метрдотель поспешил принести еще стул, сотрапезники подвинулись, давая Маркосу место. – Да здравствует наш великий архитектор, наш Корбюзье![117] – воскликнул Пауло. Глаза его были прикованы к центральному столу, за которым рядом с министром труда сидела Мариэта Вале. – Сюда, поближе ко мне… – говорила Сузана Виейра метрдотелю, который ставил стул для Маркоса де Соузы. – Вы приехали ради завтрашнего бала, Маркокиньо? – спросил Бертиньо Соарес. – Какого бала? – Ах, вы не знаете? В честь министра доктора Габриэла… Это будет целое событие. Фантастический бал – только о нем и разговор. Это огромная сенсация для Сантоса!.. Маркос сел и машинально взял меню, поданное ему официантом. Странное чувство – смесь отвращения с ненавистью – возникло в нем. Позади с карандашом в руке официант дожидался его заказа. Сузана Виейра вынула из вазы цветок и собиралась прикрепить его к лацкану пиджака Маркоса. Где-то сейчас находится Руйво? Если бы он мог с ним поговорить, высказать ему все, что чувствует, еще раз подискутировать. Но Маркосу даже не было известно, где тот остановился: Руйво просил высадить его среди улицы, не позволил подвезти к двери дома; очевидно, он не доверял Маркосу. А можно ли ему доверять, если он всего лишь оппортунист, один из тех, кто умудряется находиться в двух разных лагерях борьбы? И разве этот Бертиньо Соарес – аморальный и пошлый, с признаками вырождения на порочном лице, – не обращался с ним как с одним из своих? Разве Соарес не имел права считать его частью всего этого мира моральной нищеты, который их окружал? И Маркос почувствовал, как огромно расстояние, как глубока разница между двумя мирами, борющимися друг с другом. По одну сторону – Бертиньо Соарес, «гнилой нарыв» (так характеризовал его Маркос); Сузана Виейра – полудева и полупроститутка, прижимавшаяся к нему, пока вдевала в петлицу цветок, выставляющая напоказ грудь в глубоком декольте вечернего платья; Пауло Карнейро, ухаживающий за Розиньей да Toppe с выражением циничной пресыщенности; банкир Коста-Вале с холодным, расчетливым взглядом; угодливый, льстивый Эузебио Лима; пьяный, грубый министр Габриэл Васконселос, наклонившийся к Мариэте Вале и что-то ей нашептывающий. Таков был мир, внезапно увиденный им во всей своей наготе, настолько отвратительный, что он почувствовал, как к горлу подступает тошнота. По другую сторону – безграничное самоотвержение человека ради идеи, настолько великое, что оно кажется невозможным; чистота чувств, благородная готовность на любые жертвы. Он вспомнил Мариану, всегда радостную, такую прекрасную в простоте своей бедной одежды; товарища Жоана с его строгим лицом и пламенным взором; мужественного Карлоса с его неизменно хорошим настроением; твердого как сталь Зе-Педро; горящее в жару лицо Руйво и его мудрые слова. И ему захотелось надавать Бертиньо Соаресу пощечин. «Но поступить так, значит замарать свои руки», – подумал он. – Закажите что хотите, – ответил он на вопрос официанта, – мне безразлично… За столиком обсуждали предстоящий бал. Сузане Виейра хотелось узнать намерения Маркоса – какой костюм он себе придумает. – Я не буду на балу: завтра вечером я возвращаюсь в Сан-Пауло, – ответил Маркос. – Это невозможно!.. – возмутился Бертиньо Соарес. – Это предательство! А я-то хотел посоветоваться с вами о декорировании зала… чтобы все выглядело совершенно по-парижски… – Не рассчитывайте на мое участие в этом свинстве. – Маркос испытывал потребность говорить грубости. – Свинстве? Почему свинстве?.. Все обернулись к нему. Пауло перестал смотреть на Мариэту Вале. Раздражение архитектора произвело на всех впечатление. Чем вызваны эти гневные слова? Сузана Виейра дружески взяла его руку и одновременно посмотрела на него томным взглядом. Даже Розинья да Toppe, обычно очень молчаливая, только совсем недавно покинувшая для брака с Пауло монастырский пансион, – даже она разинула рот от изумления и застыла с идиотским выражением лица. – Может быть, вам не известно, что полицией убит бастующий рабочий? Что в порту – забастовка? Что многим тысячам людей нечего есть? А у вас хватает смелости говорить о празднествах, о балах? Кроме всего прочего, это цинично. – Ба! – воскликнул Бертиньо, будто был не в состоянии найти слова, чтобы выразить свое удивление. – Но ведь это же коммунисты… – робко пробормотала Розинья да Toppe и взглянула на Пауло, как бы ища его одобрения. – А коммунисты – не люди. Сестра Клара из монастыря Божьей благодати учила нас в пансионе, что коммунисты – враги бога… Мы не должны иметь сострадания к врагам религии… Пауло закурил сигарету и движением руки предупредил возражение Маркоса. – Одну минутку, Маркос! Известна ли тебе теория Шопела – великая, монументальная, гениальнейшая теория Шопела? Оказалось, что эта теория неизвестна никому из сидевших за столом, и всем захотелось с ней познакомиться. Этот Шопел – нечто исключительное: каждый день он выдумывает все более и более поразительные вещи… – Теория Шопела – это учение о том, как в наше время хорошо жить. Она дает исчерпывающий и уничтожающий ответ на все твои возражения против нашего бала. Это теория «невинных из Леблона». Она была создана для молодых обитателей Леблона, Ипанемы, Копакабаны[118], но применима ко всем нам. «Невинными из Леблона» являются все те, кто подобно Бертиньо, мне, Розинье, Сузане не читает первых страниц газет, посвященных международной и внутренней политике, войнам, забастовкам, – всем этим материальным и пошлым вещам, которые так занимают большинство населения. Мы выше всего этого; в газетах мы читаем лишь страницы, посвященные литературе, искусству, а также великосветскую хронику, отчеты о концертах и скачках. Мы живем для великих и вечных чувств, для прекрасного, для духовного. Мы высоко парим над мелочностью повседневных явлений. Мы не позволяем им нас тревожить; мы живем, беря от жизни все хорошее, что она способна дать… Мы «невинные»… Маркос залпом выпил свой коктейль. Сузана аплодисментами выразила одобрение теории Шопела; Бертиньо Соарес блаженствовал. И только одна Розинья да Toppe стала возражать: – Нельзя не думать о «них», о коммунистах. Моя тетя все время повторяет, что с коммунистами надо покончить, иначе в один прекрасный день они у нас отнимут все, вплоть до ночной рубашки… Пауло, поднимаясь для танца с Мариэтой Вале, пошутил над возражением своей невесты: – Ночная рубашка… Не так-то она нужна. В такую жару, дорогая моя, лучше спать нагишом… – Эта теория Шопела поразительна, вы не находите? – спросила Сузана Виейра Маркоса. – «Невинные»… Как ангелы господни… Мы – «Невинные из Сантоса». Маркос не мог найти для ответа иных слов, кроме ругательств. Поэтому он предпочел промолчать. Он почувствовал, что больше не может оставаться здесь, за этим столом, бок о бок с этими людьми. Бертиньо и Розинья пошли танцевать. Сузана Виейра предложила Маркосу: – Потанцуем? – Нет. Я должен немедленно уйти. У меня важное дело… – Для большей убедительности он взглянул на часы. – Я и так уже опаздываю. – Но вы даже не поужинали… – Не беда, я не голоден. Меня ждут… – Женщина? – конфиденциально спросила она. – Кто знает?.. – Он протянул руку. Она улыбнулась и шепнула: – До свидания, сеньор ловелас… Маркос лавировал между танцующими парами. Мимо него промелькнули в танце Пауло и Мариэта: она танцевала с полузакрытыми глазами, он прижимал ее к себе. Маркос почти бегом спустился по лестнице. Ему нужен был свежий воздух, он чувствовал, что задыхается здесь, и больше всего сердился на самого себя. Он считал себя даже хуже этих «невинных из Леблона»: ведь ему-то были известны те, что находились в другом лагере, и, тем не менее, у него нехватало мужества решиться… Он колебался между этими двумя мирами, одной ногой стоял в одном, другой – в другом. Оппортунист?.. Когда он вышел из отеля, его охватила черная ночь. Ветер с моря освежил его. На тротуаре напротив он заметил сыщиков, охранявших отель от воображаемого покушения забастовщиков на пиршество, на пьянство, на танцы тех людей наверху в ресторане, – охранявших их бесстыдство, охранявших теории Шопела, приготовления Бертиньо к балу, охранявших и его, Маркоса де Соузу… Все это ужасно. Как он никогда раньше не понимал, не чувствовал этого? Нужно бежать отсюда. Он попросил швейцара вызвать автомобиль. Превышая дозволенную скорость, Маркос помчался по улицам города. Сначала он ехал вдоль побережья, но постепенно в нем возникла душевная потребность посетить место схватки грузчиков с полицией, и он повернул к набережной. С наступлением ночи полицейских в порту было несколько меньше, но, несмотря на это, когда он подъехал к складам, ему преградил путь военный патруль. Пришлось остановить машину и показать свои документы. Ему велели ехать другим путем – здесь проезд был воспрещен. Он медленно двигался по этой охраняемой солдатами безмолвной набережной, которая представилась ему символом и прообразом той ожесточенной борьбы, что велась в Бразилии и во всем мире. И чем больше он вдумывался в смысл этой борьбы, тем ближе чувствовал себя к людям, которые из глубокого подполья руководили этой борьбой. На стороне этих людей, думал он, человеческое достоинство и благородство. Он поехал по направлению, указанному солдатами, и скоро потерял из виду набережную. Он ехал без определенной цели, отдавшись своим размышлениям. Огибая угол улицы, он внезапно услышал свист, повторенный несколько раз, как условный сигнал. И тут же фары его машины осветили странную сцену: два человека, словно сорвавшись со стены, бросились бежать и скрылись за углом. Воры? Свист повторился еще несколько раз уже далеко впереди. Маркос замедлил ход машины и остановил ее у стены, от которой бежали те двое. Фары осветили ведерко с краской, большую кисть и незаконченную надпись на стене: «Да здравствует забастовка! Смерть поли…» Теперь он понял смысл этого свиста: он помешал работе «стенных живописцев». Сколько раз читал он на улицах эти сделанные ночью надписи; видел, как днем уничтожала их полиция, и ни разу при этом не подумал о людях, рисковавших свободой чтобы распространять революционные лозунги и этим поддерживать мужество в массах. И вот он вспугнул их, прервал их работу, помешал им выполнить свой долг… Он даже не выключил света фар; взял кисть, обмакнул ее в ведро и закончил надпись. Когда он дописывал последние буквы, до него донесся звук шагов, но он даже не обернулся. Он хорошо знал, что если это полиция, его арестуют, подвергнут суду трибунала безопасности, непременно осудят, и его карьера архитектора, пользующегося популярностью в среде богачей, будет скомпрометирована. Но что ему до этого за дело? Он почти желал, чтобы его арестовали, судили. Так он покончил бы с тем нестерпимым двойственным положением, в каком теперь находился. Но шаги удалились в противоположном направлении. Тогда он рядом с надписью нарисовал серп и молот. Ведерко и кисть он спрятал у себя в автомобиле. Его пиджак и брюки были испачканы, руки – тоже. Но он улыбался: наконец-то он был доволен собой. Он еще раз взглянул на законченную им надпись: «Да здравствует забастовка! Смерть полиции!» «Завтра, – решил он, усаживаясь в автомобиль, – я приму участие в похоронах убитого забастовщика». Он включил скорость. Ему хотелось петь. 13
К ночи из рабочих кварталов, из своих убогих жилищ стали собираться товарищи убитого. Но трупа еще не было; машина должна была доставить его с минуты на минуту – так обещали в морге. Брат покойного, каменщик со стройки на побережье, ходил в полицию требовать, чтобы ему выдали тело. Он провел там несколько часов: его таскали из комнаты в комнату, подвергали многочисленным допросам. Ему пришлось долго прождать в зале, полном арестованных в этот день забастовщиков; почти все они были избиты. В конце концов его ввели к инспектору охраны политического и социального порядка штата, и Баррос угрожающим тоном сказал ему: – Теперь вы будете знать, как устраивать забастовки, как слушать коммунистов. Отведаете и резиновые дубинки и пулеметные очереди… – Я не имею ко всему этому никакого отношения, сеньор инспектор. Я не работаю в порту, не бастую. Я пришел сюда потому, что покойный – мой родной брат, и я исполняю свой долг. – За каким чортом вам понадобился труп? – Чтобы похоронить несчастного по-христиански… – По-христиански! – ожесточился Баррос. – Я едва удерживаюсь от желания приказать избить тебя резиновыми дубинками! Где это видано, чтобы коммунист нуждался в христианском погребении?.. – Он не был коммунистом. – Молчать! Предупреждаю об одном: если намереваетесь использовать похороны для какой-либо демонстрации, будьте готовы к тому, чтобы послезавтра хоронить еще многих других. Я научу вас, как делаются гробы… Наконец было дано разрешение получить труп. Брат покойного тотчас же отправился в морг, и там обещали привезти тело немедленно. Но вот уже глубокая ночь, а машины все нет. Маленький домик в плохо освещенном квартале был полон народа. В передней комнате портовые рабочие и грузчики вели оживленную беседу. Кто-то принес кашасу, и все пили из одного стакана, переходившего из рук в руки. В соседней комнате приготовили постель, чтобы положить труп. Пятилетнего сына убитого уложили спать в кухне, где находились жена и мать; ребенок мирно спал – царившее вокруг волнение ему не мешало. Старуха мать всхлипывала, но у вдовы глаза были сухи; она неподвижно сидела на стуле, ничего не отвечая на слова утешения, которые высказывали ей пришедшие. Негритянка Инасия хлопотала в кухне и принимала посетителей. Ребенок спал на полу, закутанный в какое-то тряпье. Рыдания старухи временами становились настолько громкими, что разговоры в передней обрывались и там воцарялось молчание. – За что такое несчастье?.. – монотонно причитала старуха, сидя около спящего сиротки. Поблизости от дома, на углах жалких улиц рыскали полицейские агенты. В доме говорили приглушенными голосами; лишь изредка вырывались восклицания, выражавшие возмущение полицией и министром труда. Разговор вращался вокруг предложений, сделанных Эузебио Лимой от имени министра вечером после столкновения с полицией: немедленно прекратить забастовку и погрузить германский пароход. В этом случае к бастовавшим не будет применено никаких карательных мер. Однако судебное преследование профсоюзных руководителей и остальных арестованных продолжится. Помещение профсоюза будет открыто вновь, но вместо прежнего руководства, которое признано «экстремистским», министерство назначит новую профсоюзную комиссию. Министр предоставлял забастовщикам двадцать четыре часа для обсуждения его предложения. В случае если бастующие его не примут, будут применены решительные меры, чтобы покончить с движением: массовое увольнение всех бастующих и привлечение их к суду трибунала безопасности. Пусть они не забывают, что конституция 10 ноября запрещает забастовки и что эта забастовка – преступление против закона. Если предложения министра не будут приняты, правительство начнет действовать без пощады и неизбежно прибегнет к насилию. – Можно подумать, будто до сих пор они обращались с нами мягко: угощали сыром с мармеладом, – заметил Доротеу. Какой-то веснушчатый субъект вытянул шею. – А что мы можем поделать? Что мы будем есть, чем накормим наши семьи? К профсоюзным пособиям не прикоснешься… Придется смириться, долго так не протянем. А то завтра нас всех уволят – останемся без работы и с судебным процессом на шее. Что мы этим выиграем? Доротеу огляделся вокруг. Некоторые были испуганы и внимательно слушали эти мрачные речи. Каждый повторял про себя заданный во всеуслышание веснушчатым субъектом вопрос: как продолжать забастовку, если через несколько дней не останется даже куска хлеба, чтобы накормить своих детей? А угроза лишиться работы, быть судимым, попасть в тюрьму? Теперь, при «новом государстве», им нечего ждать от правосудия. Как продолжать забастовку? Толстый мулат сказал: – Мы могли бы внести другое предложение: возобновить работу, но отказаться от погрузки германского парохода. Доротеу от возмущения подпрыгнул на стуле. – А наши арестованные товарищи? Предоставить их собственной участи, не пытаясь бороться за освобождение? За что их арестовали, за что собираются судить? За что их схватили, как щенков? За что убили Бартоломеу? Мы находимся здесь, в доме убитого, дожидаемся его тела, а у тебя хватает наглости предлагать возвратиться на работу? Ты забастовщик или «шкура» из министерства? Толстый мулат стал оправдываться: – Тебе хорошо известно, что я не из «желтых» и не из малодушных; я не дезертирую в час опасности. Но правда заключается в том, что у нас нет другого выхода. Если бы мы не были совершенно одни, если бы начались забастовки в других местах, тогда еще куда ни шло… – Мы не одни… – раздался в дверях чей-то голос. Это был Освалдо, секретарь ячейки грузчиков, только что явившийся в сопровождении Аристидеса и других товарищей. Его престиж среди портовых рабочих был очень велик: ему верили и знали, что он никогда не лгал. – Откуда тебе это известно? – спросил веснушчатый субъект. – Разве есть какие-нибудь новости? Освалдо, войдя, пожимал руки собравшимся. – Вокруг дома рыщет полиция. Пусть кто-нибудь сторожит у двери, чтобы какой-нибудь шпик не мог нас подслушать. Я пойду к семье покойного и сейчас вернусь… Выразив свое соболезнование вдове и передав брату убитого деньги для семьи, Освалдо вернулся в комнату, сел с грузчиками и выпил предложенную ему кашасу. Затем сунул руку в карман и вытащил оттуда листок бумаги, испещренный цифрами. – Рабочие Сан-Пауло прислали сегодня двадцать шесть конто. Это – только начало кампании солидарности. Правительство забрало деньги профсоюза? Рабочие дадут нам деньги для поддержки забастовки. По всему штату начался сбор средств. Мы вовсе не одни… Он всматривался в каждого. Они хорошо знали друг друга: это были его товарищи по работе, его друзья; ему были известны достоинства и недостатки каждого, были близки занимавшие их вопросы. – Меня удивляет, что вы уже успели испугаться, когда еще ничего не произошло. Среди грузчиков Сантоса всегда существовал закон: один за всех, все за одного. Сколько забастовок провели мы в этом порту? Не перечесть. А заканчивалась ли хотя бы одна из них на том, что товарищи оставались в тюрьме? Знаете ли вы, что полиция собирается выслать Пеле и других испанцев? Выдать их Франко? Это равносильно их смерти. В тот день, когда бастующие на это согласятся, я выйду из союза грузчиков, предпочту служить лакеем в отеле на побережье или же чистить обувь на улицах. – Выслать Пепе? – раздался единодушный возглас всеобщего возмущения. – Тише, говорите потише! – остановил их Освалдо. – Около дома полиция. Министр и Баррос думают, что они сильнее нас, потому что располагают полицией и трибуналом безопасности. Но мы не одни. Завтра начнутся забастовки солидарности с нами. По всему штату… – В самом деле? – А здесь, в Сантосе, завтра утром почти все предприятия прекратят работу и рабочие примут участие в похоронах… – А знаете ли вы, что сказал Баррос брату убитого Бартоломеу? Если на похороны придет слишком много народу, он откроет стрельбу… – А почему мы должны хоронить нашего товарища тайком, точно какого-то преступника? Нет, мы устроим ему похороны, каких он заслуживает! Похороны героя. Разве мы не имеем права хоронить наших мертвецов? – Вот именно! – отозвался высокий негр, куривший у двери и наблюдавший оттуда за улицей. – Завтра, – продолжал Освалдо, – они увидят, что такое солидарность рабочего класса!.. Ты спросил, – обратился Освалдо к толстому мулату, – сколько времени мы сможем еще продержаться? А долго ли смогут продержаться они? Сколько сможет выдержать «Компания доков Сантоса», если порт не работает, суда не грузятся, товары портятся и гниют на складах? Вы не отдаете себе отчета в нашей силе… – Но они грозят уволить всех поголовно – А откуда они возьмут людей для погрузки? Ведь грузчик – это не полено, валяющееся на дороге, когда достаточно протянуть руку, чтобы взять его. Они угрожают, но, если мы не поддадимся, уступить придется им… Так или иначе, сейчас мы не должны отступать. Не беспокойтесь, мы не одни. Толстый мулат продолжал оправдываться: – Я сказал это просто так… потому что нужно было что-то сказать… Ведь все мы тут разговаривали… Не подумайте только, что я предатель… – Я этого не думаю! Только мы должны быть начеку. Никакого малодушия! Мы знаем: проводить забастовку – дело трудное, оно требует жертв. Но если мы смалодушествуем, они согнут нас в бараний рог… Еще труднее положение испанских рабочих, борющихся с оружием в руках… Человек, стороживший на улице, вбежал в дом и возвестил: – Везут!.. Все поднялись. Минуту спустя машина из морга остановилась у дверей. Мужчины сняли с нее труп. Из кухни пришли мать и жена. – Сын мой! Сын мой! – закричала старуха, когда в дверях показались босые ноги покойника. – Но ведь он же голый… Это уже слишком! – возмутился один из присутствовавших. – Полиция конфисковала его одежду, – объяснил служитель морга. Вдова вырвалась из рук Инасии, бросилась к трупу, приникла к нему, потом упала на пол. Люди, вносившие труп, остановились. От шума ребенок, спавший на кухне, проснулся, вошел в комнату и еще сонными глазками, не понимая, смотрел на это зловещее зрелище. Бабушка подхватила ребенка на руки, прижала к себе и, рыдая, говорила: – Они убили твоего отца, негодяи!.. Да покарает их господь всех до одного, до самого главного из них. Чтоб они все сдохли! Толстый мулат вполголоса сказал Освалдо: – Можете на меня рассчитывать. Я пойду до конца. Высокий негр подошел к старухе и заявил: – Наступит день, когда мы отомстим за смерть Барто. В один прекрасный день мы расправимся с этими бандитами: всех их вздернем на столб! Инасия старалась привести в чувство вдову; та лежала без слез, без всхлипываний, вытянувшаяся и неподвижная. Мертвеца положили на кровать и прикрыли старой полотняной простыней. 14
Ранним утром, влажным от росы, негр Доротеу идет со своей негритянкой Инасйей. Они живут на другом конце города, а в этот час трамваи еще не ходят, поэтому волей-неволей приходится идти пешком. И так даже лучше – они могут выбирать улицы, где им не встретится полиция, которая уже приметила Доротеу. При этой мысли Инасия теснее прижимается к своему негру. Если его арестуют, что станется с ней, как сможет она жить без своего Доротеу? До того как они познакомились, – иное дело, но теперь она больше не может обходиться без него, без музыки его губной гармоники, без звука его голоса. Иногда Инасия задумывается о смерти. Маленькой девочкой Инасия часто мечтала о небе, представляя его по описаниям отца Виньяса, священника, друга семьи ее хозяев (она росла в богатом доме). «На небе все время звучит музыка», – так говорил падре Виньяс. Однако сеньора Лаура – хозяйка дома, где она выросла, – очень скоро разочаровала ее. «Неграм доступ на небо закрыт, – утверждала она, – небо – только для белых». И, тем не менее, негритянка Инасия продолжала мечтать о небесной музыке и только задавалась вопросом, почему не существовало небесного рая и для негров, почему бог обрекал их всех, без исключения, на пребывание в аду. Теперь если Инасии и приходится задумываться о смерти, эта мысль всегда сопровождается желанием умереть раньше своего Доротеу. Не то чтобы ей вообще хотелось умереть, чтобы она устала от жизни, считала ее тяжелой или мучительной. Ее больше не прельщает небесная музыка падре Виньяса: теперь у нее есть музыка губной гармоники негра Доротеу, и с ней ничто не может сравниться. Она вовсе не хотела умирать. Жизнь для негритянки Инасии была драгоценным благом, она любила жизнь. То, что они вдвоем зарабатывали – он в доках, она в отеле, – хватало на их скромное существование. Пищи у них в доме было немного, лишних денег никогда не водилось, зато у них имелась в изобилии радость: ее Доротеу был от природы веселый человек, веселой была и она сама – прекрасная Инасия, цветок порта. И вот когда ей случалось думать о смерти, как, например, в нынешнее утро похорон, когда она возвращалась из дома убитого грузчика, – она молила бога, чтобы он послал ей смерть прежде, чем отойдет в другой мир Доротеу; на что ей без него жизнь? Она прижимается к его волосатой груди, говорит ему своим вкрадчивым, волнующим голосом: – Я хочу умереть раньше тебя. А негр Доротеу в эту минуту думал о забастовке – о том, что необходимо поддерживать боевой дух товарищей и развертывать кампанию солидарности. Эти слова испугали его. – Что у тебя за мысли? – Ты знаешь, нас на каждом шагу подстерегают опасности. Без тебя я жить не хочу. – Ты боишься? Доротеу обнял ее за талию. В течение этих бурных дней он не мог уделять много времени и внимания своей Инасии, смеяться вместе с ней, играть для нее на губной гармонике. Неужели она боится? Именно теперь, когда она работает, как настоящий боевой член их организации? – Ты боишься? – повторил он свой вопрос. – Ты недовольна забастовкой? – Нет, я довольна, но не об этом речь. Я не думаю, чтобы ты согласился с предложением министра. Я знаю, что ты не сделаешь ничего несправедливого, но боюсь, что может наступить день, когда я останусь без тебя. Только этого я боюсь и ничего больше. Когда я сегодня увидела жену Бартоломеу… ты понимаешь… Негр Доротеу склоняется к волосам негритянки Инасии, пахнущим корицей и гвоздикой. А он сам разве сможет жить без нее? Он и не хочет об этом думать: одной такой мысли достаточно, чтобы отравить его покой. Зачем говорить о смерти сейчас, когда они вместе, а это так редко случается в последнее время… Бартоломеу умер, это правда, но он умер за них за всех, и эту смерть не надо оплакивать, за нее надо мстить. Негр целует свою Инасию. – Знаешь, у товарища Жоана… – Это такой серьезный? – Да, этот самый. Мы с ним встретились вечером, до того, как идти в дом покойного. Так вот представь себе: у него жена тоже беременна… – И он рад? – Настолько рад, что все время улыбается. Мы с ним много говорили о детях: о его и о нашем, об их будущем. Знаешь, Насия, завтра все будет иначе, чем сегодня: не будет полиции, стреляющей в людей, гоняющейся за ними, как за дикими зверями. Когда наши дети вырастут, в мире не будет ни голода, ни эксплуатации, ни полиции, убивающей людей. – Я знаю, ты мне об этом рассказывал. Как будет хорошо! – Но это «завтра» наступит не как все прочие «завтра», когда кончается ночь и восходит солнце. Это «завтра» люди должны сотворить своими собственными руками, больше того – своей собственной кровью. Барто погиб за счастливое будущее всех наших детей. Мы, бедняки, боремся за счастливый завтрашний день во всем мире. – А мы доживем до этого дня? – Да, если нас не убьют в уличной стычке. Я хочу попросить тебя об одном одолжении, Насия. Обещай исполнить эту просьбу. – Что именно? – Если мне придется умереть в схватке или в тюрьме, я не хочу, чтобы ты плакала, носила по мне траур. Вместо этого помогай товарищам в работе, как ты это делаешь теперь. Обещаешь? – Если ты умрешь, умру и я. Я была глупой негритянкой, с головой, набитой всяким вздором. Ты открыл мне, что между мною и сторожевым псом в доме сеньоры Лауры существует разница. А раньше я считала, что даже ее кошка лучше меня, что негру нельзя равняться с белым. Ты дал мне все, что у меня есть, вплоть до ребенка, которого я вынашиваю. И если ты умрешь, умру и я. – Нет, Насия, родная моя! Если я умру, ты должна остаться жить: у тебя ребенок; ты научишь его тому, чему научил тебя я… Ты мне обещаешь? Инасия смахнула тыльной стороной ладони слезу и сказала: – Поговорим о чем-нибудь другом, Доротеу. К чему печальные мысли? Ведь ты сам говоришь, что смерть Барто должна только прядать нам мужества… – Да, ты права… Вот уже больше трех дней, как ты ничего не говоришь мне о ребенке. Ты ведь уже ощущаешь его? – Нащупываю даже его малюсенькую ножку… – Но ведь он, должно быть, еще совсем крошечный, не больше пальца. Как ты могла нащупать его ножку? Ты – лживая негритянка, Насия! – Не больше пальца… Ты ничего не смыслишь в детях, во всем другом ты понимаешь много, но в детях женщины разбираются лучше. Он уже величиной с мою руку, а ножка у него – с мой палец… Они оба рассмеялись. Инасия шла, прижавшись к Доротеу. Если бы на набережной не сторожили солдаты, они могли бы пойти посмотреть, как рождается над морем голубое утро. Уже несколько раз они смотрели, как свет рассеивал последние бесформенные тени ночи; видели борьбу рождающегося дня с уходящим мраком. Доротеу ей сказал тогда, что это похоже на зарю революции. Свет, разрывая ночной мрак, несет людям тепло дня. И в этот ранний, утренний час Доротеу играл на своей губной гармонике приветственную мелодию в честь нового дня – музыку, полную ликования. – Ты захватил гармонику? Гармонику Доротеу всегда носил с собой. – Сыграй эту мелодию – ты знаешь, какую. Ту, что ты играешь только ранним утром. – Ту? Нельзя, Насия! На улицах полиция, а эта мелодия – музыка нашей борьбы, музыка рабочих всего мира. Если я ее заиграю, подоспеет полиция и нас заберут. Эта мелодия, Насия, называется «Интернационал». Я тебе ее сыграю через несколько дней, когда мы победим в забастовке и набережная снова будет принадлежать нам. – Ну в таком случае сыграй что-нибудь другое. Доротеу вытащил из кармана свою губную гармонику, прикрыл ее огромными жилистыми руками, и на углу убогой улицы зазвучала небесная музыка – нежная мелодия, колыбельная песнь. Она зарождалась в груди Доротеу, возникала из его беспредельной любви к своей Инасии, к их будущему ребенку, к детям всего мира, ко всем людям, ибо он любил всех, за исключением, впрочем, полиции, агентов министерства, членов правительства и хозяев доков. Это была музыка для Инасии, для ребенка, которого она вынашивала в чреве; но это также была музыка и для Барюломеу – для его вечного сна… Над жалкими крышами постепенно занималось утро, ему тоже хотелось послушать музыку негра Доротеу, плениться ясной улыбкой на нежных, пухлых губах его негритянки Инасии. 15
Страшные слухи ползли по улицам Сантоса, вынуждая более пугливых торговцев закрывать двери лавок. Служащие, спешившие на работу, видели, как агенты тайной полиции совершали налеты на газетные киоски, конфискуя экземпляры местной газеты, в которой как платное объявление было опубликовано обращение союза грузчиков и докеров к рабочим и к населению города. Оно призывало всех прийти на похороны убитого грузчика. Несмотря на то, что «объявление» было написано в сугубо официальном, сдержанном тоне, остальные газеты предусмотрительно воздержались от его опубликования, опасаясь неприятностей со стороны цензуры. Около десяти часов утра из Сан-Пауло стали прибывать специальные автобусы: в них сидели сыщики и солдаты военной полиции. Придираясь по малейшему поводу, они арестовывали людей тут же, на улице. Портовая охрана была усилена. Бешено проносились полицейские автомобили, и люди в своих лачугах рассказывали друг другу о том, как шпики в тавернах угрожали, что в этот день прольется много крови. В школах во время перерыва на завтрак учительницы внушали детям, чтобы они шли прямо домой, не задерживаясь на улице. Прохожие с удивлением разглядывали на стенах рабочих кварталов и даже в центре города грозные надписи, начертанные здесь вчера вечером, несмотря на всю строгость полицейского надзора. – Эти коммунисты – исчадие ада, – перешептывались в трамваях, но многие при этом улыбались тайной сочувственной улыбкой. Возбуждение достигло наивысшей точки, когда в полдень, в час обеденного перерыва в конторах, складах и лавках, с крыши высокого здания на главной площади были сброшены листовки. Люди, столпившиеся на остановке трамвая, ловили их. Эти листовки выражали протест против репрессий полиции, призывали население выразить свою солидарность с забастовкой и принять участие в похоронах Бартоломеу. Шпики, шнырявшие по всей площади, сразу бросились к высокому зданию, оцепили входы, заполнили конторы на всех этажах. В уборной последнего этажа, маленькое оконце которой выходило на площадь, нашли остатки хитроумного приспособления, сооруженного здесь кем-то из активистов, которым было поручено разбрасывать листовки. Но найти того, кто это сделал, не удалось: у него было достаточно времени, чтобы скрыться. И так как на весь этаж была только одна уборная, а на этом этаже находилось несколько юридических контор и зубоврачебных кабинетов, а также медицинская консультация, невозможно было сразу определить, кто принимал участие в разбрасывании листовок. Сыщики старались выспросить у людей все, что возможно, но ничего не могли выяснить. На площади шпики грубо вырывали прокламации из рук любознательных прохожих. Многим, однако, удавалось спрятать опасные листки и передать их дальше. Похороны были назначены на четыре часа дня. Возвращаясь после обеденного перерыва на работу, жители Сантоса увидели пикеты военной полиции, расставленные по всему предполагаемому маршруту похоронной процессии. По улицам сновали конные патрули под командой угрюмых офицеров. Некоторые жители города решили остаться после обеда дома, боясь оказаться невольно вовлеченными в события; другие, наоборот, стремились в центр города, чтобы увидеть похороны из окон контор, где работали их друзья. Весть о том, что рабочие нескольких фабрик после обеда оставили работу, чтобы пойти на похороны, еще больше усилила общее возбуждение. Время от времени гудок полицейского автомобиля, пересекавшего улицу, привлекал к себе внимание, и в окнах торговых зданий появлялись головы любопытных. В три часа дня конный отряд военной полиции занял центральную площадь, а другой расположился на проспекте, ведущем к роскошному отелю на набережной, в котором остановился министр труда. Маркос де Соуза, оставив свой автомобиль в одном из ближайших переулков, пешком направился к площади. Так как он не знал, откуда должна выйти похоронная процессия и совершенно не представлял себе, где жил покойный, он решил подождать на площади и присоединиться к процессии, когда она будет проходить мимо. После завтрака он говорил по телефону со своим бюро в Сан-Пауло и узнал, что в столице штата – тоже волнения, многие фабрики приостановили работу. На большом текстильном предприятии, принадлежащем комендадоре да Toppe, полиция стреляла в участников летучего митинга, устроенного у центрального подъезда в час обеденного перерыва. Эти новости дошли также и до отеля, где жил министр. Инспектор Баррос пошел проверить, исполнены ли его приказания; на него была возложена ответственность за безопасность министра. Утром ему из Рио-де-Жанейро позвонил начальник федеральной полиции. Испуганный ходом событий, он распорядился принять срочные меры для подавления забастовки. «Следите, чтобы на похоронах не было никаких речей, никаких плакатов, никаких лозунгов! При малейшем проявлении антиправительственных настроений разгоните процессию, похороните этого субъекта сами. Помните, что один мертвый помогает им, но двадцать мертвых помогут нам». Все это Баррос повторил Жозе Коста-Вале, Артуру Карнейро-Маседо-да-Роша и Эузебио Лиме (министр еще не выходил из своей спальни – накануне вечером он много пил и лег очень поздно). Коста-Вале согласился с мнением начальника полиции. – Он прав. Кое-кого арестовать, кое-кого уволить с работы – это может только разжечь огонь возмущения. Но если действовать энергично, сажать в тюрьму пачками, увольнять массами, отдавать под суд сотнями, забастовка кончится. И необходимо, чтобы она окончилась раньше, чем успеет охватить все предприятия. Комендадора да Toppe присоединилась к ним. Она была необычайно раздражена новостями, полученными из Сан-Пауло. Она сказала инспектору охраны политического и социального порядка, тыча ему в лицо своим сухим, как у мумии, пальцем с длинным ногтем, покрытым красным лаком: – Что вы здесь делаете? Вы явились сюда принимать морские ванны или покупать карнавальный костюм для сегодняшнего бала? Баррос, удивленный резким тоном миллионерши, попробовал осторожно возразить: – Но, комендадора… – Никаких «но»… Пока вы слоняетесь здесь без дела, на моей фабрике в Сан-Пауло творится чорт знает что. Митинги, стачки, волнения… Просто не понимаю, зачем тратят столько денег на полицию, если от нее нет никакой пользы… Она не пожелала слушать объяснений Барроса. Только Артуру Карнейро-Маседо-да-Роша, наконец, удалось убедить ее. Его ровный голос и аристократические манеры действовали на нее успокаивающе. – Инспектор как раз обсуждает с нами меры, которые следует принять, чтобы окончательно покончить с подрывными элементами. Центром волнений является Сантос, наибольшую опасность представляет забастовка грузчиков – это голова гидры, и она должна быть уничтожена в первую очередь. Тогда всюду водворится порядок. – Так пусть он немедленно уничтожит ее, пусть нанесет забастовщикам решительный удар. В конце концов, для чего он назначен инспектором охраны политического и социального порядка? Пусть покажет, на что он способен, если не хочет потерять место… Баррос старался вновь завоевать благосклонность комендадоры. Он знал, что эта женщина пользуется огромным влиянием, вершит, как ей вздумается, политические дела, знал, что диктатор исполняет любую ее просьбу. – Я уже получил сообщение из Сан-Пауло о вашей фабрике, комендадора. Там все в порядке. Коммунисты пытались устроить летучий митинг, но мои люди подоспели вовремя, разогнали сборище и арестовали главарей. Вы не пугайтесь. – Чего мне пугаться? Я не боюсь этого маскарада. Я только удивляюсь, что коммунисты могут устраивать митинги и забастовки, тогда как полиция имеет все возможности помешать им. Для чего мы, в конце концов, создавали Новое государство? Чтобы все было по-прежнему? Теперь никто: ни депутаты, ни судьи, ни журналисты – не имеет права требовать отчета у полиции. Сеньоры полицейские могут поступать как им заблагорассудится. И что же мы, однако, видим: забастовки, митинги, эти возмутительные похороны… Где же полиция, я спрашиваю? – Она повернулась к Коста-Вале. – Похороны какого-то грузчика… Это же абсурд. Я только что встретила Розинью и Сузану. Бедняжки боятся пойти принять морскую ванну, не знают, безопасно ли выйти на улицу… Несчастный Бертиньо заперся у себя в комнате… Даже дома нельзя быть спокойным. Баррос уверил ее, что можно без опасений принимать морские ванны. Полиция не может запретить похорон, но при малейшей попытке превратить их в демонстрацию она, следуя приказу начальника полиции из Рио-де-Жанейро, разгонит похоронную процессию. Улицы, особенно те, что ведут к отелю, хорошо охраняются. Если забастовщики осмелятся предпринять какие-либо недозволенные действия, результаты для них самих будут плачевными… – Если осмелятся… если осмелятся…– саркастически повторила комендадора. – У вас есть положительные качества, сеньор Баррос, я не отрицаю. Мне говорили, что вы умеете обращаться с этими людьми, когда кто-нибудь из них попадает вам в руки. Но вам нехватает рассудка, сеньор. У вас сегодня есть такая блестящая возможность расправиться с ними, когда они все выйдут на улицу, а вы еще ждете, чтобы они осмелились… Если осмелятся… Вы, сеньор, повторяете слова начальника полиции, как попугай, не понимая их смысла. – Не понимая? – Он вам не приказывает ждать, пока они осмелятся что-нибудь предпринять… Зачем ждать? – Да, сейчас нужно быть энергичным, надо действовать силой, – поддержал комендадору Коста-Вале. – Этим людям надо дать хороший урок. Сидя на скамейке на площади, по которой должна была пройти похоронная процессия, Маркос де Соуза видел, как инспектор охраны политического и социального порядка вышел из автомобиля, направился к офицеру, командовавшему кавалерийским патрулем, говорил с агентами тайной полиции. Он знал Барроса в лицо и теперь спрашивал себя, что тот думает предпринять, какие распоряжения собирается дать полиции? Для Mapкоса похороны неизвестного забастовщика имели совсем особое значение; они касались его лично с той минуты, как накануне вечером он увидел эту надпись краской на стене. Ему казалось, что наступил решительный момент его жизни, словно сегодня вместе с убитым рабочим хоронили прежнего Маркоса де Соузу, умершего вчера вечером. Около пяти часов дня похоронная процессия показалась там, где улица вливается в площадь. Окна наполнились любопытными, привлеченными звуками похоронного марша. Его играл замыкающий шествие оркестр «имени 15 ноября»[119] из рабочих музыкантов-любителей. Впереди гроба с телом покойного, который несли, сменяясь, участники процессии, колоссального роста грузчик нес знамя профсоюза портовых рабочих. Покойного провожало много людей. Они шли с непокрытыми головами, лица их были печальны и суровы. Когда процессия выходила на площадь, гроб несли Освалдо и Аристидес, представители от рабочих городских предприятий и брат покойного. Национальный флаг Бразилии лежал на крышке гроба. Вагоновожатый проходившего мимо трамвая остановил его на всем ходу и снял фуражку. Пассажиры высунулись из окон. Прохожие столпились на тротуарах, обнажив головы. Старушка, несшая корзину с овощами, перекрестилась и начала бормотать заупокойную молитву. Маркос де Соуза направился к процессии. Какие-то люди, спешившие в том же направлении, толкнули его так, что он с трудом сохранил равновесие. Это были полицейские агенты; Маркос проводил их взглядом и увидел, что процессия остановилась. Один из полицейских крикнул: – Снимите флаг с гроба! Маркос бросился вперед. Что теперь будет? Агент попытался сорвать флаг, но кто-то удержал его руку, и чей-то голос, полный ненависти, произнес: – Уважай мертвых, негодяй! Смутный ропот пронесся по всей процессии, гул голосов становился все громче, заглушая звуки траурного марша. Маркос очутился возле гроба. Он видел, как полицейский вытащил револьвер. Не помня себя от гнева, Маркос бросился на него и в бешенстве крикнул: – Спрячь оружие, каналья! Но в ту же минуту другие полицейские схватились за оружие и открыли стрельбу. Началась паника. Толпа подалась в сторону площади, но отряд конной полиции преградил ей путь. На мгновение толпа в нерешительности замерла, не зная, что предпринять. На мостовой лежали раненые. Новые отряды полицейских спешили к месту происшествия. Они расстреливали толпу из револьверов. Музыка замолкла. Послышался мощный голос Освалдо: – Вперед! Некоторые из тех, кто раньше нес гроб, спасаясь от пуль, оставили его, но на их место встали другие. Теперь знамя профсоюза оказалось позади. Во главе процессии был гроб с телом покойного, покрытый национальным флагом Бразилии. В какой-то момент люди, несшие гроб, чуть не двинулись против конной полиции. Но в следующее мгновение толпа снова отпрянула назад. Между головой колонны и конной полицией было около двадцати метров. Кавалерийским отрядом командовал молодой офицер. Он расправлял выхоленными пальцами свои аккуратно подстриженные усики. Его горячий конь бил копытами асфальт. Вооруженные полицейские вновь попытались подойти к гробу. Несколько человек преградило им путь. Выстрелы возобновились. Освалдо снова крикнул: – Вперед!.. Один из полицейских ухватился за флаг, покрывавший гроб, и потянул его к себе. Рабочие бросились на агента полиции, флаг упал на землю. Смятение стало всеобщим. Часть толпы устремилась в одну из боковых улиц, но и там была встречена пулями полицейских. Несколько человек упало. Послышались крики, возгласы возмущения, проклятия. Полицейский, пытавшийся сорвать флаг, лежал на земле. Одежда его была изорвана в клочья. Маркос де Соуза хотел поднять упавший флаг, чтобы снова положить его на гроб, но его толкали, душили, топтали. Неизвестно откуда появившаяся Инасия – муж ее, Доротеу, был одним из людей, которые сейчас несли гроб, – успела схватить флаг раньше Маркоса. Она вскинула его на плечо и пустилась догонять людей, несших гроб, которые уже ушли немного вперед, отделившись от остальной толпы, задержанной полицией. Маркос бросился вслед, чтобы помочь ей. Стрельба продолжалась. Это была настоящая бойня. Часть людей бежала к улице, из которой вышла процессия; там только сейчас начала появляться полиция. Инасия догнала людей, несущих гроб, подняла флаг, чтобы положить его на черную крышку. Доротеу смотрел на нее, по-прежнему придерживая рукой крышку гроба. Стрельба на площади усилилась. Многие из рабочих оказывали сопротивление, древко профсоюзного знамени стало оружием. У нескольких полицейских толпа отняла револьверы и использовала их против полиции. Молодой офицер перестал приглаживать усы и приказал кавалерии наступать. Горячий офицерский конь почувствовал шпоры и взвился на дыбы, ударив передними копытами Инасию. Она упала на флаг, и конь наступил на нее задними копытами. Маркос де Соуза видел, как она упала, и одновременно с Доротеу подбежал к ней. Но конные полицейские, скакавшие вслед за своим офицером, оказались возле нее раньше. Их кони промчались по стройному телу Инасии. Освалдо, стоявший возле гроба, оставленного на земле, крикнул солдатам: – Не убивайте своих братьев! Но конная полиция, разгоняя процессию, врезалась в самую гущу толпы, и слова его потонули в шуме голосов и стонах раненых. Мужчины и женщины бежали во всех направлениях, пытаясь укрыться в ближайших магазинах и жилых домах. Конная полиция преследовала убегавших, агенты тайной полиции били людей рукоятками револьверов. Маркосу и Доротеу удалось, наконец, подойти к Инасии. Она еще дышала. Они приподняли ее и повернули на спину. Лицо ее исказилось от боли. Доротеу позвал: – Насия, Насия! Она приоткрыла глаза, но сразу же закрыла их. Маркос де Соуза сказал: – Отнесем ее… Только тогда Доротеу заметил этого хорошо одетого человека. Он сначала подумал, что это шпик, и загородил собою тело Инасии. – Прочь! Это моя жена… – Я не из полиции, я друг… – Он хотел сказать «товарищ», но не решился. Голос его звучал так искренно, что Доротеу не спорил. Маркос предложил: – Мой автомобиль здесь близко. Если мы отвезем ее немедленно в больницу, может быть, еще… Горестное восклицание вырвалось у Доротеу, словно только услышав эти слова, он понял, что жизнь Инасии в опасности. – Скорее! – взмолился он. Когда Маркос приподнял Инасию за плечи, она застонала. Рука ее еще держала бразильский национальный флаг; пришлось разжать ей пальцы. Теперь площадь наводнили полицейские машины, агенты вталкивали туда десятки людей под наведенными на них револьверами. Однако большинству удалось скрыться в боковых улицах. Владельцы контор, магазинов, врачи спрятали многих в домах, выходящих на площадь. Освалдо укрылся в задней комнате какого-то бара. Площадь была полна убитых и раненых. Инспектор охраны политического и социального порядка Баррос в сопровождении двух полицейских прошел по площади и остановился около гроба. – Завтра зароют всех вместе… Потом, оглядывая тела убитых, процедил сквозь зубы: – Послушаем, что теперь скажет эта старая ведьма, комендадора. Если ей и этого мало, то чего же она еще хочет?.. Санитарные машины увозили раненых, сирены пронзительно завывали. Отряды конной полиции патрулировали соседние улицы. 16
Врач заявил, что нет никакой надежды. У Инасии были перебиты ребра, раздроблен позвоночник. И, помимо всего, сильное кровотечение уносило ее последние силы. – Даже если она каким-нибудь чудом выживет, навсегда останется калекой, – сказал врач. Маркос отвез ее в частную больницу, объяснив там, что дело идет об его служащей, случайно оказавшейся на месте стычки. Доротеу не мешал ему, все время молчал, весь поглощенный своим горем, сопровождал его, как автомат. Его рубашка и башмаки были в крови Инасии. Дежурный врач, услышав о подробностях происшедшего, ужаснулся. – Это какие-то чудовища!.. – сказал он. – В них нет ничего человеческого. Никогда еще в нашей стране народ не терпел столько унижений, сколько от нынешнего правительства. – Фашисты… – определил Маркос. – И это еще только начало! – горько заметил врач. – Они еще причинят нам много горя. Доротеу и Маркос оставались в коридоре, в то время как врач и две санитарки занимались Инасией. Негр отказался от сигареты, предложенной ему архитектором. Маркос думал о том, что сейчас происходит на площади. Сколько убитых? Сколько арестованных? Ему еще ни разу в жизни не приходилось видеть такой хладнокровной жестокости. Если рассказать, никто не поверит – сколько раз он сомневался в истинности рассказов Марианы о пытках в полицейских застенках; сомневался в рассказах, слышанных от самих арестованных. Но теперь для него не было никаких сомнений: очень жестока и опасна эта борьба! И, тем не менее, сейчас больше, чем когда-либо раньше, он почувствовал себя связанным с нею раз и навсегда. Его размышления были нарушены глухими придушенными звуками: это Доротеу пытался удержать подступавшие к его горлу рыдания. Крупные слезы текли по его застывшему, искаженному горем лицу. Мимо них прошел больничный служитель, равнодушно посмотрел на плачущего негра, зажег свет. Маркос пытался что-нибудь сказать, но ему было трудно подыскать слова. – Не теряйте надежды. Ее еще могут спасти. Негр даже не приподнял поникшей головы. – Если ее и спасут, ребенок все равно погиб… – Ребенок? Негр молча кивнул головой; по его осунувшемуся лицу текли слезы. Маркос почувствовал себя так, словно его сильно ударили в грудь. Глаза у него воспалились, его охватил озноб. Он закурил новую сигарету; когда он зажигал спичку, рука его дрожала. Откуда-то потянуло кислым, противным запахом лекарства. Была мучительная тишина. В дверях палаты появилась санитарка и, ничего не сказав, пошла по коридору. Немного спустя вошел врач и приблизился к ним. Положил руку на плечо Доротеу. – Она хочет вас видеть. Мужайтесь. Негр поднялся. Он едва мог держаться на ногах и казался пьяным. Вытер слезы рукавом пиджака. В коридоре врач задержался на мгновение около Маркоса и, доставая из кармана сигарету, сказал: – Она была беременна, вы знаете? Печально… Маркос утвердительно кивнул головой. – Он мне только что об этом сказал. Есть какая-нибудь надежда? – Никакой… Она проживет еще час, а может быть, и того меньше. Еще одна жизнь на счету сеньора Жетулио Варгаса… Слегка поклонившись, он ушел, оставив Маркоса одного в холодном пустом коридоре. Вдруг поблизости прозвучала музыка. Это было так неожиданно, что Маркое вскочил со стула. Не оставалось никакого сомнения: музыка доносилась из палаты, где лежала Инасия. Да, это она, негритянка Инасия, попросила своего негра Доротеу сыграть ей. На них в изумлении смотрела дежурная сестра милосердия. Многие годы работала она в больницах; столько народа умерло у нее на глазах… но никогда она не видела ничего подобного. Когда Инасия услышала, что подошел муж, она сказала: – Доротеу, дай мне руку… Я не хочу, чтобы ты плакал. Как хорошо, что я раньше тебя… Ее перебинтовали, покрыли белой простыней. Отмыли с лица кровь, и она была прекрасна: прекраснее ее не было негритянок в Сантосе. Доротеу не мог выговорить ни слова – все его силы ушли на то, чтобы сдержать слезы. – Мне очень больно, Доротеу. – Где? – тревожно спросил он. – Везде. Казалось, она несколько превозмогла боль, потому что оказалась в состоянии выговорить: – Как хорошо, что я вышла за тебя замуж. – Она пыталась погладить руку Доротеу. – Гармоника при тебе? Доротеу пошарил в карманах – гармоника уцелела. – Сыграй для меня. Играй, пока я не умру. Так мне будет легче… И музыка зазвучала – никогда раньше Доротеу так не играл. В этой музыке изливалась его тоска, скорбь, в ней была вся его жизнь. – Нет, не надо печали. Сыграй что-нибудь… – Ее рука искала руку мужа. – Сыграй то самое, хорошее… Нарастали звуки. Дежурная сестра милосердия – она думала, что сердце ее давно очерствело, – не могла больше выдержать: распахнула дверь и вышла в коридор; вслед за ней вырвались звуки музыки. Маркос де Соуза стоят и слушал. Он видел, как мимо пробежала сестра милосердия, закрывая руками лицо. Он заглянул в палату: у изголовья высокой больничной койки сидел на стуле негр Доротеу и, с трудом сдерживая слезы, играл на губной гармонике. Инасия улыбалась, слабеющей рукой нежно касаясь своего Доротеу; можно было подумать, что страдания ее прекратились. Время от времени тело ее вздрагивало, глаза закрывались. Неподвижно застыв на пороге, Маркос наблюдал эту сцену до тех пор, пока тело негритянки не дрогнуло в последний раз; ее рука соскользнула и повисла безжизненная. Губная гармоника упала на пол, теперь больше ненужная, ненужная навсегда. 17
Пронзительно звучали саксофоны. Негритянская музыка американского фокстрота увлекла пары танцующих на середину большого празднично украшенного зала отеля. Голос певца из джаза изливался в жалобе негра, преследуемого на берегах рек его новой родины, где только за белыми признаются человеческие права. Но здесь, на фантастическом балу, эта жалоба, исполняемая певцом в элегантном смокинге, утратила свой первоначальный смысл, превратившись всего лишь в возбуждающую мелодию для гран-финос, – такую же возбуждающую, как виски, шампанское и декольтированные платья женщин. Бертиньо Соарес, руководивший декорированием зала, был вполне удовлетворен. За короткое время, что было в его распоряжении, он создал настоящее чудо: использовав только цветы и световые эффекты, он придал залу вид богемного монпарнасского кабачка. Здесь царила атмосфера интимности; под цветами в полутенях утонула тяжеловесная, безвкусная роскошь отеля. Сам министр, войдя в зал, поздравил устроителя и с убранством зала, и с маскарадным костюмом: Бертиньо вырядился в комбинезон из синей саржи, покрытый заплатами и вымазанный чернилами. Этот маскарадный костюм пользовался самым большим успехом на празднике. Бертиньо держал небольшой плакат, который он показывал, переходя от столика к столику: «Я опасный забастовщик. Мне хочется выпить!» Всюду его приветствовали аплодисментами и возгласами одобрения; все единодушно считали, что им заслужен первый приз за самую оригинальную выдумку. На празднество в отеле собрался весь высший свет Сан-Пауло, отдыхавший на пляжах Сантоса: все гран-финос и туристы, рассеянные по отелям Сан-Висенте и Гуаружа. Присутствие министра труда превращало этот грандиозный бал в наиболее горячо комментируемое событие месяца, в «золотой ключ преддверья летнего сезона в идиллической атмосфере взморья Сантоса», как писал на следующий день в отделе великосветской хроники «А нотисиа» почтенный Паскоал де Тормес, специально приехавший из столицы штата для участия в празднике. Он тоже сумел по достоинству оценить «причудливую художественную фантазию» Бертиньо Соареса, но при этом ограничился, как впоследствии жаловался своим друзьям Бертиньо, всего-навсего четырьмя строчками для описания великолепного парижского наряда Мариэты Вале. Паскоал де Тормес, не скупясь на восторженные эпитеты и французские выражения, живописал атмосферу празднества, которая, по его словам, была «trиs chic» и «trиs Cфte d'Azur»[120]. Он особенно выделял присутствие министра, за чьим столом находились «высокие представители консервативных классов и паулистской аристократии, – банкир Коста-Вале, блестящий адвокат Артурзиньо Карнейро-Маседо-да-Роша, комендадора да Toppe – особа йpatante[121] нашей промышленности – и господин консул Соединенных Штатов – выдающийся дипломат, являющийся в настоящее время enfant-gвtй[122] высшего общества Сан-Пауло. Все они с интересом прослушали захватывающий рассказ ревностного инспектора охраны политического и социального порядка о попытках коммунистов возбудить в этот вечер волнения – попытках, хладнокровно и умело пресеченных нашей великолепной полицией. Сеньор министр труда не поскупился на похвалы действиям инспектора, и даже сам господин консул великой североамериканской державы – родины свободы и прогресса – в горячих словах выразил свое восхищение, что оказывает честь нашему нынешнему общественному управлению». Далее Паскоал де Тормес сообщал, что за главным столом, где собрались «люди, ответственные за судьбы христианской цивилизации в нашем отечестве», между прочим, обсуждались «важные политические вопросы». Однако эти темы не повлияли на оживленную, праздничную атмосферу бала: «среди танцев, искрящегося в бокалах шампанского обсуждались вопросы искусства и литературы, последние моды Парижа и Нью-Йорка, не говоря уже о том, что всюду процветал флирт, восхитительный и опасный». Далее следовало упоминание об одном столике, где «сверкали молодость и веселье» и где господствовала «вдохновенная фигура юного и блестящего дипломата Паулиньо Маседо-да-Роша». Действительно, еще накануне Пауло чувствовал себя возбужденным, охваченным почти юношеским волнением. Он понял истинный смысл того интереса, какой проявляла к нему Мариэта, и это открытие вызвало в нем какие-то новые восхитительные ощущения. После неожиданной сцены, когда она упрекнула его в слепоте, он ни на минуту не мог успокоиться. Он никогда не помышлял о таком любовном приключении, оно целиком захватило Пауло; это было нечто совершенно новое в его любовной практике. Женщина, на которую он привык смотреть почти как сын, неожиданно оказалась страстно в него влюбленной. За ужином в эту ночь исчезли последние сомнения. Их взгляды поминутно встречались, а когда они начали танцевать, Пауло почувствовал, как Мариэта тает от истомы в его объятиях. Они протанцевали почти всю ночь, и его губы несколько раз коснулись лица супруги банкира. Утром на пляже, позднее в холле отеля, когда приходили противоречивые известия о событиях в городе, о разгоне полицией похоронной процессии, и вечером на балу они чувствовали себя двумя томными влюбленными: обменивались нежными словами, пили аперитивы из одного бокала. А когда в зале появился инспектор полиции и все окружили его, чтоб выслушать, что он скажет, – Пауло воспользовался моментом и поцеловал Мариэту. Она не противилась, но в то же время изображала на лице повышенный интерес к рассказу Барроса, уподобившись девушке, которая старается скрыть от окружающих свою первую любовь. Еще до начала вечера, спускаясь в зал, Пауло встретил на лестнице Мариэту с Коста-Вале. Банкир спешил поздороваться с только что прибывшим консулом Соединенных Штатов. На мгновение они остались вдвоем. Мариэта прошептала: – Мне так хочется сегодня опьянеть… – Зачем? – Чтобы совершить все глупости, какие только взбредут мне на ум… – И мне тоже… – Итак, решено? – Решено. И теперь он наблюдал, как она за столом министра осушала шампанское бокал за бокалом. Инспектор Баррос несколько раз повторил подробное описание уличного столкновения. Уже было известно, что восемь рабочих убито, а больше двадцати тяжело ранено. Может быть, к этому времени некоторые из них уже успели скончаться в больнице и по пути в нее. Один полицейский агент – тот, что сорвал национальный флаг с гроба Бартоломеу, – также поплатился жизнью, а трое других были ранены. Арестов произведено так много, что нехватило полицейских камер, и многих арестованных пришлось отправить прямо в городскую тюрьму. Забастовке нанесен сокрушительный удар – это несомненно. Теперь грузчики будут знать, какой ценой приходится расплачиваться за беспорядки; они не отважатся больше устраивать новые похороны с музыкой и флагами. Что касается флагов, продолжал рассказывать инспектор, знамя профсоюза захвачено полицией в качестве трофея. А бразильский национальный флаг исчез, и никто не знает, где он. Пропала и негритянка – та, что пыталась снова возложить флаг на гроб и была растоптана лошадьми. Как она могла исчезнуть, – это загадка. Из окна здания, откуда он руководил событиями, Баррос видел, как по телу негритянки промчались лошади. Если она не умерла на месте, то, во всяком случае, была лишена возможности уйти. Как она исчезла, никто не знает. – Негры живучи как кошки, – заметила комендадора. Коста-Вале сделал движение рукой, как бы приглашая не задерживаться больше на такой незначительной детали. Его равнодушный голос дал оценку событиям: – Хорошая работа, но еще не достаточная. Теперь следует довести ее до конца. Ковать железо, пока оно горячо… Американский консул поддержал его на ломаном португальском языке: – Пять американский пароходы дожидаться в порту разгрузка. Большой убыток. В консульство приходить много телеграмм. Министр поделился своими выводами о посещении Сантоса: – Завтра утром я возвращаюсь в Рио. Единственный способ покончить с этой забастовкой – вмешательство правительства. Прислать сюда военные части, занять город. Уволить забастовщиков, использовать солдат для погрузки судов. – И в первую очередь нагрузить германский пароход кофе для генерала Франко… Когда пароход будет погружен, отпадет повод для продолжения забастовки, – заметил банкир. Все с этим согласились. Были раскупорены новые бутылки шампанского. К столу подошел Пауло и протянул руку, приглашая Мариэту на танец. Саксофоны исступленно выводили чувственную мелодию фокстрота. – Уже опьянела? – спросил ее на ухо Пауло. – Почти… Тост за тостом: за полицию, за инспектора, за окончание забастовки, за смерть коммунистов… С меня довольно… – Но ты же сама хотела опьянеть! – Вовсе нет… Только чуть-чуть захмелеть, развеселиться… – Ты опечалена? – Опечалена? Нет… Но здесь слишком много народу… – Хочешь, уйдем? – Куда? – На пляж… Ночь, такое очарование!.. Светит луна… мы растянемся на песке и будем совсем-совсем одни, мы и море. Она заглянула ему в глаза похотливым взглядом: – Я совсем обезумела… Пойдем. Они вышли, пробравшись между танцующих пар. У выхода из зала Бертиньо Соарес, слонявшийся со своим плакатом, спросил их заплетающимся, пьяным языком: – Куда вы, дорогие мои? Пауло рассмеялся: – Идем праздновать разгром забастовщиков… – И я с вами… – Нет, тебе нельзя. Ты же забастовщик, враг. Взявшись за руки, они спустились по широкой лестнице и вышли из дверей отеля, мимо двух беседовавших между собой сыщиков. На улице Пауло обнял ее, но когда они завернули за угол и перед ними открылось море, она вырвалась от него и бросилась бежать по прибрежному песку. – Поймай меня! Он побежал за ней. «Шалит, как девочка! Да, она очаровательна!» В зале фокстрот сменился оглушительными звуками карнавального марша. Пары танцующих разъединились, чтобы образовать один общий оживленный круг. Вскоре почти никого не осталось за столиками; все вплоть до Коста-Вале и старой комендадоры, поднятых с мест Сузаной Виейра, приняли участие в танце. Сузане захотелось заставить танцевать и министра, и тот, прихватив с собой инспектора Барроса, охотно последовал ее приглашению. – Давайте развлекаться, сеньор инспектор. Вы это заслужили. – Сеньор – герой праздника, – обратилась к Барросу Сузана, улыбнувшись одной из самых обольстительных улыбок. – Я люблю храбрых мужчин… Но тут же Сузана оставила его, процедив сквозь зубы «ужасный мулат, не умеет даже танцевать!» – и сменила его на Бертиньо Соареса, уже совершенно пьяного. – Что за вакханалия, милый Бертиньо! Сегодняшний бал завершится чудовищной оргией. Это мне по вкусу… Бертиньо Соарес даже выпустил из рук свой плакат, чтобы энергичнее протестовать, но язык с трудом повиновался ему. – Не говорите так, деточка, не говорите. Это не вакханалия, нет! Это историческое празднество… Мы отмечаем нашу победу над забастовщиками… – Он стал в позу оратора, с трудом сохраняя равновесие и грозя свалиться на Сузану. – Победа над силами зла, над агентами Москвы – азиатскими варварами, покушающимися на наше общество, мораль, христианскую цивилизацию… Не выдержав, он упал в кресло, разинул рот и его начало рвать изысканными блюдами, французским шампанским, христианской цивилизацией… 18
Пересекая горный хребет на пути к поселку Татуассу, Жозе Гонсало заметил с высоты то, что осталось от экспедиции, сделавшей привал на землях Венансио Флоривала. Великан расхохотался, увидя вдалеке этот более чем скромный импровизированный лагерь. Уже ничего не оставалось от прежнего внушительного каравана, совершавшего свой путь на выносливых лошадях, разбивавшего на каждой стоянке усовершенствованные палатки – последнее слово американской техники; тогда эта экспедиция походила скорее на прогулку туристов во время каникул, на увеселительное путешествие, чем на экспедицию в негостеприимный край. Кабокло наказали гринго за то высокомерие, с каким эти господа, восхищаясь диким великолепием природы, презирали бразильца, погрязшего в нищете. Когда языки пламени начали лизать американские палатки, охваченные страхом гринго, бросив свои комфортабельные походные койки, спаслись бегством… Перепуганные лошади – лучшие лошади из конюшен Венансио Флоривала – устремились в селву и исчезли там навсегда. В панике и беспорядке бежали вспять напуганные американские специалисты и их бразильские сподручные. «Они бежали, поджав хвосты», – как выразился Ньо Висенте, самый старый обитатель речного побережья. Это была победа, достигнутая благодаря хорошо задуманному и искусно выполненному плану. «Ну, а что дальше?» – задавал себе вопрос великан, без дорог пересекая горы и направляясь в Татуассу. Выгнать из долины эту первую экспедицию, охранявшуюся только людьми экс-сенатора, было нетрудно. Ну, а что же дальше? Спрятавшись в доме старого торговца кашасой, своего благодарного друга («я ваш должник на веки вечные», – сказал он Гонсало, когда тот своими индейскими травами вылечил ему застарелую рану на ноге), Гонсало послал Нестора узнать новости. Посланец возвратился к полуночи; его ноги были в грязи, но зато он принес много новостей. Эти новости разносились от хижины к хижине по всем фазендам Венансио Флоривала. Экс-сенатор сейчас находился в Куиабе – столице штата Мато-Гроссо. Вместе с ним туда приехали поэт Шопел, социолог Эрмес Резенде, репортер из «А нотисиа», профессор доктор Алсебиадес де Мораис и несколько инженеров. Они ждали самолета, который должен был доставить их в Сан-Пауло. Перед отлетом профессор медицины выразил свои впечатления от долины в кратком заявлении: – Только японцы могли бы жить в таком аду. Что касается оздоровления долины, то об этом и думать нечего. Невыполнимая задача. И для чего оздоровлять долину? – заключил он. Поэт Шопел не полетел с остальными. Он остался в Куиабе, чтобы в качестве представителя «Акционерного общества долины реки Салгадо» начать судебный процесс против кабокло, якобы незаконно занимающих прибрежные территории, которые, согласно недавно заключенной концессии, были предоставлены правительством акционерному обществу. Для ведения дела в столицу штата Мато-Гросса должен был прибыть доктор Артур Карнейро-Маседо-да-Роша. Венансио Флоривал изложил друзьям в Куиабе свои проекты, как он «примерно проучит этих наглых кабокло: так расправится с ними, что они научатся уважать начальство». И чтобы окончательно убедить власти в необходимости покончить с кабокло, патетически воскликнул: – Что подумают о нас американские ученые? Что мы – страна бандитов. У них создастся неблагоприятное, невыгодное для нас впечатление. А между тем мы нуждаемся в них, в их капиталах, чтобы способствовать прогрессу страны… Из Куиабы дошел слух об ожидавшемся в скором времени прибытии партии японских иммигрантов[123], предназначавшихся для работ в долине. Нестор узнал, что наместник штата предоставил в распоряжение экспедиции отряд военной полиции для охраны ее при возвращении на побережье реки. Несмотря на эту меру, американские специалисты пришли к заключению, что возвращаться в селву бесполезно, пока они не получат из Соединенных Штатов и из Рио-де-Жанейро новое оборудование и инструменты, необходимые для изысканий. Пожар лагеря и поспешное бегство среди ночи привели к тому, что весь багаж экспедиции погиб. И, разумеется, они не смогут отправиться в долину раньше, чем через месяц-два. Поэтому инженерам и техникам, которые остались ждать у горных подножий, на границе земель Венансио Флоривала, было дано распоряжение свернуть лагерь, возвратиться на фазенду и там ожидать нового распоряжения компании. Это предписание было доставлено в лагерь слугами Венансио Флоривала. Люди, которых Гонсало разглядел с горных высот, и были оставшиеся участники экспедиции и слуги Флоривала – они, видимо, возвращались в усадьбу плантатора. Выложив все собранные им во время длинного пути новости, Нестор замолчал и стал ждать, что ему скажет Дружище. Он сидел на корточках перед Жозе, курил сигарету из маисовой соломки и восторженно смотрел на человека, который олицетворял для него всю мудрость мира. Нестор успел также сообщить Гонсало, что научился писать и теперь уже выводит буквы и разбирает по складам слова в газетах. Но Дружище молчал, погруженный в свои думы. «Да, поджог лагеря американцев – это хорошее дело, победа! Есть от чего возрадоваться сердцу патриота! А что же дальше?» В глухом уснувшем поселке, сидя в повешенном посреди хижины гамаке, напротив Нестора и старого торговца кашасой, спавшего в задней каморке, Гонсало чувствовал себя глубоко беспомощным и одиноким перед новыми трудными задачами. Задачи эти касались жизни и будущего многих людей, а он был совершенно один и ему одному предстояло их решать. Он сгорбился, устремив взгляд в ночной мрак за окном. Скудный свет керосиновой лампочки колебался, увеличивая на стене тень великана. Бороться вместе с кабокло? Нет сомнения, большинство согласилось бы пойти за ним на вооруженную борьбу. Но какие бы это принесло результаты? Они были бы побеждены правительственными солдатами и людьми Флоривала, превосходящими повстанцев числом и оружием. Лишь немногие кабокло имели охотничьи ружья. Чем бы все это кончилось? Кто нашел бы смерть в бою, кто был бы взят в плен, приговорен к тридцатилетнему тюремному заключению и сгнил бы в тюрьмах Куиабы. Имел ли он право вести этих людей на смерть или вечное заточение? Но разве можно допустить, чтобы кабокло прогнали с их земель и обрекли на еще более горькую муку рабского труда на плантации какого-нибудь полковника[124]? Поражение неизбежно: никогда им не воспрепятствовать проникновению представителей акционерного общества в долину. Но, с другой стороны, разве не в результате таких местных и частичных боев возникает гнев и решимость великой последней борьбы? Ему вспомнились слова Карлоса, сказанные ночью на берегу реки, когда он приезжал из Сан-Пауло предупредить Гонсало о скором прибытии янки: – Надо, чтобы борьба, которая здесь вспыхнет, послужила примером для всего крестьянства. Продолжая свои тревожные размышления, Гонсало вспомнил и о словах, сказанных в Баии товарищем Витором, когда тот, показывая на карте Бразилии маленькую затерянную точку – долину реки Салгадо, – произнес внушительным тоном: – Вот к этим землям, богатым марганцем, прикованы взгляды американцев. Они не замедлят протянуть свои когти к природным богатствам этой долины. Почему бы тебе, Гонсало, не отправиться туда до их прибытия и не подготовить им встречу? Они – это североамериканские гринго, ненавистные янки с жадными и хищными глазами убийц. Гонсало еще ниже склоняет голову, будто его давит бремя ответственности, возложенной на него партией. Нестор, сидя напротив, продолжает спокойно курить; он соблюдает почтительное молчание, не решаясь нарушить течение мыслей Дружища, и только недоумевает, чем вызваны озабоченность и беспокойство его друга. Гонсало вспомнил теперь об одном собрании уже после восстания 1935 года, на котором ему пришлось присутствовать. Он старался восстановить в памяти развернувшуюся тогда дискуссию и выступления товарищей из руководства. Разве там не было сказано, что вооруженные выступления крестьян в борьбе за землю – как бы незначительны и кратковременны они ни были – являются первыми ростками аграрной и антиимпериалистической революции? И разве рабочие в городах не устраивают забастовок, даже в еще более тяжелых условиях, когда против них законодательство, политическая полиция, суды, военная сила? Да, будь сейчас рядом с ним его товарищи по партии, он мог бы с ними посоветоваться, поделиться сомнениями, услышать их слова – слова людей, закаленных опытом борьбы. Когда началась борьба индейцев в колонии Парагуассу, в районах плантаций какао на юге штата Баии, он получал от местного партийного руководства все указания. Дни и ночи проводил тогда товарищ Витор за изучением мельчайших деталей движения. Он, Гонсало, ни на минуту не чувствовал себя в одиночестве: партия была рядом с ним, нити от нее тянулись к нему из Ильеуса, из Итабуны, из столицы штата. Но сейчас здесь, на краю света, он был далеко от всего и всех, а речь ведь шла о борьбе не с одним каким-то жадным и свирепым плантатором; теперь он восставал против североамериканского империализма и вел за собой кабокло, еще более отсталых и безоружных, чем даже мирные индейцы Ильеуса. И около него не было ни партии, ни товарищей, ни ответственного руководства. Витор с его быстротой соображения, марксистской культурой и широтой перспективы находился от него далеко. Карлос, поглощенный, повидимому, иными задачами, не подавал больше никаких признаков жизни – слухи о забастовке в Сантосе, хотя искаженные и преувеличенные, достигли и поселка Татуассу. Относительно его товарищей в Куиабе Гонсало ничего не было известно: Карлос решил связать его непосредственно с руководством в Сан-Пауло. Правда, он дал ему один адрес и в Куиабе, но велел им воспользоваться лишь в крайнем случае, поскольку революционное движение в штате Мато-Гроссо было очень слабо. Уезжая, Карлос обещал прислать ему в помощь товарищей в числе тех рабочих, что должны были прибыть в долину. Спустя несколько дней после отъезда Карлоса Гонсало получил от сирийца, вернувшегося из поездки, небольшую пачку материалов о работе среди крестьян; этот пакет передал сирийцу в столице штата неизвестный с просьбой вручить его Гонсало от имени Карлоса. И это было все. Затем наступило молчание. Ожидавшаяся исследовательская экспедиция прибыла, но рабочих в ее составе не оказалось – одни лишь инженеры и техники. Тогда Гонсало решил перейти в наступление, немедленно начать борьбу и выгнать с берегов реки этот авангард империалистических сил. Но теперь, выслушав принесенные Нестором новости, он усомнился: правилен ли такой образ действий? Он спрашивал себя, что делать потом, когда американцы снова вторгнутся в долину? Гонсало задумался над возникшими перед ним вопросами, но ощущение одиночества и заброшенности мешало ему собраться с мыслями. Ему казалось, что, оторванный от товарищей, вне контакта с партией, он окажется не в состоянии принять правильное решение, а ему так страшно было ошибиться, страшно вовлечь слепо верящих ему кабокло в авантюру, не сулящую им ничего хорошего! У него возникло желание уехать и, двигаясь по дорогам штата к Сан-Пауло, встретиться там с ответственными товарищами. Если бы он мог так поступить! Тогда все стало бы ясным, он разобрался бы в мучающих его вопросах. Партия взяла бы на себя ответственность за принятые им решения… Индейцы Ильеуса, крестьяне северо-восточного сертана, кабокло долины – все говорили, что нет на земле человека отважнее Гонсалана. Но куда же девалась его хваленая отвага, когда он теперь, боясь ответственности, не может принять решения! «Храбрость, – думал он, – не только в том, чтобы давать отпор полиции, с оружием подниматься на владельцев земли. Храбрость и в том, чтобы принять на себя ответственность; самому решить, как надо действовать, когда ты совсем один». Как-то раз Витор показал ему копию письма Престеса к партии, посланного им из своей мрачной и тесной, как гроб, темницы. Изолированный не только от своих товарищей, но и от всякого общения с людьми, руководитель партии сделал анализ международного и внутреннего положения и наметил перспективы для всей борьбы бразильского народа. По этому поводу Витор заметил: – Анализ великолепный: Престес видит события с такой ясностью, будто сам находится в гуще борьбы, во главе партии, поддерживая связь с другими товарищами из руководства, снабженный книгами, справочными изданиями, информационным материалом. Это письмо, старина, гораздо больше, чем простой анализ. Оно учит всех нас, коммунистов, партию в целом, что истинный коммунист никогда не бывает один, даже если он изолирован от всех, даже если он находится в самых ужасных условиях. Он несет в себе идеи партии. За энергичным лицом Витора в колеблющемся свете коптящей лампочки Гонсало различает теперь черты другого лица – лица Престеса. Он его никогда в жизни не видел, но это лицо ему так близко, как лицо родного отца. Мучительное и тревожное чувство одиночества оставляет его; внезапно он ощущает себя окруженным всей партией, способным анализировать проблемы, находить для них решения, принять на свои плечи самую тяжелую ответственность. Он расправляет грудь. Нестор улыбается, видя, как повеселели глаза великана. Его присутствие в долине реки Салгадо означает, что с ним здесь партия, а это должно быть подтверждено и закреплено действиями. Не только для того, чтобы скрыть от полиции, спасти от ареста прислали его сюда товарищи. Прислали, чтобы он дожидался здесь гринго и подготовил обитателей побережья к борьбе с чужеземными захватчиками. Выбрали именно его, потому что у него уже имелся опыт такого рода борьбы, потому что он руководил восстанием мирных индейцев колонии Парагуассу. Так почему же он колеблется, почему чувствует себя одиноким, сгибается под тяжестью возложенной на него ответственности? Сколько других товарищей, на всем протяжении страны – от Амазонки до Рио-Гранде-до-Сул – находятся в настоящее время в таком же положении, стоят перед сложными и трудными задачами, которые они должны разрешать немедленно, не имея возможности обсудить их с руководством, посоветоваться с товарищами? Гонсало знает, что кадры партии невелики: едва какая-нибудь тысяча на огромной территории страны, какая-то тысяча бойцов, которым приходится разрешать сложнейшие задачи, поддерживать борьбу во всех концах страны, будучи отделенными друг от друга колоссальными расстояниями, преодолевая бесконечные препятствия. Преследуемые и травимые, как звери, полчищами специальной полиции, эти люди подвергались пыткам, тюремным заключениям, их убивали. Горстка людей – вот что такое его Коммунистическая Партия, но она выражает подлинную душу народа, является источником его жизненной силы, его ясным мозгом, его могучей рукой. И каждый из этих людей своими усилиями способствует выступлению масс, дает врагам почувствовать силу народа даже в мелких и частных формах борьбы; то здесь, то там вспыхивают забастовки, возникают волнения крестьян. Всюду, даже в простом появлении ночью нелегальных лозунгов на стенах, – эти люди всегда олицетворяют собою партию. Ему следовало проявить решительность, а не сетовать на то, что не с кем обсудить вопросы, не с кем посоветоваться. Он коммунист; он представляет партию на этой части территории Бразилии. Если даже он и совершит какую-либо ошибку, если и не найдет наиболее правильного решения всех деталей стоящей перед ним задачи, – важно что-то делать, а не сидеть сложа руки, когда империализм собирается оторвать от страны целую область. Что бы он сейчас ни сделал, будет полезно как обнадеживающий, возбуждающий пример: пролитая кровь сможет оплодотворить будущие, более серьезные битвы; трудности для американцев еще больше увеличатся. Если же он даст этим янки время обосноваться и только после этого начнет борьбу, труднее будет тем товарищам, которые должны явиться сюда вместе с рабочими изыскательских партий. Он, Гонсало, должен заложить фундамент борьбы, организовать движение, которое могло бы служить примером для всех крестьян штата. Вот зачем прислала его сюда партия. Для чего иного он сюда прибыл, как не для того, чтобы заблаговременно создать препятствия на пути американских завоевателей? Его приезд сюда – результат предусмотрительности партии, оберегающей естественные богатства Бразилии, готовой защищать их от хищников Уолл-стрита. Одновременно с этим партия, воспитывая отсталые массы крестьянства, обучает их искусству революционной борьбы, подготовляя их на практике этих мелких стычек к великим битвам завтрашнего дня. Он, Жозе Гонсало, должен повести кабокло, непосредственно пострадавших от акционерного общества, на борьбу, которая помогла бы повысить политическую сознательность всех крестьян окрестных фазенд, помогла бы создать союз между рабочим классом, представителем которого он являлся, и крестьянством, – союз, необходимый для дела революции. Когда партия, сначала устами Витора, затем Карлоса, поручала ему это дело, она дала ключ к разрешению поставленной перед ним задачи, открыла ему все перспективы. От него требовалось лишь одно: чтобы он действовал, как коммунист; мыслил, как коммунист; принимал решения, как коммунист, с полным сознанием своей ответственности перед всем народом и перед будущим Бразилии. Жозе Гонсало вслух подвел итог своим размышлениям, дал оценку преодоленному теперь чувству одиночества: – Все это – результат долгого пребывания в отрыве от жизни организации, без контакта с товарищами, без дискуссий и самокритики. Услышав, но не разобрав, что он сказал, Нестор спросил: – Ты мне говоришь, Дружище? Гонсало взглянул на сидевшего перед ним на корточках молодого крестьянина, спокойно курившего сигарету, и улыбнулся. Как он мог считать себя одиноким, когда партия окружает его во всей Бразилии, когда даже вот здесь, рядом с ним, находится этот юноша: хотя его сознание пробудилось для борьбы совсем недавно, но воодушевление не имеет границ. Почему бы ему не посоветоваться с Нестором, почему бы не посоветоваться с Клаудионором? – Ты сможешь прийти завтра вечером с Клаудионором? Надо будет кое-что обсудить, устроим собрание коммунистов… Нестор широко улыбается. – Разумеется, Дружище! Мы и сами хотели побеседовать. Можем даже привести еще и других… трех-четырех человек… – И он начал перечислять по пальцам их имена. – Приведи всех как-нибудь в другой раз – завтра мы соберемся втроем. Нестор ушел, но теперь Гонсало больше не чувствовал себя одиноким; исчезли колебания, тяжесть задач уже не страшила его. Теперь он знал, как найти решение, какого пути держаться в предстоящей борьбе. Он достал из сумки свои заметки, огрызком карандаша принялся набрасывать план действий. «У меня два фронта, – подумал он, – один в долине, другой здесь, на фазенде Флоривала; прежде всего необходимо установить между ними связь. Это нужно для того, чтобы, когда начнут развертываться события на побережье реки, кабокло могли рассчитывать на активную помощь работников фазенды. Необходимо объяснить колонистам и батракам фазенды, что, если американцы обоснуются в долине, жизнь работников фазенд, и без того ужасная, станет еще тяжелее. А феодальное могущество Венансио Флоривала, владения которого будут тогда простираться за горы, еще возрастет. В самых простых словах надо объяснить им значение империалистического владычества, закабаляющего их в рабство, значение союза между иностранным капиталом и отечественными плантаторами». Объяснить им это нелегко, но Гонсало умел разговаривать на бедном словами языке сельскохозяйственных рабочих, умел убеждать при помощи образов и примеров. Но с кабокло – обитателями долины – дело обстояло иначе. Они почти не нуждались в разъяснениях: они отлично сами знали, что создание акционерного общества для эксплуатации долины реки Салгадо означало их изгнание с земель, где они добывали свой хлеб насущный. Когда Жозе Гонсало подплывал в своем челноке от хижины к хижине, расположенным вдоль берега, предупреждал их обитателей о прибытии экспедиции инженеров и призывал к сопротивлению, он заставал их уже сговорившимися между собой и готовыми до последней капли крови защищать эту затерянную, отвоеванную у девственной чащи землю, возделанную ими, несмотря на лихорадки, москитов и ядовитых змей. Их не интересовало, что привело сюда этих чужих людей, что эти люди собой представляли. Кабокло знали только одно – и этого им было вполне достаточно: появление этих людей означало захват земли, принадлежавшей кабокло, их изгнание с родных мест. Жозе Гонсало увидел твердую решимость в ненавидящем взгляде обычно спокойных глаз кабокло. Ньо Висенте, поселившийся здесь с незапамятных времен и неизвестно чем сюда привлеченный, теребя редкую бородку, говорил Гонсалану: – Дружище! Прошло много времени с тех пор, как я собственноручно вырубал здесь чащу. Раньше у нас с покойным отцом имелся клочок земли там, в Минас-Жераисе. Это был жалкий клочок земли, почти ничто. Но мы обрабатывали ее с радостью: то была наша собственная земля. Одно удовольствие было смотреть на нашу маленькую плантацию – такое удовольствие, что она пришлась по вкусу полковнику Бенедито, и он забрал ее себе. Жозе Гонсало без всякого труда мог угадать продолжение рассказа старика. Такие истории о захвате и краже земель у мелкого крестьянства в глубинных районах Бразилии, жестокие, несправедливые истории, повторялись тысячи раз. Ньо Висенте рассказывал монотонным голосом, сидя на корточках перед огнем, на котором он варил свой скудный обед: – Старик отправился в город искать справедливости. Земля принадлежала ему по праву – он заплатил за нее хорошие деньги, а полковник вдруг выдумал, что земля эта – его. Мой отец, совершенно уверенный в правоте своего дела, немедленно направился в город и обратился в суд. Ну, и что же ты думаешь, Дружище? Против отца был возбужден судебный процесс, и несчастный кончил свои дни в тюрьме. Не будь тогда еще жива моя мать, которую я должен был поддерживать, я бы ушел в сертан, вступил в какую-нибудь шайку, чтобы отомстить полковнику. А после смерти матери я решил разбить участок здесь, на краю света, надеясь, что хоть тут меня никто не потревожит. Я уже стар, но на этот раз никому не прогнать меня с моей земли! Предпочту скорее умереть на ней. Превращусь в бандита – мне все равно. Каждый человек с честным сердцем пойдет со мною, Дружище! Мы здесь мирно трудимся, наши владения так малы и ничтожны – почему же они хотят захватить нашу землю? На этот раз я умру на моей земле, но никому не отдам ее, клянусь богом!.. Гонсало не стоило большого труда собрать кабокло и поджечь лагерь. И нетрудно будет в дальнейшем поднять их на борьбу. Но ему следовало изучить, спланировать и хорошенько обдумать, как сделать, чтобы эта незаметная борьба, развертывающаяся в затерянном сертане, оказалась популярной во всем штате, стала примером для крестьянства всех внутренних районов. Для этого надо было уделять больше внимания работникам фазенды. Почему бы с помощью Нестора, Клаудионора и некоторых других не организовать здесь первую партийную ячейку? Это послужило бы толчком для создания других организаций; на соседних фазендах создались бы новые кадры бойцов – кадры, которые заменят Гонсало, если ему придется погибнуть, сражаясь в долине. Эти партийные ячейки затруднили бы жизнь американцам даже и после того, как прекратятся военные действия кабокло. Жозе Гонсало решил остаться на несколько дней в поселке, заложить здесь фундамент, выпестовать рождение партийной организации. В недалеком будущем первые побеги закалятся в сражениях, и уже завтра, когда сюда явятся рабочие добывать из земли марганец, когда начнутся забастовки, – борьба вспыхнет и на фазендах; действия рабочих и крестьян сольются воедино, это будут уже не разрозненные мелкие стычки, а великие битвы – предвестницы зари освобождения. И тогда воспоминание о кабокло долины, о начальном этапе борьбы послужит примером и стимулом к новым боям. Гонсало захлопнул свою разбухшую тетрадь с записями, тщательно спрятал драгоценный огрызок карандаша. Погасил лампочку, растянулся в гамаке и закрыл глаза. Ночь сторожила сон великана. 19
Через открытую дверь небольшой комнаты, где сотрудница просила его подождать, Сакила увидел, как Антонио Алвес-Нето прошел по коридору, провожая посетителя. Он узнал в этом посетителе интегралистского лидера, врача из Рио-де-Жанейро, одного из самых видных фашистских руководителей, ближайшего советника Плинио Салгадо. Антонио Алвес-Нето, улыбаясь, сам подал доктору шляпу, крепко пожал ему руку. Сакила сделал из этого вывод, что союз между интегралистами и армандистами заключен. Интегралистский вожак приходил, видимо, уславливаться о деталях заговора. Сакила был убежден – может быть, даже больше, чем сам Алвес-Нето, – что переворот увенчается успехом. С детства он привык видеть паулистских политиков хозяевами правительства и страны и всегда относился к ним с уважением и с известным восхищением. Даже став коммунистом, покончив с «модернистским» литературным движением[125] и его скандальной известностью, Сакила искал новых путей для своей несколько авантюристической натуры; он продолжал видеть в этих паулистских интеллигентах, окончивших факультет права, самых способных людей страны, причем он не задумывался над тем, что они представляют собой в классовом отношении. В период, когда Сакила пользовался авторитетом в районном комитете, он окружил себя интеллигентами – выходцами из той же среды, что и он сам: адвокатами, врачами и журналистами вроде Сисеро д'Алмейды. Он им, естественно, доверял, а они, в свою очередь, легко соглашались с его теориями, которые вызывали столько возражений у рабочих-активистов. И немалая доля его вины была в том, что паулистское руководство Национально-освободительного альянса в 1935 году состояло в большинстве своем из бакалавров, сынков плантаторов, не связанных с широкими массами. Он был до крайности раздражен, когда в избирательной кампании 1937 года национальное руководство партии не согласилось с его соображениями о необходимости поддержки кандидатуры Армандо Салеса. Теперь же, отстраненный от руководства, окруженный недоверием большинства членов партии, в том числе и его прежних друзей, – таких, как, например, Сисеро д'Алмейда, у которого чувство партийной дисциплины оказалось сильнее его интеллигентской закваски, – Сакила относился с презрением к этому, по его мнению, сбившемуся с пути руководству и не мог скрыть своего восхищения армандистскими политиками, почти открыто готовившими переворот. Происходя из бедной семьи, Сакила ненавидел нищету. То обстоятельство, что он из-за отсутствия средств не мог закончить университет, казалось ему причиной многих жизненных неудач. Он сделался журналистом, соблазнившись возможностями, которые предоставляет печать человеку с головой на плечах. Через редакцию он связался с литераторами и в дни расцвета «модернизма» даже на какое-то время прославился, введя в компании с Марио де Андраде и Антонио де Алкантара-Машадо[126] эту новую литературную моду в самые аристократические салоны города. В тот период он считался одним из подающих надежды молодых интеллигентов, примкнувших к старой паулистской республиканской партии – партии, отличавшейся своим консерватизмом; он работал в газете «Коррейо паулистано» и ожидал избрания в депутаты законодательного собрания штата. Однако в результате путча 1930 года пришел к власти Варгас, и Сакила оказался на улице, без работы. В этой неразберихе, когда у власти находилось временное правительство и все утверждали, что они «левые», и когда во многих странах мира возникло движение Народного фронта, Сакила, начитавшись теоретических книг, сблизился с коммунистической партией. После создания Национально-освободительного альянса у него возникла уверенность в возможности победы демократических сил. Тогда он развернул активную деятельность, которая помогла ему завоевать авторитет в комитете партии штата Сан-Пауло. В то время он уже работал в газете «А нотисиа» и принимал участие в выпуске ее литературного приложения. Потом последовал разгром восстания 1935 года, он был арестован и просидел несколько месяцев, но после освобождения занял прежнее место в газете Алвес-Нето и вскоре получил повышение, став секретарем редакции. Сакила чувствовал, что наступил критический момент его жизни: он не видел никаких перспектив в коммунистической борьбе и в то же время знал, что ему нечего предложить армандистским заговорщикам, кроме своего авторитета у коммунистов. С тех пор как он был устранен от руководства, Сакила решил покинуть партию. Но предложения Алвес-Нето помешали ему выполнить это решение. Он должен был извлечь из своей связи с партией, из своего положения «известного коммуниста» возможно большую выгоду. Сакила много думал об этом, пока у него в голове не возник определенный план действий. Взвесив свои партийные связи, он пришел к заключению, что восемнадцать членов партии (почти все – мелкие буржуа, вступившие в партию в начале 1935 года) готовы следовать за ним при первом его выступлении против руководства. Их немного, всего восемнадцать, но все-таки это уже кое-что, да и нет необходимости говорить, сколько у него сторонников. И этого вполне достаточно, чтобы иметь возможность говорить о расколе в партии и выступать «от имени партии». Это было то, что он конкретно мог предложить Алвес-Нето как свой вклад в заговор. А в случае успеха переворота перед Сакилой открылись бы все пути… Вот тогда он понадобится «армандистам» для борьбы против их вчерашних союзников – интегралистов. Антонио Алвес-Нето, проводив фашистского вожака, подошел к ожидавшему его Сакиле, подал ему холеную руку, на которой поблескивал рубин в окружении брильянтов, подчеркивавший солидность адвоката и издателя. Он пригласил его в свой рабочий кабинет – просторное, комфортабельное помещение, обставленное строго и со вкусом, протянул ему ящик с сигарами и спросил: – Виски или джин? Разливая напитки, сказал: – Извините, что заставил вас ждать. У меня была важная встреча, имевшая, можно сказать, решающее значение для нашего дела. – Он подал Сакиле бокал и поднял свой в молчаливом тосте. Потом уселся в кресло против Сакилы, поставил бокал на столик, положил руки на колени и спросил: – Итак? Сакила зажег сигару, искоса посмотрел на адвоката. – Вы меня позвали – я пришел. Антонио Алвес-Нето начал беседу: – Хорошо, мой дорогой, будем говорить откровенно. Вы и ваша партия стоите перед последней возможностью: поставить вместе с нами на карту или не поставить. Я не должен и не имею права вам многое говорить, но все же сообщу некоторые сведения, чтобы вы могли судить о положении. На нашей стороне ряд генералов и много армейских офицеров, а также военная полиция штата. У нас есть добровольцы, в Рио-Гранде-до-Сул Флорес-да-Кунья ожидает лишь нашего слова, чтобы перейти границу и возглавить преданных ему людей. С нами также интегралисты… Это означает, что мы имеем на своей стороне церковь, немецкую колонию, почти все офицерство военно-морского флота. И, помимо всего этого, – тысячи людей, готовых, если понадобится, продолжать борьбу, хотя я и не думаю, чтобы она затянулась, ибо дело должно решиться очень быстро – все будет кончено в одну ночь. Неожиданный переворот, быстрый, решительный! Провала быть не может. У меня есть некоторый опыт в этих делах, – сказал он голосом, в котором сквозила притворная скромность, – и думаю, что не ошибаюсь. На этот раз сеньору Жетулио Варгасу придет конец. Так как Сакила, отпивая глотками виски, продолжал хранить молчание, Алвес-Нето продолжал: – Я уже вам как-то говорил, что вы можете помочь привлечь на нашу сторону многих капралов и сержантов военного округа и людей из военно-морского арсенала в Рио-де-Жанейро. Они не хотят идти с нами только потому, что вы придерживаетесь нелепой, непонятной позиции. Говорите, что вы против «нового государства», а когда вам представляется возможность свергнуть его, – увиливаете. Чего вы добьетесь стачкой в Сантосе, получасовыми забастовками на фабриках Сан-Пауло? Заработаете тюрьму, побои, ничего больше. Вы добьетесь лишь того, что против вас будет брошено еще больше полиции, что преследование вашей партии усилится. Это нелепая политика тех, кто не имеет никакого представления, что значит делать политику в Бразилии. Я в последний раз обращаюсь к вам с конкретным предложением: покончить с этими забастовками и вместе с нами идти к великому дню восстановления в Бразилии демократического режима. Мне стоило больших усилий убедить некоторых союзников, в частности того приятеля, который был перед вами в этой комнате, в том, что сотрудничество с коммунистами может принести пользу. Многие не желают иметь с вами ничего общего, даже имени вашего слышать не хотят. – Он остановился, чтобы сделать глоток. – Мой дорогой, при существующем положении я не могу долго ждать ответа. Я должен вам сказать, что у нас уже все подготовлено, мы ожидаем лишь наиболее подходящего момента, а он может возникнуть в любую минуту. Ответ мы должны получить максимум через четыре-пять дней. Либо да, либо нет! Алвес-Нето посмотрел на Сакилу, усевшегося глубоко в кресле и погруженного в свои мысли. Несколько понизив голос, сказал: – Возможно, вам придется съездить в Рио, чтобы поговорить там со своими друзьями. Можете взять на два-три дня отпуск в редакции. И… – его голос слегка дрогнул – …если вам понадобятся деньги на поездку, чек получше в конторе редакции. Я отдам распоряжение… Сакила выпил еще глоток виски, прежде чем ответить: – Нет, не нужно. Я уже говорил с товарищами в Рио и здесь… – Ну и что? Пока Антонио Алвес-Нето излагал свои планы и предложения, Сакила покончил со всякими остатками нерешительности, с последними сомнениями; теперь голос его звучал уверенно: – Что ж! Не все думают одинаково. Одни стоят за участие вместе с вами в государственном перевороте, другие – против, отстаивают нынешнюю линию партии. – И что же? – спросил с любопытством Алвес-Нето. – Мы не просто разошлись во мнениях: возникла угроза раскола, создалось напряженное положение. Адвокат не мог скрыть своего интереса: чтобы лучше слышать, он придвинулся поближе к Сакиле. Тот, почувствовав степень его заинтересованности, продолжал нарочито медленно: – В низах, среди рядовых членов партии, наблюдается большое недовольство нынешней линией. Но некоторые руководители, чье слово пока является решающим, упорно ее проводят. Все дискуссии в Рио и здесь ни к чему не привели. Недовольство в низовых организациях нарастает с каждым днем. Некоторые руководители, которые, подобно мне, не согласны с нынешней линией, могут выступить открыто, и, несомненно, мы увлечем за собою всю партию… – А почему бы вам действительно не выступить? Сакила прервал его жестом. – Во-первых, мы должны спросить: гарантируете ли вы нам, господа, легальное существование после переворота? Существование партии, которая будет называться не коммунистической, а социалистической, или народной, или леводемократической, – партии, которая бы защищала прогрессивную программу, вроде той, что… – Что мы обсуждали в прошлый раз? Ну что ж, согласен… – Во-вторых: намерены ли вы нам помочь сейчас, в данный момент, в борьбе, которую мы поведем против упорствующих элементов в партии? – Помочь, но как? – Я вам сейчас объясню. За нами, несомненно, подавляющее большинство членов партии. Но не забывайте, что в нашей партии наиболее важными делами всегда вершит руководство. Например: финансами, печатью… В настоящий момент большая часть руководства против нас. В их руках находятся средства пропаганды, при помощи которых они обрабатывают партийные массы, а также капралов и сержантов армии, рабочих военно-морского арсенала. – Понятно. Продолжайте, пожалуйста. – Особенно важна проблема типографии. Когда мы открыто порвем с нынешним руководством, нам нужно будет довести нашу точку зрения до всей партии, до всех ее организаций, до трудящихся масс, до бастующих в Сантосе рабочих, до солдат и моряков… Где печатать эти листовки?.. – Вам нужно… – …иметь возможность печатать все, что нам потребуется, в типографии вашей газеты. Для вас в этом нет никакой опасности. Там у меня свои люди, которые сделают всю работу и не будут даже знать, что вы в курсе дела. Достаточно, чтобы вы мне на некоторое время дали право самостоятельно распоряжаться в типографии. А потом… если даже случайно полиция и дознается, где печатаются эти материалы, что она сможет против них возразить? Листовки, в которых ведется борьба против руководства партии, прокламации, в которых дается совет прекратить забастовку? – Понимаю. Но у меня есть лучшее предложение. Я знаю маленькую типографию, которая сейчас закрыта: она принадлежит одному нашему единомышленнику, он в ней печатал этикетки для своей фабрики. Думаю, что мы могли бы разрешить проблему при помощи этой типографии. Не забывайте, что придется печатать материалы и для армии. А мне бы не хотелось иметь дело с военной полицией. – Согласен. Обладая типографией, мы через несколько дней будем иметь в своих руках партийный аппарат и тогда полностью изолируем наших противников. Возможно, потребуются также некоторые средства на поездки товарищей в Рио, на юг и на север для координации нашей деятельности в национальном масштабе. – Ну, это не проблема. Мы можем взять для вас некоторые средства из нашей партийной кассы. Есть, однако, одна деталь, требующая уточнения: где гарантия того, что ваши слова окажутся достаточно вескими для ваших единомышленников по партии? – Таких гарантий две: во-первых, наша линия соответствует желаниям партийной массы. Во-вторых, – и это наиболее убедительный довод – документ о разрыве будет подписан четырьмя именами, которые значат в партийной среде гораздо больше, чем имена всего остального руководства. Это Пауло, Баррето, Луис и Бастос. Если вы не слышали этих имен, спросите у любого рабочего или у первого попавшегося полицейского, каков их вес в коммунистической партии. Манифест с этими подписями увлечет не только всю партию, но и большую часть рабочих Сан-Пауло… – Пауло, Баррето, Луис и Бастос… – повторил адвокат шопотом. – Очевидно, вы один из них? Мне сказали, что вы пользуетесь большим авторитетом в партии. – Да, я один из них. И у трех других авторитет не меньший, чем у меня. На мгновение наступила тишина; теперь раздумывал Алвес-Нето. Его интерес к тому, что сказал Сакила, возрос еще больше. Раскол в коммунистической партии показался ему таким значительным фактом, что он захотел узнать некоторые детали. – Ну, а как вы в случае победы намерены изменить название партии? Назвать ее социалистической?.. – Или левой, или прогрессивной… – А если ваши противники будут продолжать деятельность компартии на нелегальном положении?.. С нынешней программой, аграрной реформой и тому подобными глупостями? Я еще не уверен, но, мне кажется, если вы намерены защищать действительно приемлемую программу, как мы с вами обсуждали прошлый раз, возможно, вам даже лучше вернуться на легальное положение под названием коммунистической партии. Таким путем будет ликвидирована в зародыше всякая попытка образования другой коммунистической партии… – Что ж, возможно и так… – Мне нужно будет поразмыслить насчет всего этого. Подробности мы сможем обсудить позднее. Но что касается главного в вашем предложении, я согласен. Можете осуществлять ваш план. Завтра вы получите в редакции ключ от типографии моего друга и адрес – и начинайте, в добрый час. Получите также чек на первые расходы. Но торопитесь. Нам нужно в кратчайший срок заручиться поддержкой сержантов и капралов гарнизонов здесь и в Рио, а также рабочих военно-морского арсенала. В данный момент это самое важное. Потом обсудим остальное. На улице Сакила, проходя мимо газетного киоска, взглянул на заголовок, занимавший всю страницу газеты: «Оккупация Сантоса федеральными войсками». Он остановился прочесть подзаголовки: «Солдаты будут грузить пароход с кофе для генерала Франко. – Массовые увольнения грузчиков в порту. – Новые аресты коммунистических агитаторов. – Беседа нашего корреспондента с инспектором Барросом». У Сакилы появилась презрительная усмешка: «Ну, теперь им не выкарабкаться!» Забастовочное движение не выдержит, его подавят. Удар будет нанесен в самый подходящий момент: материалы, отпечатанные в новой типографии, вызовут смятение в массах, и значительная часть членов партии, несомненно утомленных сопротивлением и борьбой последних месяцев, последует за ним и его группой. Он свергнет это партийное руководство с его беспокойными активистами, не способное оценить по достоинству такого человека, как Сакила. Он им покажет!.. Даже если в дальнейшем, по мере развития событий, масса и отстранится от него, это уже не будет иметь большого значения. Главное сейчас предстать перед Антонио Алвес-Нето в качестве силы, способной принять участие в перевороте, оказаться после победы в роли руководителя партии, связанной с правительством, как бы эта партия ни называлась: коммунистической, социалистической, левой или прогрессивной. Это будет его партия, которая сможет вознести его, Сакилу, на вершину славы, реализовать его самые честолюбивые мечты. Он разжег трубку и ускорил шаг, чтобы поскорее добраться до остановки трамвая. Сколько работы предстоит ему провести в ближайшие дни! Лучше всего попросить Алвес-Нето дать ему несколько выходных дней как секретарю редакции, тогда у него появится свободное время для политической деятельности. Да, на этот раз это будет «большая настоящая политика», а не нелепая попытка пробить головой каменную стену. Он впервые в своей жизни почувствовал себя важным политическим деятелем, шагающим плечом к плечу с Антонио Алвес-Нето по пути к власти…. 20
Удары в дверь среди ночи разбудили Мариану. Кто это – полиция? А кому же быть, как не ей? Ее адрес известен только членам секретариата, но они никогда не приходили к ней на дом: она сама ходила к ним. Это не мог быть и Жоан: накануне она получила от него записку, и он не уехал бы из Сантоса в момент, когда начался самый трудный этап забастовки. Мариана особенно за себя не тревожилась. У нее в доме нет никаких компрометирующих документов, ничего такого, что могло бы навести полицию на след; значит, ей вряд ли угрожает тюрьма. Но ее занимала одна мысль: как полиции удалось узнать ее адрес? Мариана твердо уверена, что когда она обходила товарищей, выполняя поручения партии, за ней никто не следил. Может быть, кто-нибудь из арестованных выдал ее? Однако это должен был быть кто-то из руководства, а этого она не могла допустить: она была вполне уверена в тех немногих товарищах, которые знали, кто такой Жоан, чем занимается Мариана и где она живет. Другие люди, связанные с Сакилой – в них она была уверена меньше, – знали про Жоана и про нее, но не имели ни малейшего представления о том, где они живут. Что же в таком случае произошло? Она поспешно набросила на себя платье, всунула ноги в туфли и вышла в коридор. Здесь она увидела свою мать; они молча посмотрели друг другу в глаза. Удары в дверь продолжались – частые, настойчивые. Они не походили на властный стук полиции, в них скорее было что-то напоминавшее крик о помощи. Что произошло? Может быть, что-нибудь случилось с Жоаном в Сантосе, где атмосфера была так напряжена, где борьба приняла чрезвычайно острые формы, где полиция убивала людей? При этой мысли Мариану пронизала ледяная дрожь; казалось, ее сердце готово было остановиться. Она старалась овладеть собой. Услышала, как мать сказала: – Пойду посмотрю, кто это… – И затем до Марианы донесся ее голос из конца коридора: – Кто там? Как бы ни было тяжело известие, она должна сохранять спокойствие. Прежде всего надо думать о партийной работе, о борьбе, а слезы и скорбь оставить напоследок… С улицы донесся голос: – Это я – Карлос. Она бросилась к двери. Только очень важное событие могло заставить Карлоса явиться к ней домой и в такой час: из предосторожности он вообще у нее не бывал. Наверное, что-нибудь случилось с Жоаном, но что именно? Он арестован, ранен, убит? Поворачивая ключ в замке, она почувствовала, как у нее тревожно сжалось сердце. Мать зажгла в коридоре свет. Прислонившись к двери, Мариана пристально разглядывала лицо товарища: оно было не только озабочено, но и скорбно. Обычно Карлос бывал весел – шутник и насмешник… С каким же страшным известием он сейчас явился? Мариана не находила слов, чтобы спросить его об этом, на лбу у нее выступил холодный пот. Даже не поздоровавшись, Карлос проговорил удрученным голосом: – Очень плохо с Руйво. Боюсь, не выживет. Необходимо вызвать врача. – С Руйво? Что-нибудь с легкими? Мариана уже забыла свои недавние личные тревоги: это известие было наихудшим из возможных. Руйво был руководителем районной партийной организации; он был нужнее, чем кто-либо другой. – Но как об этом узнали? Кто-нибудь приехал из Сантоса? Они прошли в столовую. Карлос отказался от предложенного матерью стула, он торопился и продолжал говорить стоя: – Его привезли сегодня вечером на грузовике. Ему плохо со вчерашнего дня: у него началось кровохарканье, он чуть не умер, всю ночь истекал кровью. Едва вынес переезд; товарищи боялись, что он умрет дорогой. – Зачем же его сюда привезли? – В Сантосе положение таково, что трудно даже вызвать врача. Если бы его арестовали в таком состоянии, для него это верная смерть. – Он у себя? – Да. За мной прибежала Олга; она, как сумасшедшая, – не знает, что делать. Я был у них. Руйво очень плох. Он так слаб, что может умереть в любую минуту. Почти не в состоянии говорить. Это он послал меня к тебе; сказал, что ты знаешь его врача. Необходимо немедленно вызвать его, откладывать нельзя. – Сию минуту. Только надену башмаки. Мать Марианы, может быть, вспомнив смерть своего мужа, мрачно проговорила вполголоса: – До каких же пор будет так продолжаться? Одни умирают от пули, других до смерти избивают в полиции, третьи погибают от тяжелой жизни… Карлос улыбнулся доброй улыбкой, это была суровая доброта преждевременно состарившегося юноши. – Из этих смертей рождается жизнь, дорогая матушка, – радостная жизнь завтрашнего дня. Я об этом вспоминаю всякий раз, когда гибнет кто-нибудь из нас. Люди умирают для того, чтобы покончить с войнами, с голодом, с нищетой. Умираем мы, немногие, но подумайте о миллионах людей, которые гибнут в войнах, от голода и нищеты… – Я знаю, – сказала старушка. – Покойный муж твердил мне то же самое, даже когда уже лежал на смертном одре: «Не плачь обо мне, будь мужественна; живи, чтобы увидеть потом, как все будет прекрасно…» Но, знаете, каждый из вас – это как бы мой родной сын… И со смертью каждого из вас я лишаюсь сына… Карлос обнял ее за плечи. Скорбная голова старой вдовы рабочего склонилась к нему на грудь. И Карлос проговорил голосом, полным сыновней любви: – Помните, что каждый день вступают в строй все новые ваши сыновья, чтобы вести борьбу. Ваша семья растет. Не печальтесь, матушка, мужайтесь, нужно жить, потому что потом все станет прекрасным… А сейчас мы сделаем все возможное, чтобы спасти Руйво… В дверях комнаты показалась Мариана. Карлос подошел к ней. Он дал ей денег и сказал: – Привези к Руйво доктора и останься с Олгой. Вечером приди сообщить о положении в дом Зе-Педро. Я тоже буду там. Исполните все, что предпишет врач. Ужасно, что это произошло именно теперь, когда он так нужен нам! – Провожая ее по коридору, он продолжал: – Подними врача с постели. Я пробуду здесь еще полчаса, потом уйду. – И когда она уже поворачивала ключ в замке, он все еще ее наставлял: – Не бросай Олгу одну. Ей, бедняжке, так нужна поддержка… Мариана почти бегом прошла по пустынным улицам, направляясь к площади, где обычно стояли такси. Ночь была холодная, Мариана усилием воли сжимала губы. Но ей так и не удалось сдержать слезы: они брызнули из глаз, потекли по лицу. «Он убивал себя работой, – думала Мариана, – для него не существовало часов отдыха – ни для него, ни для Жоана, ни для Карлоса, ни для Зе-Педро… Да, для этих людей не существовало часов, календарей, определенного времени для сна, воскресных дней, каникул. Для них существовали партия и революционная борьба, ставившие перед ними поистине исполинские задачи. Но он не умрет, он не может умереть, он так нам нужен!.. Его смерть представлялась ей, прежде всего, несправедливостью. Несправедливо, что злая болезнь непрестанно подтачивала его грудь. Человек, подобный ему, на чьих плечах лежала такая огромная ответственность, должен быть сильным и крепким, неуязвимым для болезней. Она живо представила себе, как он сейчас страдает – не от болезни, а от необходимости лежать в постели бездеятельным и именно в тот момент, когда он особенно нужен партии, когда порт Сантос занят войсками и полиция убивает забастовщиков. Встреча с ним будет тяжелой: она ничем не сможет его подбодрить. Почти все, чему она научилась, она научилась от него. Работая под его руководством, Мариана полностью осознала себя как член партии. Он воспитывал ее, вдохнул в нее уверенность и мужество, исправлял ее ошибки и указывал правильные пути; так он поступал со многими десятками членов партии, с руководителями других партийных организаций, со всеми, кто был с ним связан по работе. Он буквально творил людей, и будь они из камня или из глины, он бы работал над ними прилежнее скульптора, придавая каждому прекрасный облик: он делал их лучше. Он напоминал учителя, беззаветно передающего своим ученикам все знания, приобретенные им в результате долгого, упорного учения. Шофер единственного находившегося на стоянке такси спал за рулем. Сначала он отказался ее везти: слишком далеко. Но она ему сказала голосом, прерывающимся от слез: – Я еду за доктором для моего брата… Он очень болен… Шофер уставился на нее сонными глазами и при виде ее красивого и горестного лица согласился: – Поедемте, дона… Сидя в такси, она наклонялась вперед, точно стараясь подогнать машину, придать ей большую скорость. Молила шофера: – Скорее… скорее… – А что с вашим братом? – Чахотка. – У меня брат тоже умер от чахотки. Он был рабочий; заработка нехватало, чтобы прокормить детей. Очень много народу умирает от туберкулеза… Это от плохого питания… – Объехав рытвину на дороге, он продолжал: – Когда у брата началось кровохарканье, доктор сказал, что его нужно поместить в санаторий. На какие деньги? На одно только лечение здесь, в Сан-Пауло, он истратил все, что у него было. У меня был автомобиль, купленный в рассрочку у агентства Форда. Когда мой брат заболел, я только что сделал последний взнос. Что ж, пришлось продать машину с убытком, чтобы оплачивать докторов и лекарства – и все такие дорогие, что страшно становилось. Брат умер, а я вот теперь езжу на чужой машине, работаю по две смены в сутки, чтобы поддерживать и его семью… Кончится тем, что и я в один прекрасный день начну харкать кровью. Жизнь бедняка, дона, – это только труд и болезнь… Когда они подъехали к дому, где жил доктор, шофер не захотел взять с Марианы плату по ночному тарифу. – Скажу хозяину, что ездил днем. Бедные должны помогать друг другу чем только могут. Он оставался с Марианой до тех пор, пока на звонок колокольчика не вышел швейцар, и вместе с ней принялся убеждать швейцара впустить посетительницу: – У девушки умирает брат, а вы еще тут расспрашиваете, к кому да зачем! Впустите ее, разве вы не видите, как она убита, жестокий вы человек! Он хотел остаться ждать, чтобы отвезти ее обратно, но Мариана побоялась ехать на такси к Руйво; она поблагодарила и отказалась, объяснив, что у доктора есть своя машина. – В таком случае, желаю вам счастья, а вашему брату – скорого выздоровления. Шофер своим сочувствием постороннего человека подбодрит ее, и она, уже несколько успокоившись, поднялась на лифте. Доктор, протирая пальцами глаза, старался стряхнуть сон. Увидев на пороге полуотворенной двери свою бывшую сотрудницу (Мариана покинула его врачебный кабинет, когда вышла замуж), доктор тотчас же подумал о Руйво. – Наверное, что-нибудь с Алберто? – Доктор знал Руйво под этим именем. – При том образе жизни, какой он ведет, надо было этого ждать. Выслушав те немногие подробности, которые были известны Мариане (она поостереглась назвать город, где больному стало плохо), он неодобрительно покачал головой. Затем вышел в соседнюю комнату переодеться и продолжал говорить с ней оттуда через открытую дверь: – У меня никогда не было более непослушного пациента. Сколько раз я говорил ему: сеньор Алберто, каверна в легких – это не простуда, ее лекарствами не вылечишь… Но кто мог с ним справиться, удержать его, заставить слушаться? Он появлялся у меня очень редко и почти всегда, когда у него были какие-нибудь дела: или партии нужны были деньги, или кто-нибудь из ваших нуждался в помощи. Доктор оделся. Перекладывая в саквояж инструменты и вынимая из маленького шкафа шприцы для инъекций, он продолжал говорить: – Полиция утверждает, что все вы – чудовища, и это определение, правильно, но только в другом смысле: вы чудовищны в вашем самопожертвовании, в вашем самоотречении. Я говорю вам вполне откровенно: я лично никогда не был способен на такую степень самопожертвования; поэтому-то я и не вступаю в партию. – Самопожертвование? Никогда мне и в голову не приходило приносить себя в жертву. Ни мне, ни другим. Я не считаю, что это – самопожертвование. Это – долг. А вы разве не встаете среди ночи, чтобы оказать помощь вашим пациентам? Врач захлопнул саквояж. – Беда в том, что у вас слишком много пациентов. Поэтому у вас не остается времени ни для пищи, ни для сна… Он жестом предложил ей выйти. – Мы возьмем такси… – А ваша машина? Я предпочла бы… – Она в гараже, на зарядке аккумуляторов… – В таком случае, нам придется немного пройти пешком. Я не могу подъехать на такси к самым дверям его дома. Врач улыбнулся. – Для Алберто, для каждого из вас, я готов пройти пешком много-много лиг, дитя мое. – Он посмотрел на талию Марианы, на ее лицо. – Вы пополнели…– Захлопнув дверь квартиры, он открыл дверцу лифта. – Что это – просто полнота или там уже заявляет о своем существовании маленький коммунистик? – Он говорил почти шопотом, хотя кругом в доме все спали. По печальному лицу Марианы скользнула улыбка. Она опустила глаза. Врач похлопал ее по плечу. – Заходите на днях ко мне в консультацию; я дам вам рекомендацию к специалисту, моему приятелю. Он того же образа мыслей, что и мы. При той жизни, какую вы ведете, беременность без регулярного медицинского наблюдения для вас опасна. Он поможет вам, будет следить за вашим здоровьем. Вам это ничего не будет стоить, и он ни о чем не будет вас расспрашивать. Он хороший малый!.. – Благодарю вас. Я согласна. Я уже и сама об этом думала. – Только не берите пример с Алберто. Вы теперь сами видите, к каким это приводит результатам. А в данном случае дело идет не о вас, а о другом существе – о ребенке. В такси доктор еще раз переспросил у нее уже выслушанные им подробности о состоянии больного и высказал свои предположения: – У него каверна в левом легком. Что касается правого, то когда я его осматривал в последний раз, оно было здоровое. Самое худшее, если окажется, что затронуто и правое легкое. – Он давал Мариане научные разъяснения, говорил, что если больной выдержал кровохарканье и путешествие, возможно, непосредственная опасность уже миновала. – Это путешествие – сущее безумие… Почему не оставили его там, где он находился, хотя бы на несколько дней, пока он набрался бы сил?.. Ведь он мог умереть в дороге. – Там, где он находился, не было врачей, и там ему угрожала тюрьма. Это было бы еще хуже… Мариана отпустила такси на улице, расположенной довольно далеко от дома Руйво. Затем они совершили запутанный переход, пересекли небольшой пустырь и, наконец, достигли улочки, где жил Руйво. Дверь открыла Олга – крупная, полная женщина. Лицо ее выражало страдание, она казалась старше Руйво; глаза ее покраснели: видимо, она много плакала. Она как-то поникла под тяжестью постигшего ее горя, не знала, что делать. Мариана обняла ее. – Мужайся, Олга! Вот приехал врач, и все устроится. Не бойся! – Он сейчас уснул. Стоит ли его будить? – Она переводила испуганные глаза с Марианы на врача. – Нет, – ответил врач. – Сначала расскажите мне все, что произошло после его приезда. Мариана оставила их в комнате. Олга принялась рассказывать, как прибыл грузовик, как страшно ослаб Руйво, как он мучительно тяжело дышит. Врач внимательно слушал. Мариана приблизилась к дверям спальни. Лампа была обернута бумагой так, что свет не падал на лицо больного. Руйво лежал с открытыми глазами. При звуке шагов он повернул голову к двери. – Олга?.. Ложись спать, моя деточка… Мариана переступила порог и прошептала: – Руйво, это я… Он пытался разглядеть ее в полумраке; узнал дружеский голос. – Ты, Мариана? Садись сюда, на кровать. Она села к нему на кровать и теперь смогла хорошо рассмотреть его осунувшееся, смертельно бледное лицо; рыжеватые, коротко остриженные волосы не шли к этому лицу. Он тяжело дышал. – Как ты себя чувствуешь? – Лучше. Через несколько дней поднимусь на ноги. Олга больше больна, чем я. Позаботься о ней, заставь ее лечь спать… – Затем он резко изменил тему и заговорил, хотя и с трудом, но как всегда горячо: – Жоан здоров, успешно работает. Там трудно, в Сантосе. Месяц забастовки – это не шутка. Многие уже пали духом… Полиция свирепствует. Я должен поскорее возвратиться туда, чтобы помочь Жоану. Поскорее, поскорее… Приступ страшного кашля сотряс его исхудалое тело, ввалившуюся грудь, пылающее от жара лицо. Мариана сказала: – Ты не должен так много говорить. Здесь врач, доктор Сабино. Я позову его сюда… – Подожди… – прохрипел он, задыхаясь от кашля. – Подожди… – Мариана поднялась и наклонилась над ним, приготовившись слушать. – Что тебе известно о забастовке на Сан-Пауловской железной дороге? – Я о ней не знаю. Этим занимается Зе-Педро. Сегодня я его увижу; могу ему сказать, что ты этим интересуешься. – Да, непременно. Эта забастовка может очень помочь нам в Сантосе. Необходимо провести ее. – Замолчи. Я позову сейчас врача. Пока врач осматривал больного, Мариана оставалась с Олгой в соседней комнате, стараясь ее утешить и подбодрить. Врач задерживался, а им минуты казались вечностью Что скажет доктор Сабино? Подаст ли какую-нибудь надежду? На Мариану Руйво произвел впечатление человека, находящегося на исходе своих сил: никогда еще не приходилось ей видеть настолько бледное и худое лицо, не приходилось слышать такого тяжелого, болезненного дыхания. А между тем прежний страстный огонь его пламенной воли поддерживал жизнь, его мысль, обращенная к насущным нуждам пролетариата, работала по-прежнему ясно. Наконец появился врач. Он вышел без пиджака с засученными рукавами, держа шприц для впрыскиваний, и сказал Мариане: – Прокипятите шприц! Мариана в присутствии Олги не стала его ни о чем спрашивать; она пыталась по выражению лица доктора уловить какой-нибудь намек, но тот уже повернулся к ней спиной и опять ушел в комнату больного. Олга принесла бутылочку спирта. Мариана дожидалась, пока закипит вода, затем понесла шприц в комнату Руйво. Врач сидел на постели, на месте Марианы; Руйво лежал с закрытыми глазами. – Готово. Но врач, казалось, ее не слышал: он сидел с сосредоточенным лицом и смотрел на больного. Мариана повторила свои слова, и только тогда врач посмотрел на нее. Руйво тоже открыл глаза. Врач сказал: – Сейчас мы сделаем ему инъекцию. Коробочка с ампулами была открыта и лежала около него на кровати. Извлекая шприцем из ампулы жидкость, врач заговорил: – Не могу сказать ничего определенного, пока не будет произведено более тщательное обследование. Но у меня создалось впечатление, что правое легкое продолжает оставаться незатронутым, я в нем изменений не нахожу. Зато каверна левого легкого, должно быть, значительно увеличилась. Как бы там ни было, но положение больного очень серьезно, очень опасно. Я оставлю здесь ампулы, и вы, Мариана, будете делать ему впрыскивание: одно – в полдень, другое – в шесть часов вечера. Я пропишу также лекарство, закажите его в аптеке. Вечером я приеду еще раз. Он сделал укол в жилистую, худую руку Руйво. Отдавая Мариане шприц, врач спросил: – Но как, чорт возьми, я найду этот дом? Не имею никакого представления… – Я заеду за вами, – предложила Мариана. – Хорошо. В таком случае будьте в моем врачебном кабинете после шести. Лучше всего – около семи. – Он опять сел на кровать, точно ему хотелось еще что-то сказать, и снова обратился к Мариане: – Как только ему станет немного лучше, необходимо перевезти его куда-нибудь ближе к центру, где бы я смог его лучше осмотреть. Необходимо сделать рентгеновский снимок, взять кровь на анализ. Нельзя ли подыскать подходящий дом? Мариана вспомнила о Маркосе де Соузе. – Может быть… Очень возможно… – Тогда позаботьтесь об этом как можно скорее. Я достану больничную карету для перевозки больного. Если он проведет ночь спокойно, завтра утром его можно перевезти. Руйво пытался возразить: – Но… – А вы замолчите! Не разговаривать, ни во что не вмешиваться, отдыхать! Разговаривать запрещается самым категорическим образом. Вы, Мариана, последите за тем, чтобы он не говорил и не утомлялся. Одно несомненно: на некоторое время ему придется воздержаться от всякой деятельности… – Что? – Руйво приподнял голову с подушки; в его глазах вспыхнул протест. – …если не хотите прекратить ее навсегда, старина! Вы коммунист, и я говорю вам вполне откровенно: если вы хотите выжить, вам придется беспрекословно повиноваться моим приказаниям. И я хочу, чтобы вы знали, что всякое напряжение может стоить вам жизни. Если вы считаете, что ваша смерть полезна для революционного движения, тогда отправляйтесь на тот свет, убивайте себя. Но если вы хотите отдать жизнь своему делу, тогда постарайтесь остаться в постели, соблюдая полный покой. Заговорила Мариана: – Объясните, доктор, что я должна делать, и я все выполню. Если он не послушается вас, он послушается партии. Руйво смотрел на обоих и, казалось, с трудом удерживался, чтобы не заговорить. В дверях появилась Олга; еле сдерживая слезы, она вопросительно взглянула на врача. – А вы, дона Олга, ложитесь-ка спать. С вашим мужем все благополучно, не беспокойтесь. Если он будет лежать спокойно и выполнять предписания врача, мы скоро поставим его на ноги. Я произведу впрыскивание и вам, чтобы вы могли заснуть. О больном позаботится Мариана. – Мне не надо спать… – Нет, надо. Надо, потому что завтра, в связи с переездом, предстоит много работы, и если вы не выспитесь, вам с ней не справиться. Олга подошла к постели. Руйво улыбнулся ей. – Слушайся доктора. Уже светало, когда Мариана отправилась проводить доктора и помочь ему в нелегком деле – найти такси. Дорогой он давал ей наставления, как кормить больного, как давать лекарства. – Сейчас я воздерживаюсь от каких-либо прогнозов, пока не произведу полного обследования. Положение его чрезвычайно серьезно. Я не уверен, что он выживет. Только бы нам удалось держать его в полном покое и начать серьезное лечение… Постарайтесь перевезти его в другой дом… Потому что, если вам это не удастся, его, невзирая на риск, придется положить в больницу… – У меня есть на примете один дом. Сегодня туда отправлюсь. – Вы какие-то волшебники! Все у вас есть. Ну, и очень хорошо, что это так… – заключил он смеясь. Наконец они встретили такси, возвращавшееся в центр города. Врач сел в машину. – В особенности не позволяйте ему ничем интересоваться, ничем не утомляйте его. Мариана вернулась к Руйво. Она чувствовала себя очень усталой: нервы ослабели, мускулы тела были напряжены, будто ее ночью избили. Олга спала на диване в передней комнате. Руйво тоже спал. Мариана прошла в кухню приготовить себе кофе. Выпив чашку, она почувствовала себя бодрее. Взяла с собою стул и бесшумно поставила его около кровати больного. Затем Мариана возвратилась в кухню. Ей был известен тайник, устроенный Руйво для хранения своих книг («даже, если сюда как-нибудь нагрянет полиция, книг моих им ни за что не найти…»). Она извлекла из потайной библиотеки небольшую книжку Горького о Ленине в испанском переводе. «Мне давно хотелось прочесть эту книжку. Воспользуюсь благоприятным случаем». Она вернулась в комнату и села на стул. Лампа под бумажным колпаком давала скудный свет, и от чтения у Марианы скоро устали глаза. Она закрыла книгу и задумалась. Дыхание спящего Руйво напоминало пронзительный свист; слушать его было мучительно. 21
Когда Олга проснулась – это было около одиннадцати часов утра, – Мариана уже прибрала в доме, приготовила завтрак и принесла из аптеки заказанные ею лекарства. Олга хотела заставить ее лечь спать, но та воспротивилась: – Скоро я должна буду делать впрыскивание. Руйво тоже проснулся, но Мариана старалась не оставаться у него в комнате, чтобы не дать ему возможности разговаривать. И Олге она не позволила там находиться, задержав ее в другой комнате. – Оставь этого упрямца одного. Так ему не с кем будет разговаривать. Но все же они по нескольку раз заходили к нему посмотреть, как он себя чувствует. В полдень Мариана сделала ему впрыскивание и после завтрака собралась уходить. Зашла попрощаться с больным, и тот сразу заинтересовался: – Ты идешь к Зе-Педро? – Да. – Не забудь спросить у него о Сан-Пауловской железной дороге. Пусть расскажет возможно подробнее… И скажи Зе-Педро, пусть он или Карлос зайдет ко мне. Нужно обсудить некоторые вопросы, касающиеся событий в Сантосе… – Ничего этого я не исполню. Ты слышал, что сказал врач? Тебе нужен отдых. – Чорт побери!.. Мне уже лучше. Если он воображает, что я позволю похоронить себя в постели, то жестоко ошибается. – И, видя, что она собирается возражать, он заявил: – Существуют, Мариана, больные, а не болезни, – это известно каждому врачу. И я не могу чувствовать себя спокойно, если не буду знать, как идут дела. Меня гложет изнутри… – Хорошо. Пока до свидания. Обещай мне, по крайней мере, оставаться спокойным до моего возвращения. В противном случае я не сообщу никаких новостей… – Обещаю. Мариана нашла Карлоса вместе с Зе-Педро. Они обсуждали ход забастовок солидарности с грузчиками Сантоса и прервали свою беседу, чтобы выслушать сообщение Марианы. Она передала им мнение врача, его совет перевезти Руйво на другую квартиру, где бы его легче было обследовать и лечить и где ему было бы удобнее. Упомянула и о запрещении ему какой бы то ни было деятельности, какого бы то ни было напряжения. – И вообразите себе, он от меня требует доставить ему сведения о забастовке на Сан-Пауловской железной дороге. Он просит, чтобы один из вас зашел к нему для обсуждения положения дел в Сантосе. – Один из нас должен повидать его, это несомненно, – сказал Зе-Педро, – для того, чтобы убедить серьезно лечиться. Нам нельзя терять такого бойца, как он. – Где нам найти дом, куда его перевезти? И вдобавок – в центре… Это нелегко. Для созыва собрания на один вечер – это еще возможно, но поместить больного товарища… это потруднее… – Может быть, стоит поговорить с Сисеро д'Алмейдой? – предложил Зе-Педро. – В его квартиру? Не думаю, чтобы из этого что-нибудь вышло: у него постоянно по вечерам собирается народ – гости, литераторы, родственники. Даже для собраний она не подходит. Слишком много ходит туда народу, а жена его легкомысленная, пустая великосветская особа, она не сумеет держать язык за зубами. – Я думала о Маркосе… – сказала Мариана. – Об архитекторе? – Да. Он холостяк, у него великолепный дом со множеством комнат, близко от центра и в то же время уединенный. – Это идея… – согласился Карлос. Зе-Педро усомнился: – Он не член партии, всего-навсего только сочувствующий… – Он нам искренне симпатизирует, – горячо вступилась за Маркоса Мариана. – Сколько раз собирался у него в доме наш секретариат? А где мы проводили наши собрания? Кто в последний раз возил Руйво в Сантос? Он честный человек. – Да, он хороший человек. Он мне нравится, – сказал Карлос. – Пусть так, – согласился Зе-Педро. – Я и сам не нахожу другого дома. И, кроме всего прочего, было бы опасно помещать его на квартире у кого-нибудь из товарищей, куда в любую минуту может нагрянуть полиция. Лучше всего поместить его у архитектора. Но согласится ли он? – Думаю, что да. Он предан партии. Я направлюсь прямо к нему. – А как быть с Олгой? – спросил Зе-Педро. – Разумеется, она поедет с ним. Руйво нужен человек, который бы за ним ухаживал; никто лучше его собственной жены для этого не подойдет. – Да, конечно. Переговори с Маркосом. Когда думаете перевозить Руйво? – Это зависит от того, что скажет врач. Он приедет в семь часов. Может быть, перевезем еще сегодня. Зе-Педро обратился к Карлосу: – Нам лучше поместить его в доме Маркоса. С ним останется Мариана; его будет навещать врач, на днях зайду и я. Мариана стала прощаться. – Что же мне сказать ему о Сан-Пауловской железной дороге? Зе-Педро рассмеялся: – Передай, что я поговорю с ним об этом лично. Когда Мариана уже совсем собралась уходить, появилась Жозефа, жена Зе-Педро, с пакетом в руках. – Передай это, пожалуйста, Олге. Здесь цыпленок, пусть она сварит Руйво бульон. В конторе Маркоса де Соузы Мариане пришлось подождать. Архитектора не было – он поехал инспектировать работы по сооружению небоскреба, строительство которого ему было поручено комендадорой да Toppe. Мариана так долго ждала его в бюро, где работали чертежники, что начала терять терпение. У нее впереди еще было много дел, и никто ей не мог точно сказать, когда Маркое должен вернуться. Кончила она тем, что узнала адрес строительства и отправилась туда. Архитектор находился на стройке и беседовал с мастерами. Мариана попросила мальчугана, месившего известь, вызвать к ней Маркоса. Тот не замедлил явиться. На нем был завязанный широким бантом галстук, такой, как носят художники; Маркос улыбался; непокорные посеребренные сединой волосы были взлохмачены. Он показал ей на свои руки, выпачканные известью и цементом. Но веселое выражение сразу исчезло с его лица, когда он увидел ее серьезной и опечаленной. Мариана, пожимая ему руку, спросила: – Можем мы одну минуту переговорить наедине? – Сколько угодно. Подождите, я только отдам кое-какие распоряжения и надену пиджак, – и затем я к вашим услугам. Мариана видела, как он вымыл под краном руки и на ходу переговорил со своими людьми. Они молча вышли на улицу. Миновали два-три переполненных кафе и нашли, наконец, полупустой ресторанчик, где могли спокойно поговорить. – Что случилось? – спросил Маркое после того, как заказал официанту кофе. – Скажу после того, как он подаст… – Вы так мрачны, что я встревожен. – Случилась неприятность… Официант принес две чашки ароматного кофе. Мариана, помешивая сахар, заговорила: – Очень болен Руйво… Ему стало плохо в Сантосе, он чуть не умер. Его привезли сюда вчера, и состояние его еще очень серьезно. Врач – наш друг, на него можно положиться – считает, что Руйво нужно немедленно перевезти в какой-нибудь дом в центре, где его можно лучше обследовать и лечить. Вы хорошо знаете, что нам нельзя поместить его в больницу, здесь в городе: это опасно – полиция проверяет списки поступающих в больницы. Короче говоря, нам нужен дом, где можно на несколько дней поместить его и жену… Мы подумали, что… – Мой дом в вашем распоряжении. Можете занять его, когда вам угодно. Я могу даже перебраться на несколько дней в отель, чтобы никого не стеснять. – Я знала, что вы ответите именно так. – Вы это знали? – Да, я в вас верю – Ну, так я скажу вам, что если бы вы обратились ко мне с такой просьбой раньше, до того, как я возил Руйво в Сантос, – не знаю, что бы я вам ответил. Может быть, да, а может быть, нет. – Вы бы ответили да, я знаю. Как сегодня. – Ах, Мариана! Сегодня – совсем другое дело Я хочу о многом рассказать вам. Мне даже необходимо поговорить с вами или с Карлосом. Я все собирался встретиться с Руйво, но, поскольку он болен, это невозможно… – Да. Ему запрещено малейшее волнение. Но вы можете поговорить с кем-нибудь другим… – Да, мне это необходимо Я должен излить свою душу. Я много передумал после поездки в Сантос. Не удивляйтесь, если я подам заявление о приеме в партию… – В самом деле? Вот хорошая новость! – Но мне нужно переговорить с кем-нибудь, кто помог бы мне понять самого себя. Мариана воодушевилась: – Мы это устроим. Когда Руйво будет находиться у вас в доме, это не представит труда. Товарищи придут навестить его, и вы сможете поговорить с ними. А вам совсем незачем уезжать из дома. Не вы стесняете нас, а мы стесним вас. – Мариана допила кофе. – Как жаль, что я не могу сегодня с вами побеседовать… К тому же, я и не подхожу для этого. Чтобы говорить с человеком такой культуры, со знаменитым архитектором, нужен представитель руководства партии… Она протянула Маркосу руку. – Когда вы его привезете? – спросил Маркос. – Может быть, еще сегодня вечером. Но я позвоню вам по телефону. Врач посетит его в семь… Вы будете дома между восемью и девятью? Или у вас на это время что-нибудь назначено? – Ничего важного. Я собирался в театр, но пойду в другой раз. Велю приготовить комнату и буду ждать вас дома. Расставшись с Маркосом, Мариана посмотрела на часы. У нее оставалось время только заехать домой успокоить мать, сказать ей, чтобы она не дожидалась ее сегодня вечером; после этого ей нужно было торопиться до семи часов успеть к доктору Сабино. Когда она туда явилась, врач, отпустив последних пациентов, ожидал ее за чтением газеты. – Мое авто уже готово. Поедем. Когда они выехали из центра с его оживленным движением и свернули в тихую улицу, доктор спросил: – Вы нашли, куда его перевезти? – Да. – Где это? Мне надо будет отвезти туда инструменты и лекарства. Она назвала ему улицу и номер дома. Он повернулся и пристально на нее посмотрел. – Это не резиденция Маркоса де Соузы? – Да. – Боже мой! – рассмеялся врач. – Я с ним хорошо знаком. Но никогда не мог вообразить, что он… ну, как бы это сказать… что он наш единомышленник. И с каких пор? – С очень давних, это наш старый друг. Если не ошибаюсь, он был членом руководства Национально-освободительного альянса в нашем штате. – Я об этом не знал… Я всегда его видел в обществе гран-финос, занятым постройкой дворцов и небоскребов для богачей; газеты называли его гордостью бразильской архитектуры… – Он хороший человек. Надежный… – Надежный, как дома, которые он сооружает. Известно ли вам, что его приглашали для возведения одного общественного здания в Соединенные Штаты? Газеты много шумели по этому поводу… – Да, знаю… Он отказался от этого приглашения. Об этом вам известно? – Отказался? Я этого не знал. Почему отказался? Не хотел работать для американских империалистов, что ли? Какие вещи происходят в нашей стране: живешь бок о бок с человеком, встречаешься с ним, разговариваешь, вместе пьешь кофе и аперитивы и не подозреваешь, что он таких же убеждений, как и ты… Ну что ж, это славно… Мариана засмеялась – впервые со вчерашнего дня. – Так и должно быть. Зачем знать? В условиях нашей борьбы чем меньше один знает о другом, тем лучше. Больше безопасности для работы… – Так или иначе, приятно чувствовать, что нас много. Это придает какую-то уверенность. Вам понятно это чувство? – Много? Нас еще слишком мало для нашего большого дела. Но мы постепенно растем, и в один прекрасный день нас станет много. – И тогда не будет необходимости так сгорать на работе, как это делает Алберто… – Чем больше нас будет, тем больше окажется работы у руководителей. Подумайте о Сталине. Кто в мире работает больше него? Он ответственен за жизнь десятков миллионов людей. На днях я прочла о нем одно стихотворение. Поэт пишет, что когда царит глубокая ночь и все уже спят, лишь одно окно в Кремле освещено – это окно Сталина. Он заботится о судьбе своей родины и своего народа. Вот что приблизительно говорил поэт, только, разумеется, более вдохновенно. Врач промолчал. Как-то вечером, несколько месяцев назад, он пришел к Мариане – передать ей поручение по просьбе Руйво. Тогда она еще работала в его консультации – сидела за небольшим столиком в приемной и записывала пациентов. Она была простой, незаметной сотрудницей, даже не сестрой милосердия, которая помогала бы ему, и он не обращал на нее внимания; знал только, что она дочь убитого полицией коммуниста, и принял ее на работу по просьбе партийного руководства: таким путем он оказывал помощь партии. Но в тот день, когда он передал ей поручение Руйво, Мариана показалась ему неузнаваемой: это уже не была молчаливая девушка, сидевшая за столиком с бланками и расписанием часов приема, – это был человек удивительной красоты, с серьезным, проникновенным лицом. И тогда Сабино понял, какие необычайные возможности скрывались в этих незаметных работниках, скромных и безвестных тружениках, собиравшихся преобразовать мир. В его мозгу, как фотоснимок, запечатлелся образ девушки, находящейся под властью идей, – он осязаемо ощутил то, что раньше для него являлось лишь малопонятными словами: рабочий класс. Он часто слышал и читал о руководящей роли пролетариата в нынешних и будущих судьбах человечества. Но до того момента это понятие оставалось для него литературной абстракцией: в своей медицинской консультации, посещаемой буржуазными клиентами, он не мог ни почувствовать, ни понять мощь рабочего класса. Руйво, которого он знал под именем Алберто и о ком ему было очень мало известно, представлялся ему личностью исключительной; и только ближе узнав Мариану – свою скромную сотрудницу, преисполненную чувства ответственности, – он понял, какое значение в жизни людей имеют идеи рабочего класса. И во все последующие дни, беседуя с Марианой, он вновь осознавал силу идей. Мариана поражала его той твердостью, с которой высказывала свои убеждения, ясностью понятий, непоколебимой верой. Когда, выйдя замуж, она перестала работать, он живо ощущал ее отсутствие: ему недоставало бесед с ней по окончании рабочего дня, в которых он принимал на себя роль «адвоката дьявола», чтобы заставить ее спорить, доказывать и тем вызывать его восхищение. И теперь здесь, в автомобиле, она пересказывала ему стихи настолько естественно и просто, как будто не было ничего необычайного в том, что простая работница любит и понимает художественную литературу… И, слушая ее, он понял и свою ответственность в этот час. Он ехал лечить не обычного пациента – одного из многих, кто испортил свое здоровье всякого рода излишествами и оргиями, ночами пьянства и беспутства, кто промотал свою жизнь. Он ехал отбивать у смерти в трудной битве одного из лучших людей рабочего класса, одного из тех зодчих будущей жизни, кто подорвал свои силы на титанической работе. Это была не просто жизнь: это была очень нужная жизнь; надо было спасти ее во что бы то ни стало. – Мы поставим Алберто на ноги. Я вам это обещаю, – сказал он. Мариана снова улыбнулась – Мы верим вам, доктор. Осмотрев Руйво, Сабино решил в тот же вечер перевезти его к Маркосу. Чем скорее удастся произвести необходимые анализы, тем лучше. Он вернулся в город заказать больничную машину и собрался сам сопровождать больного. Мариана доехала с ним до первого телефонного автомата, чтобы позвонить архитектору. Олга принялась укладывать кое-какие вещи – у них почти ничего не было. Самого же Руйво решили перевезти среди ночи, чтобы не возбуждать любопытства соседей. Был уже почти час ночи, когда прибыла машина. Мариана уехала раньше, чтобы встретить их в доме Маркоса. Ее немало позабавило, что оба – и врач и архитектор – оказались сочувствующими, и рассказала об этом Руйво, лежавшему под простынями на взбитой перине и пуховых подушках. Руйво тоже посмеялся. – Самое худшее, что они меня уморят своими заботами. Я никогда не спал на мягких перинах… По прошествии нескольких дней, после того как были произведены анализы, доктор Сабино попросил Мариану зайти к нему в консультацию. Он хотел поговорить с ней об уходе за Руйво. Вечером она пришла. Врач не стал скрывать от нее своей озабоченности. – Его состояние гораздо серьезнее, чем я думал вначале. Каверна в левом легком увеличилась, болезнь прогрессирует. И, что еще хуже, затронуто правое легкое. Пока еще небольшая часть, но поражение может увеличиться и внезапно возникнет каверна. Кроме того, он очень слаб; сила сопротивляемости организма минимальна; он держится только на нервах, на железной воле. Есть только одно средство, чтобы его спасти… – Какое же? – Отправить его в Кампос-до-Жордан. Это благоразумно во всех отношениях: лечение, в котором он нуждается, гораздо легче провести в санатории, чем здесь. Здесь, как только Алберто сможет подняться, он ускользнет от нас, целиком окунется в работу, и тогда роковой, смертельный исход станет для него неизбежным. С другой стороны – климат; здешний климат ужасен, скоро начнется сырая погода, которая ежегодно убивает сотни туберкулезных. А в Кампос-до-Жордан климат превосходный. Там больной будет вести регулярный образ жизни, строго по часам получать диетическое питание. В общем, там его можно спасти. Если мы оставим его здесь, я не могу взять на себя ответственность за благополучный исход. – Есть много трудностей… – сказала Мариана. – Я это знаю. Но одна из них – финансовая – уже разрешена. Я знаю санаторий, где его можно будет поместить; там работают мои близкие друзья, и я поручу его их попечению. А что касается расходов, я уже договорился с Маркосом: мы с ним берем их на себя. Для пациентов, направляемых мной, – льготный тариф; нам это обойдется не особенно дорого… – А Олга? – Как вы считаете: может она занять ваше место в консультации? Ведь я еще вас никем не заменил; временно работу выполняет Марлен, – сказал он о сестре милосердия. – Работа легкая… – Я думаю, Олга подойдет. Но согласится ли он сам на это? Хотя сейчас Руйво и оторван от партийной работы, но говорит о ней целыми днями; только и мечтает о том часе, когда сможет подняться с постели и возобновить свою деятельность. Все время расспрашивает про Сантос, про… ну, вообще про работу. Представляю себе, как он будет огорчен. – Здесь я бессилен. Это задача ваша и вам предстоит ее выполнить. Скажу вам только одно: оставить его здесь, даже оторванного от всякой работы, – значит поставить на карту его жизнь. А позволить ему вернуться к работе, – значит подписать ему смертный приговор. Я это утверждаю со всей ответственностью врача. Кампос-до-Жордан – вот единственная надежда. – Будет очень трудно уговорить его… – Скажу вам больше: если он здесь останется, ищите другого врача. Я не хочу… Я не хочу, чтобы такой человек умер на моих руках. Прибытие в Сан-Пауло одного из членов Национального комитета облегчило дело с Руйво. Однако не удалось избежать драматических сцен. Все это случилось одновременно с получением известий об окончании забастовки в порту Сантоса, о беспощадном разгроме полицией забастовочного движения солидарности, возникшего на фабриках Сан-Пауло и успевшего было переброситься и в Рио, и в Баию, и в Пернамбуко; о провале забастовки на Сан-Пауловской железной дороге через двадцать четыре часа после ее возникновения: люди были вынуждены возвратиться на работу под угрозой пулеметов. По всем этим причинам, когда Карлос поставил перед Руйво вопрос об отправке в Кампос-до-Жордан, тот пришел в ярость. Мариана никогда не видела его таким. Среди всех этих людей, столь различных между собой и, тем не менее, воодушевленных единой волей, как если бы личность каждого из них была отмечена какой-то одной общей чертой, придающей один и тот же тон таким разным голосам, – среди этих людей Руйво казался Мариане менее, чем кто-либо иной, способным впасть в бешенство, потерять голову, взорваться от гнева. Ей казалось, что это легче могло бы случиться с веселым Карлосом, или с молчаливым Зе-Педро, или даже с Жоаном, несколько грубоватым в своей суровости. Но Руйво – это мягкая, улыбающаяся радость, стихийная доброта, будто все в его существе подчинялось одному гармоническому ритму. И вот, тем не менее, в этот день он потерял голову. Сбросив с себя простыни, он кричал охрипшим голосом: – Когда вы пришли в партию, я уже успел состариться в борьбе! Не вам учить меня, что я должен делать. Я знаю, где мое место, знаю, что мне делать, когда убивают рабочих и душат забастовки, когда партия стоит лицом к лицу с фашистской реакцией. Не предлагайте мне тихую жизнь в Кампос-до-Жордан – вы имеете дело с коммунистом!.. Врач, присутствовавший по просьбе Карлоса при этом разговоре, прижался к стене, точно испугавшись бурной вспышки больного. Мариана увидела, как улыбка сбежала с лица Карлоса и все мускулы его напряглись. – Сейчас ты говоришь не как коммунист. – Мариана поразилась мягкости голоса Карлоса: будто он старался уговорить непослушного ребенка. – Ленин как-то сказал, что умереть за революцию нетрудно, труднее жить для революции. А чего хочешь ты? Продолжать свою работу? Ты знаешь, что сказал врач: это верная смерть. Конечно, это красиво, это героически: «…товарищ Руйво мужественно погиб на своем боевом посту». Героически и легко. А труднее отправиться в Кампос-до-Жордан, повиноваться решению партии, выздороветь, вернуться на свой пост, жить для борьбы. Как должен поступить коммунист? Отвечай же; ведь ты старый коммунист. – Тебе так же хорошо известно, как и мне, сколько у меня работы, сколько дел зависит от моего присутствия, от меня лично… – Он пытался снова повысить голос, но у него нехватило дыхания. – Ничего не зависит от тебя лично, ничего не зависит от меня, ничего не зависит ни от кого из нас – все зависит от партии. Или тебе кажется, что ты незаменим, что работа партии остановится только потому, что тебя здесь не будет? Нет, старина! Ничего не остановится, партия будет продолжать существовать – незаменимых нет. «Для чего Карлос так жестоко говорит? – спрашивала себя Мариана. – Неужели он не понимает, что Руйво болен, что нервы его напряжены до крайности?» Карлос между тем продолжал говорить, и голос его уже не был таким нежным, словно он разговаривал с ребенком, – теперь он звучал сухо, как в некоторых случаях звучал голос Жоана: – Престес в тюрьме, и никто не спорит, что это огромный урон для партии, что его нам всем очень недостает, но партия, однако, продолжает существовать. А ты ведь не Престес, и Сан-Пауло – не вся Бразилия. А где твое чувство дисциплины? Ведь это не я посылаю тебя в Кампос-до-Жордан. Так решила партия. Долг коммуниста – выполнять решения партийного руководства. Особенно, если он старый коммунист. Руйво приподнял голову с подушки, оперся на локоть, весь его гнев прошел. – Ты прав. Я вел себя, как дурак. Мне следовало бы раньше позаботиться о своем здоровье – теперь не пришлось бы выбывать из строя… Я знаю, что каждого можно заменить, и не в этом дело. И не в том, чтобы искать славы в героической смерти. Но трудно примириться с мыслью – отправиться отдыхать в санаторий, когда другие остаются в строю и не щадят себя в борьбе. Я чувствую себя бесполезным, и как бы я ни старался, преодолеть этого чувства не могу. – Когда раненый солдат покидает поле битвы, он лечится для того, чтобы вернуться обратно. – Голос Карлоса обрел прежнюю мягкость, это был голос братский и теплый. – Здесь такой же случай. Не понимаю, почему это тебя мучит. Ты должен всю свою энергию направить на то, чтобы вылечиться, и сделать это возможно скорее, чтобы скорее вернуться; нам будет очень недоставать тебя… Он улыбнулся Руйво. Напряжение в комнате разрядилось. Мариана почувствовала горячую атмосферу коммунистической дружбы. – Я понимаю, что ты сейчас испытываешь, – продолжал Карлос. – Я знаю: тебе нелегко. Но мы ведь не для того коммунисты, чтобы справляться только с легко преодолеваемыми страданиями. Твоя нынешняя задача – вылечиться. И подойти к ее выполнению ты должен с той же серьезностью, с какой до сих пор подходил ко всем другим заданиям партии. Это твое задание, вот и все… – Да, благодарю за такое задание… – Руйво пробовал поворчать, но спорить больше не стал. Казалось, он согласился, и доктор Сабино в тот же день переговорил по телефону со своими друзьями из санатория. Однако на следующий день Руйво опять заупрямился. Известие о подавлении забастовки на Сан-Пауловской железной дороге очень его взволновало. Когда Мариана пришла к нему, он был в жару, очень возбужденный, и требовал, чтобы решение об его отправке в санаторий было пересмотрено. Он был уверен, что через несколько дней, поскольку ему теперь много лучше, сможет подняться с постели и вернуться к работе. Мариана не без некоторого страха ждала его отъезда в Кампос-до-Жордан. Она знала, что это будет мучительный день. Но приезд из Рио одного из членов Национального комитета облегчил дело: это был толстый, коренастый негр с начинавшей седеть головой, с медленными движениями и спокойным, размеренным голосом. Старый партийный работник, он знал Руйво с давних пор. Он явился в дом Маркоса поздним вечером, и Мариана, сопровождавшая его, испытывала глубокое волнение: ей впервые приходилось иметь дело с одним из представителей национального руководства. Большую часть пути они прошли пешком, и почти все время товарищ из Рио рассказывал ей о своей жене и детях – они жили в Алагоасе, и он уже давно их не видел. Он все время собирался перевезти их к себе в Рио, но условия борьбы не позволяли ему этого. Мариана узнала имена малюток, узнала о кулинарном искусстве его жены. Товарищ из Рио очень удивился, почти возмутился, услышав от Марианы, что ей ни разу в жизни не приходилось есть ватапа[127]. – Никогда в жизни? Невероятно… Ты представить себе не можешь, до чего это вкусно. Если бы мне не надо было немедленно возвращаться, я бы приготовил у вас в доме ватапа. Я и сам недурной повар: не только моя жена смыслит в кулинарии! Я научился готовить ватапа в Баие, мы должны всё уметь. Хорошо приготовленная ватапа – это изумительное блюдо, не то что какие-то «равиолезиньос»[128], которыми вы здесь питаетесь… – И он смеялся, смеялся громким и добрым смехом, будто у него не было в жизни других забот. Позже Жоан рассказал Мариане кое-что о жизни этого товарища, и она узнала, как героически он переносил пытки в тюрьмах и каким уважением пользовался среди железнодорожников и моряков. Мариана почувствовала досаду: знай она это раньше, она бы использовала беседу с товарищем, поучилась у него. Она высказала эту мысль Жоану, но тот ей ответил: – Если ты немного вдумаешься, то поймешь, что он и так научил тебя многому. – Чему же? – Тому, что коммунист – это человек из плоти и крови, а не машина, как утверждает буржуазия. Он тебе показал, как рабочий – член партии – не теряет своей человечности, не превращается в автомат; он не перестает любить свою семью, ему не чужды обычные житейские желания. Но, разумеется, на совсем иные темы он беседовал с Руйво, когда они более часа оставались наедине в комнате архитектора. И когда товарищ вышел, Руйво спокойно улыбался, и уже больше не возражал против отправки в Кампос-до-Жордан. И все же отъезд Руйво был печальным. За несколько дней перед тем он уже вставал с постели и большую часть времени проводил в саду на солнышке, полулежа в покойном кресле. Немного ходил по дому, но к вечеру у него повышалась температура. Худой он стал, как скелет. Перед тем как отправиться в санаторий, Руйво обратился к Мариане с просьбой: – Присмотри за Олгой – она очень удручена. Навещай ее, как только у тебя будет время (Олга временно осталась в доме Маркоса) – она тебя любит; постарайся развлечь ее. И еще одна просьба: пиши мне через Сабино, сообщай обо всем, что происходит. Если я буду оторван от жизни, то не смогу сопротивляться болезни, не смогу выздороветь. Время от времени меня будет навещать Сабино, – пересылай через него копии материалов и информацию. Тогда я не буду чувствовать себя одиноким. Мариана обещала. Он улыбнулся и сказал: – Через три месяца я снова буду в строю. Врач повез его в Кампос-до-Жордан на собственной машине. Это было в воскресенье. Когда автомобиль уехал, Мариана на несколько мгновений присела на ту самую скамейку, где в один прекрасный вечер Жоан говорил ей о своей любви. Олга, вся в слезах, бродила по комнатам. Мариане еще виделась рука Руйво, приветливо махавшая на прощание им – Олге, ей и Маркосу. Увидит ли она его еще раз? Вернется ли он когда-нибудь из санатория? Или ей придется и его образ хранить в глубине сердца, как и многих других? Как образ отца, просившего ее на смертном одре заменить его в рядах партии. Как образ старого Орестеса, который взорвал подпольную типографию, чтобы она не досталась врагам. Образ молодого Жофре, героически сопротивлявшегося полиции и умершего, истекая кровью. Образ негритянки Инасии из Сантоса, которую она, Мариана, не знала, но о которой столько слышала от Жоана, когда он приехал в Сан-Пауло на совещание районного руководства партии. Она видела их, как живых: вот ее отец в очках с поломанной оправой склонился над своими любимыми книгами; вот смеется старик Орестес и топорщатся его жесткие усы; вот юное смущенное лицо Жофре и его гладкие волосы, ниспадающие на лоб; вот рука негритянки Инасии, сжимающая бразильский флаг. Она обернулась на шум шагов. Перед ней стоял Маркос де Соуза. Он сказал: – Я уверен, что он поправится. Он еще многое сделает… Как отрадно было Мариане слышать эти слова. Да, Руйво, с его исключительной силой воли, должен преодолеть болезнь, восстановить здоровье! Это вовсе не невозможно – у врача есть надежда. Она проговорила тихим голосом: – Жоан учил меня, что нужно из всего извлекать урок. Из этой болезни Руйво я узнала, как много значит слово «партия», сколько благородных чувств она пробуждает в людях. Архитектор разрыхлял землю садовой лопаткой, затем сел на скамейку рядом с Марианой. – Я хочу сказать… – пробормотал он. – Я думаю, что никогда не женюсь. Уже не тот возраст, я закоренелый холостяк. Но если бы в один прекрасный день мне пришлось жениться и у меня бы родилась дочь, я назвал бы ее Инасией. Мариана, заинтересованная, повернулась к нему. – Инасией? В честь погибшей Инасии из Сантоса? Откуда вы о ней знаете? Ах, да! Вы были в Сантосе… – вспомнила она. – Больше того. Я присутствовал при ее смерти. – Вы? – Я все вам расскажу, Он отбросил лопатку и, обратив к Мариане свое доброе, открытое лицо, начал рассказывать. Он говорил о насилии, о пролитой крови, о бесчисленных страданиях. Но от его рассказа не веяло ни смертью, ни тоской, ни обреченностью. В его голосе звучала жизнь, глубокая надежда, обретенная уверенность в победе, и он сам не мог понять, почему рассказ у него получился именно таким. 22
В Сантосе – солдаты, Сантос оккупирован. Словно город страны, ведущей войну, он захвачен войсками противника. Штыки сверкают на солнце; в доках порта и вокруг рабочих кварталов установлены пулеметы. Школы превращены в казармы – там не слышно больше веселого детского смеха, звучит лишь отрывистая команда офицеров. Сантос занят федеральными войсками, Сантос – под тяжелым сапогом военщины. Где-то на свете, говорят, происходит война: ее очаги пылают в Испании, японцы опустошают Китай, в Чако гниют трупы павших, – бушует война на свете. Но здесь, в Сантосе, против каких врагов направлены действия солдат, зачем здесь ружья, пулеметы, трубы, горны, почему бьют барабаны и слышны слова команды? Против какого страшного врага, какой армии, каких захватчиков, каких жестоких противников собирается сражаться бразильская армия? Какие хищные чужеземцы угрожают отечеству, которое эти солдаты клялись защищать? Где они прячутся, эти враги-чужеземцы? Где их танки и пушки, их батальоны и полки? На кого поднято бразильское оружие? Почему оккупирован и превращен в театр военных действий бразильский город Сантос, почему он стонет под солдатским сапогом? Для полковника, коменданта города, назначенного на этот пост федеральным правительством, те, против кого он ведет своих храбрых бразильских солдат, – злейшие враги. Но эти враги – не гитлеровцы, собирающиеся превратить юг Бразилии в заокеанскую колонию «третьей империи». Против них ничего не имеет полковник – руководитель «Интегралистского действия»; с ними мечтает он отправиться на войну против России и там заработать себе генеральские эполеты. Нет, это и не богачи-янки, жующие резинку и собирающиеся проглотить марганец долины Салгадо и другие минеральные богатства Бразилии. И против них ничего не имеет полковник: ведь мы все американцы, и страна наша велика; пространства и богатств хватит на всех – и на немцев и на североамериканцев, – так думает он. Нет, это и не рыжеволосые англичане, чьи военные суда угрожающе встали на якорь в порту, чтобы лучше сторожить то, что у них еще осталось в Бразилии на железных дорогах, на фабриках и в этих доках Сантоса, оккупированных войсками. И против них ничего не имеет полковник – ведь в течение долгого времени наша страна почти принадлежала им; так пусть же они спокойно владеют остатками своих богатств – ведь они тоже белые, такие же арийцы, как и мы. Нет, не против этого военного корабля под британским флагом, намеревающегося высадить десант, собирается полковник-интегралист бросить своих доблестных солдат. Еще вчера он обедал на этом судне, прищелкивая языком, смакуя великолепный шотландский виски. Вместе с английскими офицерами он поднимал тосты за победу над их общим заклятым врагом. Так против кого же направляет полковник бразильское оружие, против кого ведет он своих солдат? В жалких лачугах грязных кварталов находятся эти грозные враги, против них полковник вырабатывает планы боевых операций. Им нечем накормить своих детей, нечем заплатить за кров над головой, им остается лишь подтягивать пояса на отощавших животах. У этих страшных врагов нет мундиров, солдатских фуражек и сапог; у них нет револьверов, ружей, пулеметов. У них нет оружия, но зато есть пламя, которое все сильнее разгорается в груди; это пламя – рабочая солидарность, объединяющая их друг с другом. Против бастующих докеров, грузчиков, носильщиков, против солидарных с ними рабочих фабрик и против матросов с грузовых судов – против всего голодного рабочего люда ведет свирепый полковник своих солдат, разрабатывает оперативные планы военных действий, отдает боевые приказы. Этот опасный враг зовется пролетариатом. Забастовка – его дерзкая военная вылазка, преступление, за которое на него наведены жерла пушек и дула солдатских ружей. Этот враг отказался грузить кофе, украденный у народа и предназначенный в подарок убийце рабочих, поэтов и детей. Преступление этого врага состояло в том, что он любил другие народы, любил свою угнетенную родину, не хотел, чтобы она была связана с преступлениями фалангистов по ту сторону океана. Вот почему тюрьмы были переполнены, люди погибали под пытками, по улицам лились потоки крови. Сначала против этих врагов выпустили секретную полицию, специалистов по борьбе с коммунизмом, с забастовками, с пролетарским движением. В их действиях не было ничего человеческого. Распухшие от побоев тела забастовщиков были брошены в тюрьмы, как тюки в трюм парохода. Но страшные враги не сдавались. Тогда против них выслали военную полицию, в помощь пешим полицейским примчались конные патрули. Они изрешетили пулями порт и его склады; там был убит Бартоломеу. Конные патрули разогнали похоронную процессию; много бойцов пало у его гроба. В этой странной войне стреляла только одна из воюющих сторон; только у нее имелись револьверы, пулеметы, конные солдаты. Оружием другой стороны было только жаркое пламя, которое все сильнее разгоралось в груди. Лошадьми была растоптана прекрасная негритянка Инасия – цветок порта Сантоса, но еще раньше был убит ребенок, которого она вынашивала в своем чреве. Кровь струилась потоками, сотни арестованных были брошены в тюрьмы, на них обрушивались удары плетей и резиновых дубинок, тяжелых, как свинец. Но у этих страшных врагов только сильнее разгоралось пламя идеи, только ярче горел огонь солидарности, и они не сдавались. И вот тогда в битву были введены войска, явился полковник со своими солдатами. Цели полковника были ясны и точны: погрузить кофе на нацистский корабль, помочь генералу Франсиско Франко, который в Испании сражался с таким же врагом, что восстал и в Сантосе. Полковник-интегралист заставил своих солдат грузить корабль. После погрузки оставалось только покончить с забастовкой. Приставить солдата с винтовкой и штыком к каждому непокорному забастовщику, чтобы принудить его при помощи столь убедительного довода отправиться в порт и возобновить работу. Не спускать с них бдительного взора и не снимать руку с пулемета, чтобы пресечь всякую попытку к протесту после того, как бастующие будут вынуждены вновь приступить к работе. К каждому забастовщику – по солдату с ружьем!.. И когда с забастовкой будет покончено, полковник возвратится в Рио принимать поздравления, давать интервью газетам и – как знать? – может быть, получить повышение. Врагов не сломили ни голод, ни плети, ни тюрьмы, ни конские копыта; этого добьется он – полковник со своими солдатами. Ему надо было только отдавать команду – ясную и точную боевую команду. Так говорил полковник-интегралист молодому капитану, объясняя положение забастовщиков, которое благодаря «образцовой работе полиции» было ему известно во всех подробностях. – Солдаты выволокут забастовщиков из жилищ; многих приведут в доки прямо из тюрьмы – всех, за исключением главарей и иностранцев. Этих мы сошлем на остров Фернандо-де-Норонья. А для того чтобы они все без исключения работали, за спиной каждого из этих каналий будет поставлен солдат с ружьем. Капитан, с которым разговаривал полковник, не был интегралистом. Он был просто-напросто армейским офицером и никогда не вмешивался в политику. Он гордился своими нашивками, считал честью носить свой мундир. Ему не нравилось, что в порту стоял английский военный корабль: в пушках, направленных на город, он видел что-то оскорбительное для его родины. И ему точно так же не понравились только что полученные от полковника приказания: вытаскивать рабочих из домов и силой гнать на работу. Было такое время – в период империи, – когда хотели заставить войска охотиться за рабами. Но офицеры сказали: «Нет, мы не палачи!» и отказали хозяевам энженьо – не дали посылать солдат охотиться за неграми. А разве сейчас приблизительно не то же самое? Разве для этого он проходил курс в военной школе, изучая стратегию и тактику; давал перед развернутым знаменем торжественную присягу? Он мечтал о жарких боях, о пороховом дыме, о кровавой славе поля брани. Он был обманут в своих мечтаниях: ему предстояло быть всего-навсего новым палачом и охотником за безоружными рабочими. Бесчеловечный полковник-интегралист отдал этот приказ подчеркнуто торжественным тоном. На честном лице капитана появилась гримаса отвращения. – Что вы об этом думаете, капитан? – спросил полковник. – Это не та война, о какой я мечтал. Перед нами не солдаты противника. – Не может быть более опасного врага, чем эти проклятые коммунисты. Они – враги церкви, родины и семейного очага. Враги установленного порядка, повинующиеся своим вожакам – иностранцам. Сражаться против них, капитан, – это честь. И мы ведем эту войну, настоящую войну. Полковник умолк, довольный своей речью. Замолчал и капитан, но не потому, что был убежден. В наступившем молчании полковник принялся искать какие-то другие решающие доводы и привел такой неоспоримый аргумент: – Я ваш начальник, и вы обязаны мне повиноваться. Вы, сеньор, военный. Прежде всего – повиновение. Приказ я вам уже дал, и не ваше дело его обсуждать. Капитан вытянулся. Дело военного, подумал он, повиноваться. – Можете идти, капитан. Это происходило в Сантосе, к концу забастовки портовых грузчиков. Он был оккупирован войсками как завоеванный вражеский город. На грузчиков были направлены ружья и пулеметы; им была объявлена война. Да, это была война – война классов. Да, это был вражеский город, но вражеский – для фашистской конституции, для «нового государства», для нацистских флагов на судах, для кофе, предназначенного в подарок Франко. Город был занят солдатами, завоеван, но пламя борьбы, поддерживавшее его защитников, не было погашено. Таков был, хотя и в оковах, Сантос в те дни: над ним всходила заря свободы, реяло развернутое знамя будущего, это был красный, коммунистический город! 23
Белый солдат Антонио. Коричневый мулат Мануэл. Черный-черный, как уголь, Роман. Были в Сантосе три солдата, и у каждого – штык на ружье. Антонио, белый солдат, раньше был литейщиком. Он любил блеск огня, жар своего горна. В казарме он все время молчал; о чем думал солдат Антонио? Он думал о своем горне и о своей дочурке: ей два с половиной года, и у нее кроткие глаза отца. И о своей жене думал Антонио – человек с ружьем. Были в Сантосе три солдата, и у каждого – штык на ружье. Мануэл, коричневый мулат, до того как стать солдатом, обрабатывал чужую землю. В армии он научился читать и еще многому научился солдат Мануэл. Он мечтал, что наступит день, когда у него будет земля; мечтал работать на своей собственной земле, а не возделывать чужую. У него не было ни жены, ни невесты; он думал о своей старухе матери. О ней думал Мануэл – человек с ружьем. Были в Сантосе три солдата, и у каждого – штык на ружье. Солдат Роман, черный-черный, как уголь, раньше был грузчиком в порту Баии. На груди у него вытатуировано имя невесты; ее звали Мария. Он думал о своей невесте и об изумрудном море Баии. По вечерам он пел, держа в руках ружье. Белый солдат Антонио. Коричневый мулат Мануэл. Черный-черный, как уголь, солдат Роман… Были в Сантосе три солдата, и у каждого – штык на ружье. Антонио прочел листовку; ее передавали из рук в руки тайком. «Солдат, что ты делаешь? – спрашивала его листовка. – Ты собираешься нацелить свое ружье на забастовщиков Сантоса – на своих братьев рабочих?» Был литейщиком Антонио и участвовал в стачках; он надеялся вернуться к жару своего горна. Вот о чем думал солдат Антонио – человек с ружьем. Были в Сантосе три солдата, и у каждого – штык на ружье. Нашел листовку у себя на койке коричневый мулат Мануэл. Кто-то подбросил ее; лежали такие же листовки и на других койках. «Солдаты и крестьяне, рабочие, моряки, все угнетенные… Солдат, что ты собираешься делать? Собираешься стрелять в таких же бедняков, как и ты?» – спрашивала его листовка. Раньше он обрабатывал землю и был беднейшим из бедных. Стрелять?.. В бедных?.. Мануэл взглянул на свое тяжелое ружье. Были в Сантосе три солдата, и у каждого – штык на ружье. Дали листовку Роману, и множество таких же листовок переходило из рук в руки по всей казарме. «Солдат, ты собираешься заставить грузчиков Сантоса работать на фашистов? Ты подымешь свое ружье, чтобы пролить нашу кровь, кровь твоих братьев? Солдат, что ты делаешь?» – и его спрашивала листовка. Раньше он был грузчиком в порту Баии. Вышел и встал перед строем негр-солдат Роман. Бросил на землю свое ружье. Были в Сантосе три солдата, и у каждого – штык на ружье. Много солдат в Сантосе… И начали они грузить кофе на пароход. Солдаты – для войны; где это видано, чтобы солдаты грузили пароходы? Но еще хуже было на другой день, когда офицер приказал приставить ружья к груди бастующих грузчиков, силой отвести их на работу и караулить. Были в Сантосе три солдата, и у каждого – штык на ружье. Много солдат в Сантосе, и каждый читает свою листовку: «Солдаты, что вы собираетесь делать? Хотите заставить своих братьев работать на фашистов? Солдат, остановись, не делай этого!» Говорили меж собой в казарме. «Солдат, остановись!» Долго обсуждали. «Солдат, не делай этого!» Но что они могли? И решили не делать: ведь удел солдата – война. Были в Сантосе три солдата, и у каждого – штык на ружье. Много солдат в Сантосе, и каждый читает свою листовку: «Солдат, не делай этого! Остановись!» Доложил полковнику лейтенант, и узнал полковник о толках среди солдат, надел на пояс кобуру с револьвером и пошел в казарму. Решили бросить солдаты жребий, кому говорить с полковником. Первым вытянул жребий Антонио, вторым Мануэл. А в третий раз жребий не бросали: ведь Роман, негр, раньше работал грузчиком в порту Баии, и он сам вызвался идти третьим, черный солдат Роман. Но не пришлось им говорить. Были в Сантосе три солдата, и у каждого – штык на ружье. Белый солдат Антонио. Коричневый мулат Мануэл. Черный-черный, как уголь, Роман. Их расстреляли – и белого, и мулата, и негра. Были в Сантосе три солдата, три солдата, расстрелянные у стены. Белый солдат Антонио. Коричневый мулат Мануэл. Черный-черный, как уголь, Роман. Красная кровь у всех троих, у троих солдат из Сантоса. Были в Сантосе три солдата, красная кровь у всех троих!.. 24
Может быть, потому, что ее большие глаза остались открытыми, будто она увидела смерть перед собой или, может быть, потому, что у нее было красивое смуглое лицо, – но убитая девушка, лежавшая среди апельсиновых деревьев, напомнила Аполинарио и его сестру, теперь с трепетом молившуюся за него в далеком Рио-де-Жанейро, и ту девушку в Сан-Пауло, которая принесла ему в отель фальшивые документы и помогла выехать из Сантоса. Ее звали Марианой, – что-то с ней стало потом? Ночь была светлая, хотя луна еще не взошла. Аполинарио возвращался со своими солдатами, уставшими от боя. Он и сам чудовищно устал, еле держался на ногах. Только совсем недавно он выписался из госпиталя, рана его едва затянулась. Вдали виднелись огни деревушки, оставленной в этот день фалангистами. Аполинарио вместе с солдатами направлялся туда. Несмотря на усталость и на то, что им пришлось нести нескольких раненых, солдаты, довольные победой, негромко пели. Может быть, потому, что они шли апельсиновой рощей, Аполинарио овладело настойчивое воспоминание о Бразилии сразу же после того, как они наткнулись на труп девушки, изрешеченной пулями. Консуэла, Энкарнасьон, Долорес – как ее звали? – умерла молодой, срывая плоды в фруктовом саду. Высыпавшиеся из корзины апельсины валялись кругом, и кровь окрасила в алые тона золотую кожуру плодов. Пули попали и в апельсины; их сладкий густой сок смешался с кровью убитой крестьянской девушки. В глазах у девушки застыл ужас. Много раз за последние дни напряженных боев смерть стояла совсем рядом с капитаном Аполинарио и его солдатами. Около него падали люди, пораженные немецкими пулями фалангистов. Но по-настоящему присутствие смерти, ее леденящую кровь реальность он ощутил, лишь наткнувшись среди апельсиновых деревьев на убитую девушку с большими широко открытыми глазами, судорожно зажавшую в руке пожелтевшие листья. Немного дальше они увидели брошенный пулемет. Несомненно, это было дело рук немцев: нацисты любили убивать всех без разбору – солдат и мирных жителей, мужчин и женщин, молодых и старых. Солдаты Аполинарио подобрали пулемет. Находившийся поблизости маленький домик был тих и пуст: может быть, родители убитой девушки успели убежать и где-нибудь скрыться? Аполинарио заметил перед домиком кусты роз и гвоздику в цвету; как и его сестра, убитая любила цветы – наверное, вплетала их в свои черные волосы… Сам не зная зачем, он сорвал одну розу и взял ее с собой. Они не прошли и нескольких шагов, как наткнулись на лежавшие рядом трупы старика и старухи. Женщина была убита выстрелом в лицо и лежала, запрокинувшись навзничь. Нацисты любили убивать всех подряд. – Мерзавцы! – проговорил один из солдат. Это был молодой парагваец, тоже крестьянин. Быть может, на далекой родине его ждала старая мать, похожая на эту убитую крестьянку; ждала красивая сестра, похожая на девушку, тело которой, изрешеченное пулями, лежало в апельсиновой роще. Взошла луна, и полосы желтоватого света заскользили по листве деревьев; то, что он увидел, напомнило ему бразильские пейзажи. Почти совершенно такую же картину Аполинарио наблюдал однажды в гостях у своего друга – владельца апельсиновых плантаций в Нова-Игуассу. Так же луна лила свой свет на верхушки деревьев, только не было на земле разбросанных трупов. В разгар войны, разыскивая ночью место для ночлега, капитан думал о Бразилии. Он был далеко от нее – по другую сторону Атлантического океана. Что происходило там в эти часы? И кто из его солдат – добровольцев, собравшихся со всей Америки, – не думает сейчас о своей родине? Солдат парагваец вспоминает поля, засаженные мате[129]; на родине у него осталась сгорбленная каждодневным тяжелым трудом, вечно молчаливая индианка-мать с страдальческим выражением лица. Увидев изуродованный пулями труп старой крестьянки, он вскрикнул, подобно раненому животному. Лицо девушки напомнило Аполинарио его сестру и Мариану, такую же смуглую, как убитая. Затем он начал думать о всех товарищах, о партии и ее борьбе. В одной мадридской газете он прочел телеграмму о событиях в Сантосе: грузчики и докеры объявили забастовку, отказавшись грузить кофе, который бразильское «новое государство» посылало Франко. Аполинарио в то время лежал в госпитале и вырезал прочитанное сообщение из газеты; и теперь еще оно лежало в кармане его куртки. Он задавался вопросом, чем закончится эта забастовка – первая после установления в Бразилии фашистского «нового государства»? Воспоминание о родине жило в нем не ослабевая, и редкий день не переносился он мыслями в Бразилию. Когда в свободные дни он посещал других бразильцев, сражавшихся в Испании, – их было человек пятьдесят, – тема разговоров была одна-единственная: они все время говорили о Бразилии, откуда так редко приходили вести. Обменивались предположениями, высчитывали, сколько времени продержится «новое государство»; тревожились за судьбу Престеса и других политических заключенных. Они знали, что большинство узников, осужденных в связи с событиями 1935 года, было отправлено на остров Фернандо-де-Норонья – в страшную тюрьму среди океана, затерянную между материками Америки и Африки, – и тревожно спрашивали себя, каким опасностям и трудностям приходится подвергаться остальным, – тем, что находились на свободе и продолжали неравную борьбу? Аполинарио тосковал по известиям из Бразилии, жадно искал их в испанских и французских газетах и сердился, когда почти ничего не находил; только изредка ему попадалась небольшая телеграмма где-нибудь в углу страницы. Тогда ему начинало казаться: пресса уделяет слишком мало внимания Бразилии, редакторы не отдают себе ясного отчета в том, что представляет собой борьба бразильского народа. Телеграмма о начале забастовки в Сантосе, как исключение, была пространнее остальных. Но после нее ничего больше не сообщалось. Попав из Монтевидео в Испанию, он находился несколько дней в глубоком волнении, встречая в этой стране, которая вела войну, на каждом шагу – на подвергающихся бомбардировкам улицах городов и селений, на стенах несокрушимого Мадрида – надписи, требовавшие освобождения Престеса. Он сразу же ощутил атмосферу горячей солидарности, проявляемой испанскими трудящимися и бойцами по отношению к заключенным бразильским антифашистам и в особенности – к Престесу. Как они находили время думать о бразильских узниках, когда война стала для них трагической повседневностью, когда немецкие самолеты обрушивали бомбы на их города, когда «коричневые рубашки» Гитлера и «черные рубашки» Муссолини, поддержав изменников, наводнили Испанию, когда французские социалистические и английские лейбористские лидеры предавали испанский народ и разыгрывали комедию «невмешательства»? Несмотря на все это, на стенах того же Мадрида, где он прочел знаменитый лозунг Пасионарии «Они не пройдут!», Аполинарио встретил слова, требовавшие свободы Престесу. Во всем мире ведется одна общая борьба, думал Аполинарио, стоя перед этими надписями. Испанский народ это знает и, несмотря на собственные трудности и бесчисленные страдания, протягивает руку братской солидарности бразильскому народу. Аполинарио с первого дня приезда полюбил Испанию и ее народ, но эта любовь к природе страны, к боевому духу ее солдат и гражданского населения возросла и окрепла, когда он увидел, как популярен здесь Престес, как широко развернулась кампания за его освобождение. Уже на следующий день по приезде в Мадрид ему вместе с другими так же, как он, взволнованными соотечественниками довелось присутствовать на митинге протеста против заключения Престеса. Там выступали республиканские вожди, и знаменитые поэты читали стихи. «Всего, что я здесь сделаю, будет недостаточно, чтобы отблагодарить испанцев за то, что они делают для нас», – думал он, вслушиваясь в мелодию стихов, посвященных Престесу. Да, партия правильно поступила, послав его в Испанию. В эти месяцы, проведенные на фронте, Аполинарио на практике уяснил себе огромное значение этой войны. От ее исхода во многом будет зависеть судьба «нового государства» в Бразилии, судьба демократии во всех странах, судьба мира, которому угрожал Гитлер. На карту здесь были поставлены судьбы мира и человечества; здесь дело шло не только об одной Испании, но и обо всей Европе, о самых отдаленных странах земного шара, как, например, Бразилии. Он видел, как кольцо капиталистического окружения все туже смыкается вокруг испанского народа, сводя на нет его первые победы в этой войне; как правители Франции, Англии, Соединенных Штатов – те самые, кто называли себя демократами и социалистами, – продавали героическую Испанию Гитлеру. И он чувствовал, что испанский народ и народы всего мира должны во что бы то ни стало выиграть эту войну. Если они ее проиграют, будет проигран мир. Гитлер уже протягивал свои смертоносные когти к Чехословакии: судетский вопрос[130] занимал первые страницы газет. Аполинарио уже не испытывал беспокойства от того, что он не у себя на родине – он целиком отдался выполнению новых возложенных на него заданий. На фронт он отправился в чине старшего лейтенанта. Вскоре был ранен: осколок гранаты попал ему в бедро, и, лежа в госпитале, Аполинарио нетерпеливо дожидался выздоровления. Как только начал немного поправляться, тотчас же стал убеждать врача, чтобы тот выписал его из госпиталя и признал годным для возвращения в строй. Врач посмеялся над его малоубедительными доводами, но все же Аполинарио удалось сократить срок своего пребывания в госпитале, и, вернувшись на фронт, он героической отвагой завоевал себе погоны капитана. Аполинарио был буквально влюблен в Испанию: в красоту страны и народа; в героизм ее сынов; в отвагу и ум ее рабочих, ставших солдатами и генералами, общественными деятелями и министрами; в решимость ее крестьян, взявшихся за оружие, чтобы защищать завоевания Республики; в мелодии песен, с которыми народ шел в бой; в способность этого народа на самопожертвование; в пролетарских вождей Хосе Диаса и Пасионарию. Ко всему этому еще прибавилось сознание значения войны в Испании. И он чувствовал бы себя здесь вполне счастливым, сражаясь с оружием в руках против фашистов, если бы не постоянные воспоминания о Бразилии. Вот и теперь, когда он проходил среди апельсиновых деревьев, направляясь к деревне, лицо убитой девушки напомнило ему знакомый облик его сестры и образ той девушки из Сан-Пауло. И от этих воспоминаний мысли опять вернулись к постоянно тревожившим его вопросам: что там сейчас происходит? Как живут товарищи на острове Фернандо-де-Норонья? Как идет борьба? Чем кончилась забастовка в Сантосе? До него доносились приглушенные голоса солдат, шедших немного впереди. То была смесь латиноамериканских наречий; время от времени слышался твердый английский говор. Все это – товарищи, прибывшие из самых различных стран, чтобы бороться вместе с испанским народом. Среди них представители многих национальностей: есть даже негр с острова Тринидад, а сегодня в бою пал белокурый юноша канадец. Трудный был сегодня день; оторванные от других частей, находясь под непрерывным пулеметным огнем фашистов, они потеряли много людей, защищая позицию на высоте, господствовавшей над долиной. Им был дан приказ удерживать позицию, и они удерживали ее до тех пор, пока враги, разбитые республиканскими силами, не отступили на всем протяжении фронта. День и ночь проводили они в окопах, укрепляя огневые точки и восстанавливая их после обстрела фашистской артиллерией. Они голодали; даже за водой им приходилось спускаться вниз с холма на открытую местность, ничем не защищенную от вражеского обстрела. Частичное продвижение фалангистов отрезало их группу от всей бригады; они оказались почти в окружении; только с наступлением ночи солдаты отваживались ходить за водой. Но они не отступили. «Умрем здесь все, если нужно, но не сдадим высоту!» – сказал Аполинарио, и люди с ним согласились. Их куртки были перепачканы глиной и изорваны при перетаскивании камней; люди обросли бородами, глаза их, воспаленные от бессонных ночей, блестели от голода. Они напоминали выходцев с того света. Много солдат пало под пулеметным огнем, но позиция была удержана, и фашисты под нажимом республиканцев отступили. Огонь прекратился к концу дня; враг покинул свои позиции. У Аполинарио оставалось мало людей и не было почти никаких боеприпасов. На высоте лежали трупы друзей. Многие из тех, что шли сейчас апельсиновой рощей, были ранены и опирались на товарищей. Двоих несли на самодельных носилках. Но высота удержана – фашисты не прошли. Шагая между апельсиновыми деревьями, измученный и невыспавшийся, чувствуя боль плохо зажившей раны, Аполинарио думал о Бразилии. Когда он сможет туда вернуться? Не раньше, чем они окончательно разобьют фалангистов и выкинут с полуострова фашистских захватчиков; он не вернется до тех пор, пока знамя Республики снова не будет развеваться над каждым городом и каждым селением освобожденной Испании. Только тогда поедет он на родину, причем возвращаться придется нелегально: в Бразилии он осужден на восемь лет тюремного заключения за участие в восстании 1935 года (его дело разбиралось, когда он уже находился в Испании, и о приговоре ему стало известно после выхода из госпиталя: «Исключен из рядов армии, осужден на восемь лет…»). Таким образом, придется вернуться нелегально, жить под вымышленным именем, скрываться от полиции. Может быть, придется – как знать? – переходить границу между Уругваем и Бразилией теми же полями, близ Баже. А если война будет проиграна? Если Испания будет отдана Гитлеру и Франко? Нет! Народ сильнее предателей – внутренних и внешних… Народ должен победить, и тогда он, выполнив свой долг, вернется в Бразилию. Когда? – спрашивает себя Аполинарио, минуя апельсиновую рощу. Он все еще держит в руке осиротелую розу, сорванную в маленьком цветнике убитой крестьянской девушки. Совсем поблизости послышались легкие шаги человека, пытающегося скрыться, но солдаты уже заметили его. Аполинарио подошел к ним; солдаты совещались. – Наверно, какой-нибудь фалангист отстал от своих и теперь прячется… – Кто знает, может быть, это – тот самый нацист, который убил здесь стариков и девушку? – Во всяком случае, надо захватить этого мерзавца. И солдаты уже крадутся между деревьев, пригибаются к земле, сохраняя полное молчание: они хотят поймать фашистского убийцу. И сам Аполинарио вместе с солдатами крадется между деревьев; ему тоже хочется захватить немецкого фашиста-пулеметчика, расстрелявшего юную девушку, и седую старуху, и ее мужа – старого крестьянина. Сержант Франта Тибурек, из бригады имени Димитрова, слышит приглушенные шаги выслеживающих его солдат. Он останавливается и старается спрятаться за деревьями так, чтобы он мог разглядеть, кто эти люди, которые преследуют его. – Кто они – друзья или враги? У него очень болит голова… Сколько же часов он находился без сознания? Наверное, очень долго, потому что, когда он пришел в себя, никого из товарищей по батальону уже поблизости не было. Это произошло при последней атаке на позиции фалангистов. Снарядом разбило стену дома, и во Франту попал камень. Сержант упал без чувств. Рана его не была серьезной, он скоро пришел в себя, но ощущал, однако, большую слабость. Камень содрал кожу на голове и, видимо, от этого он лишился сознания. Поднявшись, он понял, что бой кончился: не слышно ни грохота артиллерии, ни свиста пуль. Он шел с трудом – все тело болело, колено распухло. «Фашисты отступили?» – это была его первая мысль. Надо выяснить, на чьей он территории – республиканской или вражеской, угрожает ему опасность или нет… Неожиданно Франта спросил себя, почему он, сержант Тибурек так остро переживал в этой войне каждую победу и каждое поражение, как бы незначительны они ни были? Над его родиной также нависала угроза фашизма: Гитлер устремлял свой хищный взор на Чехословакию, и для Франты было ясно, что в Мадриде решалась судьба Праги. Газеты полны сообщений об обострении судетской проблемы, о переговорах, начатых между главами правительств Франции, Англии, Германии и Италии[131]. Сержант Франта Тибурек в разгар испанской войны думал о судьбе своей родины. Надо разбить фашистов в Испании, чтобы помешать им напасть на Чехословакию, а затем – на Советский Союз, помешать тому, чтобы в мире царили скорбь, страдание и смерть. И он видел среди апельсиновых деревьев труп испанской девушки, и ему тоже это лицо, с широко раскрытыми от ужаса глазами, кого-то напомнило: его возлюбленную – испанку Консоласьон, убитую фашистами в 1936 году. То была большая любовь Франты, зародившаяся и оборвавшаяся в самом начале испанской драмы. Он обнажил голову, и ему показалось, что он вновь стоит над телом Консоласьон. Франта был глубоко привязан к Испании: здесь он любил и страдал, и порой ему казалось, что здесь прошла большая часть его жизни, хотя на самом деле он приехал в Испанию в числе первых добровольцев лишь в начале войны. Однако в последнее время угроза, нависшая над его родиной, как бы раздваивала его чувства: он был одновременно солдатом испанской республиканской армии и чешским рабочим, и ему не всегда удавалось слить воедино эти обе стороны своего существования. Но желание вернуться на родину оказывалось сильнее: разве Гитлер не требовал часть его страны? И разве можно быть уверенным, что только этим ограничатся его притязания? Не настала ли пора надеть форму чехословацкой армии? Но когда он хорошенько вдумывался, то приходил к заключению, что Испания все еще остается лучшей траншеей для защиты его родины. После победы он вернется; к тому времени над Чехословакией перестанет нависать угроза: поражение в Испании заставит фашистов отказаться от своих захватнических планов. Он уедет, но какая-то часть его существа останется здесь, на испанской земле, у могилы Консоласьон. Воспоминание об их любви – о лучшем, что было у него в жизни, – будет всегда сопутствовать ему. Из-за деревьев при свете луны Франта различает на преследующих его солдатах республиканские мундиры. Он улыбается: значит, фашисты отступили. Для него каждая пядь испанской земли, отвоеванная у фашистов, представляется новым укреплением, воздвигнутым на границе между Германией и Чехословакией. Прихрамывая, он направляется к солдатам… До Аполинарио донесся смех и громкие возгласы. Это, конечно, не нацист, – солдаты бы так не смеялись… Они выходят из-за апельсиновых деревьев. Рядом с молодым парагвайцем идет неизвестный. Это сержант, мундир его испачкан. Он подходит к Аполинарио, отдает честь и представляется: – Сержант Франта Тибурек… Лицо рабочего, мозолистые руки. Аполинарио козыряет в ответ. Сержант рассказывает, как он отбился от своих товарищей по батальону, и, показывая раненую голову, улыбается. Приятная улыбка простого хорошего человека. Аполинарио тоже улыбается и с интересом выслушивает рассказ сержанта; он узнает в нем славянина. – Русский? Сержант говорит по-испански с сильным акцентом: – Чех. Горняк и коммунист. Сержант роты имени Готвальда, тринадцатой бригады, бригады имени Димитрова… – Капитан Аполинарио Родригес. – Испанец? – Бразилец и коммунист. Бригада имени Линкольна. А вам лучше всего идти с нами. Переночуем в деревне, недалеко отсюда. Они продолжают путь. Сержант идет рядом с Аполинарио. Откуда-то доносятся отдаленные звуки аккордеона. – Празднуют победу… – замечает один из солдат. Аполинарио рассказывает сержанту: – Услышав ваши шаги, мы подумали, что это, должно быть, нацист, убивший девушку и стариков… – Труп девушки я видел. Эти бандиты бесчеловечны. Необходимо покончить с ними; истребить одного за другим!.. – В его голосе послышалась такая ненависть, что Аполинарио остановился и посмотрел на него. Сержант почувствовал, что должен дать объяснения: – Не подумайте, что я одержим жаждой крови. Но дело в том, что они убили другую девушку, из Мадрида, которая была для меня всем. Она очень походила на ту, что мы видели сегодня… – Это удивительно: я подумал о моих, там, в Бразилии… Ее глаза напомнили мне сестру, а смуглая кожа лица – Мариану… – Ваша невеста? – Нет. Товарищ по бразильской компартии. Решительная девушка. – Бразилия? – переспросил сержант. – Не у вас ли в Бразилии находится порт Сантос? – И не дожидаясь ответа Аполинарио, сказал: – Да, конечно, это в Бразилии, в стране кофе. Ну, так вот, сегодня утром я прочел в одной барселонской газете краткое сообщение о забастовке в этом порту. Замечательное дело!.. Аполинарио, замедлив шаг, схватил сержанта за руку. – Вы читали о забастовке в Сантосе? Простите, – добавил он, почувствовав, что чересчур сильно сжал руку собеседника, – но я знал, что забастовка началась, а больше никаких сведений у меня не было. Сержант рассмеялся. – У нас с вами одна судьба. Мы живем наполовину здесь, наполовину – у себя на родине. В Испании я с тридцать шестого; иногда мне даже кажется, что я жил здесь всегда. Самые важные события моей жизни произошли здесь – он снова вспомнил о Консоласьон, – но другая половина моей жизни – в Праге, с товарищами по школе, по партии… У нас одна судьба. – Что сказано в газете о забастовке? – Скажу, что запомнил… Эх, досадно, что я отдал газету другому солдату. Апояинарио наклонил голову, чтобы лучше слышать. Сержант начал рассказывать: – Насколько я помню, речь шла о забастовке, начатой для того, чтобы воспрепятствовать отправке кофе для фалангистов… – Совершенно верно. Кофе предназначалось бразильским правительством для Франко. Грузчики Сантоса решили не грузить пароход… И объявили забастовку. Это все, что мне известно! – Ну, были еще и другие события. Забастовка длилась как будто месяц. Полиция арестовала многих рабочих и начала против них судебный процесс. Несколько человек было убито. И, несмотря на все это, забастовка продолжалась. Пришлось прибегнуть к помощи войск, чтобы погрузить пароход. Но и это оказалось не просто – несколько солдат, отказавшихся выполнить приказ, было расстреляно. Аполинарио слушал молча. Воспоминания о Бразилии налетели на него вихрем; он как будто видел перед собой докеров Сантоса, чьи революционные традиции были ему хорошо известны; он видел, как они боролись с полицией; видел солдат, которые не подчинились приказу фашистского командования. Солдат – его товарищей по мундиру, которых он так любил. – Солдаты? Они отказались повиноваться? – Кажется, да. В Бразилии ведь фашистское правительство, не так ли? И невзирая на все это, рабочие продолжали забастовку, чтобы помочь нам здесь. Это замечательно… Чех задумался: ведь фашисты угрожали и его родине, и подвиг грузчиков Сантоса приобретал для него особое значение. Они прошли несколько шагов молча, каждый погруженный в собственные мысли. Франта заговорил снова: – В конце концов, мы победим… Мы должны победить. Нас – многие десятки миллионов, и если мы будем друг другу помогать повсюду, не найдется такой силы, что сломила бы нас, рабочих. – Нет, вы только подумайте!.. Вы даже не можете себе представить все значение этой забастовки! Ведь фашистское законодательство запрещает стачки и карает забастовщиков. А полиция, свирепея с каждым днем, истязает, убивает. У трудящихся нет никаких прав. Объявить забастовку теперь в Бразилии – не меньшее геройство, чем сражаться здесь, в Испании. Нет никакой разницы… – горячо говорил Аполинарио. – Я не знаю, что может еще произойти на свете. Не знаю, что будет с моей родиной. Не знаю даже, чем кончится эта война в Испании. Но когда я прочел известие о забастовке в Бразилии, я почувствовал: что бы ни случилось, но, в конце концов, мы победим, потому что рабочие разных стран хорошо понимают друг друга… Мы сильнее! – И с нами Советский Союз, – сказал Аполинарио. – И отец наш, Сталин… – Сержант радостно улыбнулся, произнося любимое имя. – Да, мы должны победить. Звуки аккордеона теперь раздавались ближе: они доносились с дороги, на которую вскоре вышли Аполинарио и его солдаты. Группы республиканцев направлялись к той же деревне, что и они. Сержант чех принялся разыскивать своих товарищей по батальону. И, не найдя их, возвратился к Аполинарио. – Пойду с вами. Может быть, найду своих в деревне. Они-то наверняка считают меня убитым… В деревне, переполненной солдатами, им был отведен домик. Старый крестьянин с морщинистым лицом, показывая в широкой улыбке свой единственный зуб, сказал им голосом, полным отеческой нежности: – Добро пожаловать, это – дом испанца. Добро пожаловать, я попотчую вас вином. Моего вина не пить германским убийцам, хоть они и побывали здесь и искали его повсюду. Но ничего не нашли: вино я хорошо спрятал, денег у меня нет, а мой внук – единственное мое сокровище – солдат республиканской армии. Сержант чех распрощался и опять отправился на поиски своего батальона. Аполинарио поручил солдатам приготовить с помощью старика крестьянина какой-нибудь ужин и вышел получить распоряжения командования. Когда он возвратился, его уже дожидались с импровизированным ужином. Старый крестьянин с гордостью показал бутыль вина. Едва принялись за еду, как в дверях опять появился сержант чех. – Ну что? Так и не нашли своих? – Садитесь лучше с нами ужинать… – Нет, я их отыскал. Но я вернулся… – тут он улыбнулся своей доброй улыбкой, – потому что нашел у одного солдата газету, которую дал ему сегодня утром. Он хранил ее в кармане мундира и еще не удосужился прочесть. Я принес ее капитану… Аполинарио встал, схватил газету. – Спасибо, большое спасибо, дорогой… Он снова сел и принялся за чтение. Это была длинная корреспонденция, присланная из Сантоса одним испанским журналистом, – обстоятельное изложение хода забастовки с самого начала. В ней рассказывалось о первых арестах после отказа докеров грузить на германский пароход кофе для Франко. В корреспонденции описывалось, как бастующие потребовали освободить арестованных, рассказывалось о вмешательстве министра труда, об убийстве Бартоломеу, о зверской расправе полиции с рабочими, о массовых увольнениях и арестах, о вмешательстве федерального правительства, об использовании солдат в качестве грузчиков и о бунте солдат против незаконного приказа полковника-интегралиста, по которому было расстреляно трое солдат, о принуждении грузчиков с помощью военной силы возвратиться на работу. Подчеркивалось, как велика опасность, нависшая над головами арестованных, против которых затевался судебный процесс. Испанским докерам угрожала высылка к Франко. Заключительные фразы этой корреспонденции были исполнены оптимизма: забастовка хотя и была подавлена, но явилась доказательством того, что бразильские трудящиеся стоят на стороне испанского народа, и они показали это своими действиями. С середины статьи Аполинарио начал читать вслух. Солдаты слушали в молчании эти пришедшие издалека известия более чем двухмесячной давности. Выражение этой бразильской солидарности, закрепленной кровью и жертвами, лишний раз подтверждало правоту их дела; оно словно вознаграждало их за последние дни жестоких боев за эту высоту и воодушевляло на новые битвы. Мало-помалу они перестали есть и внимательно слушали. Сержант чех, которому старый крестьянин налил стакан вина, слушал, прислонившись к двери. Когда капитан кончил – у него даже несколько устал голос от чтения корреспонденции об этих уже отошедших в прошлое событиях, – сержант Франта Тибурек, чехословацкий шахтер, поднял свой стакан с вином. – Товарищи! Выпьем за здоровье бразильских рабочих. Выпьем в память тех, кто пал в этой забастовке. Поднялся парагвайский крестьянин. – И за здоровье Престеса, нашего дорогого товарища! Аполинарио тоже поднял свой стакан; в левой руке он держал газету. Да, это была единая борьба: в Бразилии она выливалась в движение против диктатуры «нового государства»; в Чехословакии – против угрозы Гитлера; в Испании – против вооруженной реакции. И в мундире капитана испанской республиканской армии он оставался солдатом бразильской коммунистической партии, какими были грузчики Сантоса. Здесь, после боя в затерянной испанской деревушке, он вдруг встретил свой народ, своих бразильских товарищей, поднявшихся на забастовку, терзаемых полицией, но не побежденных. – За ваше здоровье, друзья!.. – проговорил он прерывающимся от волнения голосом. 25
Жоан после окончания забастовки еще некоторое время оставался в Сантосе. Так решило руководство, несмотря на то, что он был очень нужен и в Сан-Пауло, где состав секретариата уменьшился из-за отъезда Руйво в Кампос-до-Жордан, а перед руководством партии возникли новые задачи, особенно после измены Сакилы. Но как в такой момент покинуть Сантос – один из бастионов партии? Надо было поддержать бодрость в рабочих – многие из них упали духом: несмотря ни на что, пароход, в конце концов, был погружен. Работу выполнили солдаты; портовые грузчики, невзирая ни на какие угрозы, отказались это делать. В тот день, когда нацистское судно с грузом кофе в трюме дало сигнал и отчалило, некоторые из докеров плакали в бессильной ярости. В порту царила атмосфера ненависти и уныния, мрачная и тяжелая. До глубины души были возмущены рабочие, что им пришлось и еще приходится так страдать, что их товарищи сидят в тюрьмах и их будут судить, что испанцам угрожает высылка, что многих уволили с работы. А кое-кто испытывал чувство глубокого разочарования и задавал себе вопрос: какой смысл было месяц бастовать, вести бои, голодать самим и слышать плач голодных детей, когда много товарищей убито, ранено или замучено в полиции? Какой смысл во всех этих жертвах, если в конечном итоге кофе все же был отправлен на германском пароходе и достанется фалангистам? «Для чего?» – шопотом спрашивали друг друга в порту, еще охраняемом солдатами. Жоан остался, чтобы укрепить в рабочих ненависть к врагу, подбодрить их и рассеять чувство разочарования. За время забастовки партийная организация значительно выросла не только за счет портовых грузчиков, докеров и носильщиков, но и за счет рабочих фабрик и заводов, где развернулось движение солидарности с докерами. В рабочих кварталах и на фабриках возникали новые ячейки; уже существовавшие пополнялись новыми членами. Но вся эта работа сведется к нулю, если упадок духа сломит боевую готовность рабочих и их ненависть к кровавой реакции. Дни после забастовки были для Жоана самыми трудными. Надо было поднять дух не только у товарищей по партии, но и у всех рабочих; надо было доказать им, что эта забастовка, хотя и подавленная правительством, была победой – первой крупной победой бразильских трудящихся над «новым государством». Фашистской конституции, запрещавшей забастовки, был нанесен первый серьезный удар: забастовкой в Сантосе рабочие показали, что они не допустят применить конституцию на практике. Правительство после неудачных переговоров прибегло к самому грубому насилию, чтобы подавить движение. Однако в итоге забастовка сыграла свою положительную роль: забастовка в Сантосе вызвала ряд других крупных и малых стачек по всей стране, пробудила великое чувство солидарности между рабочими Бразилии, чувство солидарности с республиканской Испанией. И не отголоском ли героизма забастовки был манифест в поддержку испанских республиканцев и в осуждение Франко, выпущенный писателями и деятелями искусства в Рио-де-Жанейро? Забастовка показала, что рабочий класс не намерен допустить фашизацию страны, не принимает конституцию 10 ноября, осуждает внешнюю политику бразильского правительства – политику сотрудничества с фашистскими странами, сближения с Гитлером и Муссолини. Рабочий класс, выступив в борьбе за демократию с политической забастовкой, не сдаваясь, продержался целый месяц. Значение этого понимал не только Жоан: это понимало и правительство, поставившее перед собой задачу задушить коммунистическую партию. Однако многие рабочие не уяснили себе значения забастовки; они видели только, что забастовщикам не удалось помешать погрузке нацистского парохода, что многие товарищи арестованы и многие уволены из доков. Всего важнее, думал Жоан, чтобы товарищи по партии правильно оценили роль забастовки; даже некоторые коммунисты поддались чувству разочарования. В листовках, присланных из Сан-Пауло, очень хорошо отпечатанных и подписанных Сакилой и его приверженцами, резко критиковалась политика партии и ее руководство забастовкой. Эти листовки распространялись в порту. Они были выпущены якобы от имени нового руководства партии в районе Сан-Пауло. В них осуждались забастовки как тактическое средство борьбы против «нового государства», непригодное для настоящего момента. Листовки призывали пролетариат к союзу с «демократическими элементами Сан-Пауло», чтобы путем государственного переворота низложить Жетулио Варгаса. Рядовые члены партии, сбитые с толку и этими листовками и тем, что Сакила выступал во главе нового руководства и с новым политическим курсом, обращались за разъяснениями к руководителям местной партийной организации. Сакила был хорошо известен в партии, и имя его еще пользовалось некоторым авторитетом. Все это делало совершенно необходимым присутствие Жоана в Сантосе и после окончания забастовки. Созвать в эти дни собрание было нелегко. Несмотря на то, что забастовка кончилась, полиция по-прежнему оставалась настороже. Сантос кишел сыщиками из Сан-Пауло и даже из Рио: опасались новых волнений в порту; следили и за солдатами воинских частей, расположенных в городе, потому что не доверяли и им; разыскивали руководителей портовых рабочих, Освалдо и Аристидеса, избежавших ареста. Партийная работа шла вяло, и временами Жоан, обычно хорошо собой владевший, был близок к отчаянию. Он знал, что листовки группы Сакилы ходят по рукам, создавая путаницу в умах членов партии и беспартийных рабочих. Он видел, что над деятельностью партийной организации нависает угроза. Раньше, когда он подготовлял забастовку и руководил ею, главное заключалось в агитации, в расширении организационной стороны дела; тогда легко было вести пропаганду, вдохновлять людей на боевые подвиги. Теперь же ему предстояла совсем другая, непохожая на прежнюю работа: ему предстоял кропотливый, требовавший выдержки труд, надо было давать разъяснения, не имея перед собой такой непосредственной цели, какой раньше была забастовка. Но Жоан с жаром занялся этим делом и постепенно ему удалось изменить обстановку. Он не ходил в порт, не бродил около складов, наполненных ящиками и тюками, не стоял у причалов с их подъемными кранами, не слышал полных тоски песен моряков, но именно он был причиной тому, что среди грузчиков рассеялась тяжелая атмосфера смятения и подавленности. Прежде всего он встретился с теми руководителями местной партийной организации, кто остался на свободе. Он подробно объяснил им значение забастовки, разоблачил Сакилу и его группу, указал на перспективы, раскрывающиеся перед забастовочным движением, и не расстался с ними, пока не почувствовал, что ему удалось их убедить, вселить уверенность, необходимую для выполнения заданий партии. Затем он поручил им провести беседы с остальными товарищами в низовых организациях. Не удовольствовавшись этим, он сам пошел в ячейки и провел там работу – длительную, трудную и опасную; снова обсуждал, объяснял, агитировал, убеждал. С некоторыми товарищами, в особенности с теми, кто вступил в партию во время забастовки, будучи захвачен развернувшейся тогда борьбой, и теперь, не зная, что делать, чувствовал упадок духа, ему пришлось вести отдельные беседы. Это были дни долгих разговоров, терпеливых разъяснений. Из Сан-Пауло прибыли материалы о Сакиле, присланные руководством партийной организации: в них сообщалось об исключении из партии Сакилы и всей его группы. Жоан решил распространить этот документ не только среди партийных товарищей, но и всех рабочих. Надо было ознакомить с этой директивой партии всю массу, потому что не только порт, но и весь город был наводнен листовками Сакилы – листовками, отпечатанными на хорошей бумаге и в хорошей типографии. Как только в Сантосе появились первые листовки Сакилы, Жоан тотчас сказал Освалдо: – Где это видано, чтобы материалы нашей партии были так хорошо отпечатаны? – Он слегка улыбнулся, и в этой улыбке выразилось его презрение к Сакиле. – Любой товарищ сразу поймет, что эти листовки печатались не в партийной типографии. – Как знать? Может быть, их смастерила сама полиция… – Должно быть, Сакила использовал типографию газеты «А нотисиа». За его спиной стоят армандисты. Он делает все, чтобы втянуть партию в их авантюру. В сущности, он всегда желал одного: вести рабочий класс на буксире у паулистской буржуазии… Он предатель! – Полицейский… – заметил Освалдо. – От таких людей можно ожидать всего. Враги пускают против нас в ход все: начиная с резиновых дубинок для избиения заключенных и кончая такими типами, как Сакила, обманом пробравшимися в партию. Местные партийные ячейки единодушно одобрили решение сан-пауловского комитета об исключении из партии Сакилы и его группы – это была первая крупная победа Жоана. Кроме того, ему удалось снова наладить повседневную работу, привлечь к ней новых членов, вступивших в партию за время забастовки. Он старался поднять движение солидарности с арестованными и находящимися под следствием забастовщиками. Удалось также наладить сбор средств для заключенных. Постепенно обстановка в порту изменялась; восстанавливались тот боевой дух и революционная решимость, что закрепили за Сантосом славу «красного порта». Через двадцать дней после окончания забастовки Жоан уже имел основания считать главную опасность преодоленной. Вопреки мнению полиции, рабочие не побеждены, партия в Сантосе не задушена. Вместе с Освалдо и другими руководителями он разработал план действий: было решено развесить в порту плакаты и лозунги с требованием освободить заключенных. Как-то утром из Сан-Пауло прибыл товарищ и вручил Жоану записку от Зе-Педро. Это был тот самый шофер грузовика, который перевозил больного Руйво, – надежный товарищ и к тому же не находившийся на примете у полиции. Выпив стакан воды, он ждал, пока Жоан прочтет записку. Шофер заметил, как по мере чтения лицо Жоана становилось все более встревоженным и печальным. – Когда возвращаешься, Педро? – В голосе Жоана слышалась скорбь. – Думаю, завтра, пораньше, на заре. Только надо заправить машину. Мне сказали, что, возможно, и вы со мной поедете. Самое лучшее – с утра, на дороге меньше полицейских… Жоан снова прочел записку. И вдруг взял себя в руки: его голос на этот раз звучал как обычно, трудно было уловить в нем нотки волнения и горя. Лицо Жоана приняло свое постоянное, несколько суровое выражение. И только глаза оставались печальными и были устремлены в одну точку, словно старались разглядеть что-то далекое. – Нет, я не поеду. У меня еще здесь много дел. Подожди, я сейчас напишу ответ. Ему очень хотелось расспросить товарища, но он понимал, что это бесполезно: Педро, разумеется, не был в курсе дела. Жоан писал записку почти машинально: все его помыслы сосредоточились на ребенке, который так и не появится на свет; на ребенке, которого он так ждал, о котором столько мечтал… А Мариана, бедняжка, как она, наверно, страдает… Мариана упала, выпрыгнув на ходу с трамвая: ей показалось, что ее преследует шпик. Она упала неудачно, началось сильное кровотечение, произошел выкидыш, ребенок погиб. Теперь ей уже лучше – кровь удалось остановить, – но больная находилась в подавленном состоянии. Об этом Зе-Педро писал Жоану и добавлял, не только от себя, но от имени всего партийного руководства, что теперь Жоан может возвратиться в Сан-Пауло, поскольку главное в Сантосе он уже выполнил. Однако в письме Зе-Педро была приписка рукою Марианы – всего-навсего одна строчка неровным почерком больной: «Не приезжай, если у тебя там дела. Мне лучше, могу подождать». «Славная, мужественная женщина!» – подумал Жоан, передавая шоферу записку для Зе-Педро. Она умела для партии поступиться личными интересами. Жоан ясно представлял, насколько он нужен сейчас Мариане – он чувствовал это по себе: ему необходимо было быть вместе с ней, найти в ее любви поддержку в их несчастье. Будь они вместе, им было бы легче обоим. Вот почему в первую минуту он хотел вернуться, чтобы успокоить жену, ободрить ее и найти поддержку в ее ласке. Но приписка, сделанная рукой Марианы, напомнила ему, что работа в Сантосе еще не закончена, что время для отъезда еще не наступило. И как ни тяжело ему было оставаться здесь, в полном одиночестве переживая мучительное известие о гибели страстно ожидаемого ребенка, – он должен был поступить именно так… О ребенке он мечтал с очень давних пор: еще до того, как женился, до того, как познакомился с Марианой, до того, как полюбил какую-нибудь женщину. Ребенок мог бы внести радость и полноту жизни в его неспокойное, постоянно подвергающееся опасностям существование. Когда во время забастовки Жоану сообщили о беременности Марианы, он почувствовал в себе прилив утренней бодрости; исчезли следы утомления, работа представилась ему легкой, бессонные ночи протекали незаметно. А в минуты усталости он поддерживал себя мечтами о том, как будет нянчить своего ребенка, баюкать его на руках, когда тот станет плакать. Он будет радоваться его детскому лепету, его любознательности, с какой он начнет вглядываться в окружающий мир… Затем Жоан представлял себе ребенка уже подросшим: он выговаривает первые слова на забавном детском языке, который так ему нравился, делает свои первые, неуверенные шаги… Жоан так много думал о ребенке, что временами ему казалось, будто этот ребенок уже существует, находится с ним. С ним – ребенок и Мариана; в его мыслях, полных безграничной нежности, мать и сын сливались воедино. К счастью, Мариана была вне опасности; только удручена и опечалена. Ведь она тоже мечтала о ребенке, которого носила под сердцем. Жоан вспомнил один вечер, когда во время забастовки он приехал в Сан-Пауло встретиться с членами секретариата. Это был необыкновенный вечер, один из тех редких в жизни вечеров, когда люди действительно счастливы: здесь были радость встречи с женой после разлуки и счастье от сознания, что растет новая жизнь, созданная их любовью, призванная дополнить собою любовь Жоана и Марианы. Она показывала мужу башмачки, сделанные ею в свободные минуты; рубашечки, которые шила ее мать, используя куски ткани, приносимые из дома ее сестры. Они тогда долго говорили о ребенке; мысли о нем сливались с их мечтами, надеждами, с их борьбой. Как должна была сейчас страдать Мариана! И тем не менее воля члена партии победила горе, и она нашла в себе силы просить его оставаться в Сантосе и выполнять возложенное на него партией задание. После ухода шофера Жоан еще долго сидел погруженный в свои мысли. Случившееся с Марианой напомнило ему об одном деле, которое он все откладывал со дня на день, – настолько оно было для него мучительно тяжело. Он должен посетить негра Доротеу, поддержать его в тяжелом горе. Давно надо было сходить к негру, сведения о котором он получал от Освалдо. Но только теперь он ясно представил себе, как должен был страдать Доротеу. И Жоан решил отправиться к нему в тот же вечер вместе с Освалдо. Разыскиваемый полицией, Доротеу скрывался в Сан-Висенте, где его навещал кое-кто из товарищей. Они пытались пробудить в нем интерес к работе партии. Рассказали об окончании забастовки, о новых задачах, возникших перед партией после исключения раскольнической группы Сакилы. Но негр был ко всему безучастен, ко всему равнодушен. Первые дни после смерти Инасии он жил, как оглушенный: разговаривал сам с собою, повторял бессмысленные фразы, собирался убить полицейских, чтобы отомстить за смерть Инасии. Пришлось не пускать его в порт и укрыть подальше от мест, один вид которых вызывал у него мучительные воспоминания. О нем, по поручению партии, заботился Освалдо. Но Доротеу слушал его и не понимал, ни на что не реагировал, будто в жизни его уже больше ничто не занимало. Только узнав, что германский пароход был погружен с помощью солдат, он пробормотал: – И ради этого она умерла… Жоан уважал Доротеу. Ему нравились его веселость, доброта, преданность делу. Будучи сам застенчив и сдержан, Жоан радовался безудержному веселью негра, поэтическому восприятию мира, которое в нем чувствовалось, лиричности его игры на гармонике. Жоан утверждал, что революция для Доротеу казалась празднеством, – именно так он ее воспринимал. Уже на другой день после стычки на похоронах Бартоломеу Жоан решил, что нужно посетить негра. Однако все время откладывал: было много более важных и неотложных дел. И вот теперь, после получения известий из Сан-Пауло, Жоан спросил себя: не откладывал ли он эту встречу бессознательно, не решаясь оказаться лицом к лицу с безысходной болью негра? Теперь-то он понял, что не было у него дела важнее и неотложнее, как пойти к товарищу Доротеу, помочь этому человеку, так жестоко сраженному жизнью. «Самое ценное в жизни – это человек», – повторял он себе. Раз он не может поехать в Сан-Пауло и утешить Мариаиу, он сегодня же пойдет к Доротеу. За долгие годы жизни революционера Жоан научился владеть собой. Некоторые товарищи говорили, что он «толстокожий», ему чужда всякая чувствительность. И все же он ощутил, как увлажнились его глаза, когда в маленькой убогой комнатке Доротеу обнял его и прижался к нему, даже не пытаясь скрыть своих слез. Негр тоже с нетерпением ждал того времени, когда у него будет ребенок, и теперь никогда его не дождется. Инасия, как и Мариана, была беременна и тоже ждала ребенка. Жоан стиснул зубы, чтобы не выдать своего волнения, но все же голос его дрожал, когда он тихо произнес: – Никто не отдал забастовке больше, чем ты, Доротеу. Ты отдал свою жену и своего ребенка. Что я могу тебе сказать? Ты знаешь, все мы глубоко сочувствуем тебе… Негр закрыл лицо своими огромными ладонями. Жоан продолжал: – В Испании тоже умирают женщины и дети. Мы выполняем свой долг. Из этих смертей родится мир для всех. А мы не такие люди, чтобы забиваться в угол и там плакать. Кровь наших близких не требует слез. Ты это знаешь. И не плакать должны мы, чтобы оказаться достойными их… Из всех известных ему в партии людей Доротеу больше всего уважал Жоана. Престеса он никогда не видел, не знал никого из руководителей Национального комитета; Жоан казался ему воплощением партии. И, может быть, слова Жоана были первыми человеческими словами, пробившими скорбь, которую наложила смерть Инасии на душу негра. – Если бы еще мы одержали верх… Но ведь кофе отправлен в Испанию. Чего мы добились? И ради этого она умерла! – Я знаю, что ты переживаешь. Знаю, что тебе тяжело. Но коммунист – это коммунист. И поэтому в самые трудные минуты жизни он должен быть решительнее и мужественнее, чем любой другой. – Это легко сказать. Но когда приходится самому… – Возьми пример с Престеса: его жена находится в концентрационном лагере в Германии, а это – хуже смерти. Его семья рассеяна по свету. Его дочь родилась в тюрьме[132]; она во власти фашистов, собирающихся сделать из нее такое же чудовище, как они сами. И посмотри, как держит себя Престес. – Но ведь это Престес. Потому он и Престес. Не всем под силу быть таким, как он. – Он – пример для всех нас, для бразильских коммунистов. Наш долг – быть такими же мужественными, как и он. Доротеу взглянул на Жоана, увидел в его глазах выражение скорби и почему-то вспомнил тот вечер, когда Жоан сказал ему, что и его жена ожидает ребенка. Тогда они оба радостно смеялись, разговаривали о детях, которые должны появиться на свет. Но ребенок его, Доротеу, не родится: ребенок и жена погибли под копытами коней. Жоану легко говорить слова утешения: его ребенок растет в чреве матери и через несколько месяцев отец будет держать его у себя на руках. Одно дело – скорбеть о других, совсем другое – лишиться всего, что у тебя было в жизни… – Я потерял все, что имел… – А партия, а борьба за наше дело, Доротеу? – Наше дело? Я потерял все сразу, Жоан: потерял Насию, ребенка, даже забастовку… Если бы хоть пароход не увез этот проклятый кофе для фашистов… – Что же ты думаешь? Разве забастовка была конечной целью нашей борьбы? Разве она – сама по себе цель? Нет, забастовка – лишь средство в борьбе. Мы – Освалдо, я и остальные – уже разъясняли это членам партии и рабочим в порту. Мы – партия для осуществления революции. Выигранная или проигранная забастовка – это лишь очередной шаг на пути к революции. И забастовка, которую ты называешь проигранной, была огромным шагом вперед… Негр заинтересовался. Жоан долго и терпеливо разъяснял ему то, о чем уже говорил многим. Время от времени Доротеу прерывал его каким-нибудь вопросом. На лице Освалдо проступил намек на улыбку: он чувствовал, что негр начинает возвращаться к жизни. – Теперь только начинается главная работа. Нам предстоит много дела! Что мы должны делать? Использовать все, что нам дала забастовка. Хорошенько укрепить партийную организацию. Поднять кампанию солидарности с арестованными. Подготовить условия для еще более широкого выступления. Жоан видел, что в Доротеу борются между собой пробуждающийся интерес к политической жизни и боль от безвозвратной утери Инасии, от жестокой гибели его мечты о ребенке. Жоан дружески положил руку на плечо негра. – Что сказала бы Инасия, увидев тебя таким: лишившимся мужества, впавшим в отчаяние, даже не пытающимся сделать хотя бы небольшое усилие, чтобы преодолеть это состояние? – Жоан проговорил все это как бы для самого себя. – Она была добрая и веселая – в жизни я не встречал людей жизнерадостнее… Радости в ней было больше, чем во всех нас, вместе взятых… Что бы она сказала, Доротеу? Инасия осталась бы недовольна, я в этом уверен… – Ее радость была моей радостью… – Что сказала бы тебе Инасия, будь она сейчас здесь, на моем месте? Она сказала бы: есть еще многое, что надо сделать; коммунист не имеет права позволять страданию завладевать им, чем бы оно ни вызывалось. – Тебе легко это говорить, товарищ: ты не потерял ни жены, ни ребенка – твоя жена ждет ребенка… – Нет. Я имею право так говорить. Я знаю, что это значит: моя жена тоже потеряла ребенка, которого ждала. – Проговорить последние слова ему стоило огромного усилия, это были слишком интимные чувства, он не хотел выставлять их напоказ. – Что такое? – спросили одновременно Освалдо и Доротеу. – Как это случилось? Когда? – Два дня тому назад, в Сан-Пауло. Она упала, спрыгнув с трамвая. Подумала, что за ней гонится шпик, и, чтобы ускользнуть от него, спрыгнула на ходу с трамвая. Упала… и в результате выкидыш… Жоан больше не смотрел на негра Доротеу, глаза его заволокло пеленой скорби. Доротеу поднялся, протянул руки. Но Жоан, не видя его, закончил тихим и почти спокойным голосом: – Поэтому я понимаю сам, как иногда бывает трудно… Доротеу сжал его руку. – И ты не вернулся в Сан-Пауло? Не уехал повидаться с женой? – Я узнал об этом только сегодня. Но у меня еще есть здесь работа. Когда ее кончу, возвращусь… – Жоан продолжал своим обычным, несколько суховатым тоном. – Сказать по правде, в первую минуту я подумал, что надо ехать. Наверное, я ей нужен, бедняжке. Но в письме товарища была ее приписка, чтобы я приехал только в том случае, если моя работа в Сантосе закончена… Если бы Инасия могла, она написала или сказала тебе то же самое… В голосе негра послышались рыдания: – Прости, товарищ Жоан… Мне еще очень далеко до настоящего коммуниста. Я здесь похоронил себя в тоске по Насии, по ребенку. Ты прав… Что она сказала бы, увидев меня таким? – Он выпустил руку Жоана, сделал несколько шагов по комнате и заговорил, стоя спиной к товарищам: – Еще в канун ее смерти мы пообещали один другому, что, если один из нас умрет раньше, другой не станет плакать, а будет продолжать работу для партии… И я про все это забыл, думал только о себе: что ее нет больше со мной, что никогда не родится ребенок… – Он повернулся к Жоану. – А ты, у кого столько же прав, сколько и у меня, чтобы забиться в угол со своим горем, даже не поехал к своей жене, а остался здесь и пришел поддержать меня… Хорошо, что я все это понял. Я еще недостоин партии… – Он закончил почти шопотом: – и Инасии… – Чего мы добьемся слезами? – сказал Жоан. – Столько женщин, столько детей находится под угрозой гибели… Если мы будем медлить, много еще жертв придется оплакивать на свете. Надо стиснуть зубы и взяться за дело… – Я хочу завтра же вернуться к работе, – попросил Доротеу. – Наверное, плохо сейчас в порту, не правда ли? Люди в унынии… – Теперь уже лучше, – ответил Освалдо. – Но первые дни было очень плохо. Недоставало тебя – ты мог бы нам помочь. – Он еще нам во многом поможет. – И Жоан, несмотря на свою печаль, улыбнулся Доротеу. – Только не знаю, стоит ли ему оставаться в Сантосе. Он на примете у полиции и, кроме того… Одним словом, лучше, чтобы Доротеу на время уехал отсюда и действовал в другом месте. Он даже не может возвратиться в доки – ведь он уволен. Я поговорю об этом с товарищами в Сан-Пауло. – Но я хочу опасной работы. Какое мне дело, что… – Что такое? Чего ты хочешь? Вернуться к партийной работе или кончить жизнь самоубийством? – Ты прав, товарищ. Буду делать, что вы мне скажете. Я еще хорошенько и сам не понимаю, что делаю и что говорю – совсем полоумный… Но обещаю взять себя в руки… Жоан опять улыбнулся; теперь и он страдал меньше, точно этот разговор принес облегчение и ему. – Только сама жизнь нас учит и формирует. Коммунистами не рождаются… Жоан встал и собрался уходить. Перед уходом он сказал Доротеу: – Знаешь, служащие отеля назвали свою партийную ячейку именем Инасии. Теперь тебе следует работать еще активнее: и за себя и за Инасию, память о которой принадлежит всей нашей партии… – Она была такая энергичная… – вспомнил Освалдо. И они втроем снова представили себе ее, будто она находилась здесь, с ними, в этой убогой комнатке; она, прекрасная негритянка Инасия – цветок порта Сантоса. Для Освалдо она представилась пляшущей на белом песке побережья в ту ночь, когда они фонариками приветствовали советский пароход, бросивший якорь на рейде. Жоан увидел ее – только недавно принятую в партию неутомимую активистку – собирающей деньги среди служащих отелей на поддержку бастующих, подбрасывающей нелегальную листовку в номер министра труда, проскользнувшей между лошадей, чтобы поднять бразильский флаг. А Доротеу увидел ее, какой она была в час своей кончины: улыбавшейся, несмотря на боль, и старавшейся его ободрить. Как он мог все бросить, от всего бежать, забыть о партии, погрузиться в собственную скорбь, когда она, его Инасия, была сама радость, сама надежда, сам образ революционной борьбы? – Я в распоряжении партии, товарищи… Спустя несколько дней на улицах, примыкавших к порту Сантоса, появились надписи и флаги. На стенах домов выделялись лозунги, на электрических проводах развевались красные флажки. Плакат, дерзко прикрепленный на углу улицы, требовал освобождения арестованных забастовщиков. Сыщики переполошились. В столицу штата Барросу была послана телеграмма. Целый день полиция занималась тем, что срывала флаги, соскабливала со стен надписи. Грузчики, докеры, носильщики, матросы с грузовых и пассажирских судов украдкой улыбались, глядя на суматоху среди полицейских, и многие из них по окончании работы отправились в таверны выпить в честь этого дня. Порт Сантоса сверкал под солнцем. Над морем носило сорванный ветром красный флажок. В этот же вечер Жоан выехал в Сан-Пауло. Глава пятая  1
Мужчины стремились к ней: их влекло ее стройное тело, ее лицо голубого фарфора, ее хрупкая обольстительная красота. Среди них были и циники вроде режиссера варьете: после дебюта он пригласил ее с ним поужинать; тут же, в варьете, посетители проводили время за столиками, пока длилось музыкальное обозрение с участием певцов, танцоров, «импортированных» из Парижа или Нью-Йорка. Её выступление в муниципальном театре («Жандира – таинственная индейская танцовщица, обнаруженная в долине реки Салгадо», – так возвещали о ней газеты), рекламная кампания, поднятая Шопелом, доставили ей этот контракт и приглашение принять участие в съемке бразильского фильма. Не такой представлялась в мечтах Мануэлы карьера танцовщицы, но Пауло легко удалось уговорить ее принять оба предложения. – Это страна дикарей, девочка… У нас даже нет постоянной балетной труппы… Как же ты собираешься прожить, если не станешь танцевать в варьете? – И, откладывая в сторону томик сюрреалистских стихов, который он перелистывал, добавил: – Что ты можешь делать, кроме этого? Давать раз в год одно балетное представление здесь, другое – в Сан-Пауло, вот и все… Даже будь ты настолько богата, чтобы себе это позволить, за год тебя все равно забудут. В Бразилии, любовь моя, тот, чье имя не стоит постоянно на афишах, скоро выходит в тираж… Постарайся использовать все, что тебе предлагают: варьете, кино, театр, фотографии для рекламы. В этой стране надо делать все сразу. Здесь нет места для специализации: ты артистка – танцуй, пой, играй! Посмотри на нашего Шопела: живи он только своей поэзией, он был бы нищим, ему пришлось бы просить милостыню на церковной паперти… А теперь он набивает себе карманы деньгами, служит как подставное лицо у Коста-Вале. А я сам? Почему я покорно, по часам, хожу на службу в Итамарати? Ты думаешь, я родился для того, чтобы стать маленьким государственным чиновником? Ты еще счастлива, потому что можешь оставаться в сфере своего искусства… Подписывай контракт, девочка, подписывай без промедления, пока они не раздумали!.. – И он снова взял томик стихов, даже не дожидаясь ее ответа. С циниками, которые, подходя к Мануэле как к доступной женщине, оскорбляли ее своими предложениями, было утомительно и тягостно; с трудом выслушивая их, Мануэла закипала гневом – бурным гневом робких – и отвечала с неожиданной резкостью. Так она поступила с режиссером варьете; после своего выступления – она имела большой успех и должна была бисировать два своих танца – режиссер пригласил ее поужинать. Вечер ее дебюта в варьете совпал с приемом в британском посольстве, на котором Пауло не мог не присутствовать, и она приняла предложение режиссера главным образом для того, чтобы скоротать время и не слишком долго ждать дома Пауло. Ей так хотелось рассказать ему о своем успехе в варьете, принесшем ей самой настолько мало радости, что эта радость скорее походила на печаль… Режиссер – бывший журналист, который провел несколько лет в Европе, где он всячески изворачивался, чтобы заработать на жизнь, – заказал шампанского. За ужином он хвалил ее танцы, упомянул о возобновлении контракта, когда закончится ее испытательный стаж – через три месяца. – Если, конечно, вы будете паинькой… Мануэла не поняла. – Что значит – паинькой? – Не прикидывайтесь простушкой, со мной этот номер не пройдет: я старая обезьяна, воспитан в парижской школе… Мануэла начала понимать. Ее собеседник наклонился к ней через стол, зрачки его расширились. – Сегодня нам здесь уже делать нечего… Возьмем такси, и через пять минут будем у меня… Мануэле захотелось надавать ему пощечин. – Замолчите, негодяй! С пылающим лицом она вскочила из-за стола и убежала за кулисы. В артистической уборной у нее хлынули слезы. Нет, она никогда больше сюда не вернется, поклялась она самой себе. Она была оскорблена до глубины души: как смел этот субъект принять ее за продажную женщину? Может быть, ему известно, что она живет с Пауло, не будучи его женой?.. На следующий день – это было воскресенье – Шопел пришел к Пауло позавтракать и сразу заметил, что Мануэла печальна. – Что случилось с нашей Айседорой Дункан? Почему твои прекрасные очи, созданные творцом для услаждения нас, бедных грешников, подернулись грустью, о наша Павлова? Пауло тоже заинтересовался: – Что с тобой? – И так как она не отвечала, стал настаивать: – Расскажи, что с тобой. Я не переношу печальных лиц… Это мне испортит весь день… Говори сразу… Мануэла не смогла сдержать слез; по ее лицу потекли прозрачные кристальные капли. Пауло рассердился: – Тебя никак не поймешь… Никогда нельзя предугадать твоего настроения. В самые приятные моменты ты начинаешь плакать. Это ужасно… В эту минуту она почти ненавидела Пауло. И это чувство заставило ее с возмущением рассказать о вчерашнем ужине. Она была настолько оскорблена, что решила отныне все покончить с варьете – ее ноги там больше не будет. Она говорила, закрыв лицо руками, сгорая от стыда. Но отняла от лица руки, когда услышала оглушительный хохот Шопела, от которого содрогались его жирные щеки. Пауло тоже улыбался, но подошел к ней, обнял и погладил по волосам. – Моя бедная маленькая дурочка, ты не привыкла к нравам больших городов и артистической среды… Не плачь из-за этого, глупая. Тебе не раз придется выслушивать такие предложения. Их будет столько, что на все нехватит слез; достаточно сказать «нет» и на этом покончить. Ты красива, пользуешься успехом у мужчин; их предложения – это своего рода дань твоей красоте… Принять их или отвергнуть – уже зависит от тебя самой… – Отвратительная дань, – пробормотала Мануэла. – Неужели я похожа на падшую женщину? – Нет, ты самая невинная дева из всех, кто еще остался на грешной, развращенной земле. Девственный лик, невинные очи… – продекламировал Шопел. – Так почему же он осмелился? – Вот почему, – ответил поэт. – Ты сама невинность. Мануэла. Ничего не знаешь о жизни и о нашей благословенной артистической среде… Так знай, королева танца, и никогда не забывай: литература и искусство – синонимы проституции. Искусство проституировано. Что такое артистка театра? Что такое писательница? Что такое певица, танцовщица? Никто не поверит, что они могут быть добродетельны, не пойдут с первым, кто их пригласит… И с мужчинами то же самое: в той или иной форме, но мы неизменно проституируем наши таланты. Женщины покупают ценой собственного тела контракты, хвалебные рецензии, успех; а мужчины… Ах, Мануэла! С мужчинами дело обстоит еще хуже… Литературный критик изведет все лучшие эпитеты на восхваление самой отвратительной книги, если она написана влиятельным политическим деятелем или миллионером. Поэт кончает, как я: погружается в коммерцию и пишет стихи для газетной рекламы. Романист посвящает свои книги государственным деятелям, надеясь получить от них теплое местечко. Удел художника – так или иначе проституироваться, – этого никому не избежать. Ты уже проституируешься тем, что танцуешь в варьете. Разве ты создавала свои танцы для варьете, где люди собираются, чтобы развлекаться и пьянствовать? Так чему же ты удивляешься, если… – Это ужасно… Поэт снова весело расхохотался. – Ничего в этом нет ужасного, о прекраснейшая из всех Мануэл! Артист – выше посредственной будничной жизни. Он подобен облаку, парящему над серой повседневностью. Узкие моральные правила писаны не для нас. Наше призвание – писать, петь, танцевать, играть на сцене, рисовать для тех немногих, кто способен оценить и оплатить создание нашего таланта. Мы – своего рода предметы роскоши, и вместе с тем в нас есть нечто от цирковых гаеров. Но в то же время у нас есть и свои привилегии: мы продаем себя по собственному усмотрению, и в этом нам никто не мешает. Напротив, здесь даже таится залог нашего успеха… Когда я был всего лишь поэтом, моя маленькая Мануэла, и питался черствым хлебом, который был так горек, будто его замешивал сам дьявол, мои стихи читали лишь немногие друзья, такие, как Пауло. А теперь, когда я пустился в большую коммерцию, вся Бразилия заговорила о моих стихах. Так было всегда. В старину художники и писатели состояли при дворах королей и герцогов… В наше время, когда с аристократией покончено, мы принадлежим банкирам, промышленникам, негоциантам. Мы с Пауло принадлежим фирме Коста-Вале… – И он засмеялся, довольный своим положением и еще больше своей теорией. Он собирался повторить свои доводы на другой день в одном книжном магазине, где обычно собирались литераторы, – он не замедлит стяжать себе на этом популярность. Мануэла слушала его и не знала что отвечать. Все это так не походило на то, что она себе представляла… Пауло пришел в восторг от теории Шопела: – Да, именно, именно так! Ты абсолютно прав. Мы все – разновидность проституток, продающих свой талант… – Но почему же так? – спросила Мануэла, растерянно покачав головой. – Зачем обязательно продавать? Мне всегда хотелось танцевать, я чувствую в этом потребность, но мне никогда не приходила в голову мысль о деньгах за свое искусство. Клянусь, никогда! Я всегда думала, что буду выступать для всех, для всех без различия, а смогут ли они мне заплатить или нет, – это меня не интересовало… Я люблю танцевать, даже когда нахожусь одна: в своем искусстве я выражаю то, что чувствую, что со мною происходит… Когда вчера я дебютировала в варьете, мне пришлось зажмурить глаза… И тогда я представила себе, что танцую совсем одна или же на помосте огромного стадиона, заполненного народом… Только так могла я продолжать танец. – Вздор! – перебил Пауло. – Народу никогда не оценить твоих танцев… Только немногие… – У начинающих всегда так бывает, – согласился с Мануэлой Шопел. – Так было и со мной, когда я только выходил на литературную арену. Стихи рождались во мне, и я не мог не писать. Это были сонеты в честь одной белокурой девушки в моем родном городке. Она так никогда и не узнала, что была источником моих первых вдохновений… В то время я думал, что, когда мои сонеты будут напечатаны, они взволнуют тысячи и тысячи людей. Это – иллюзия неискушенных… – Он сделал жест рукой, как бы отмахиваясь от этих иллюзий. – Однако, приехав в Рио, я скоро понял, что если хочу добиться успеха, то должен выбросить сонеты в мусорный ящик и приняться за стихи в модернистском духе. Сонеты давно вышли из моды. – И так как самый влиятельный в то время литературный критик был «томистом»[133], ты решил писать католические стихи… – улыбнулся Пауло. – Ты сейчас в припадке откровенности – рассказывай все!.. – Важно только, чтобы стихи вышли оригинальными. Я внес в нашу поэзию католические настроения: в этом моя оригинальность, – защищался Шопел. Он повернулся к Мануэле. – Надо просветить эту девочку. Вымести паутину из ее головы. Иначе она погрязнет в болоте мещанства и все наши усилия пропадут даром… Мануэла все еще не понимала. – Но как делать то, чего не чувствуешь? – Искусство – ложь, дитя мое! Это избитая фраза, но истина. И чем оно лживее, тем прекраснее… – Может быть, так обстоит дело с поэзией. Я в ней ничего не смыслю. Но как я могу выдумать другие движения танца, кроме тех, что возникают из моих чувств, из воспоминаний о печальном детстве, из восторга моей любви? Я не могу… – Нет, сможешь. Сможешь и будешь. Послушай: мы хотим устроить спектакль в честь президента. Это мысль директора департамента печати и пропаганды, а я ему помогаю. Торжественный спектакль, в котором артисты театра, кино и радио продемонстрируют свою благодарность нашему Жежэ… И ясно, что ты, чьим первым шагам он покровительствовал, должна будешь принять участие в торжественном вечере. Для этого случая ты должна вместе с композитором создать балет. Содержание балета – радость народа по поводу того, что у него такой президент, как Жетулио. Это должно быть нечто феерическое, сенсация! Я уже переговорил с композитором Сидаде. Он согласился… Оба принялись уговаривать Мануэлу возвратиться в варьете. Она воспротивилась: – Но теперь, после того как я оскорбила этого субъекта, он начнет травить меня! – Кто? – спросил Шопел – Даниэл де Фариа? Не беспокойся… Он хорошо вышколен. Делает такого рода предложения, чтобы увидеть результат, – а он почти всегда бывает положительным… Но когда промахнется, не обижается. Начнет тебя травить? Нет! Будет тебя на руках носить. А что касается возобновления контракта, об этом не беспокойся: мы сумеем на него нажать… С течением времени Мануэла убедилась, что Пауло был прав: после того вечера ей пришлось выслушать еще много подобных предложений. Некоторые из них были циничны и грубы, как предложение режиссера варьете. На них было легко отвечать: достаточно было резкого слова, решительного отказа. Но находились и такие, которые долго не раскрывали себя, прятали свои истинные намерения под маской восхищения ее искусством, долго за ней ухаживали и иногда даже завоевывали ее доверие. Это были журналисты, писатели, коллеги Пауло по министерству. Они подносили ей цветы, конфеты, книги. Один молодой художник уговорил ее позировать для портрета и под этим предлогом каждый вечер являлся к ней на квартиру. А кончали все одинаково: те же самые слова восхваления ее красоты, те же докучливые заявления о роковой любви к ней… С этими было труднее; она не могла прогнать их одним грубым словом – приходилось объяснять, что она очень любит Пауло и хочет остаться ему верной навсегда. Некоторые довольствовались такими объяснениями, но другие – как это случилось и с художником, – упорствовали и продолжали приглашать на эти тягостные для нее ужины. Когда Мануэла, наконец, поняла, что между циниками и мнимыми поклонниками ее таланта, по существу, нет никакой разницы, что у всех у них одна и та же цель, она замкнулась, стала всех избегать, отказывалась от приглашений на обеды, празднества и спектакли. Никто не подходил к ней с искренней и чистой дружбой, в которой она так нуждалась; ничто из того, что ей говорили и что для нее делали, не было бескорыстным – у всех была затаенная цель: ее красивое, стройное тело. Все это кончится, думала она, в день свадьбы с Пауло. Замужнюю женщину уважают, не смеют подходить к ней, как к какой-нибудь продажной твари… Но разве сам Пауло, когда они только познакомились, не действовал точно так же, как эти нынешние мнимые поклонники ее таланта? Разве он не использовал страстное желание Мануэлы стать танцовщицей, чтобы, в конце концов, овладеть ею? С Пауло – совсем другое дело… Она любила Пауло, и он собирался на ней жениться… Только слишком быстро развернулись события… Ясно, что, выйдя замуж за Пауло, она уже не сможет больше выступать в варьете и сниматься в кинофильмах (да, кроме того, съемки вот уже месяц как прерваны: лица, затеявшие это дело, переругались между собой). Но что она теряла? Работа в варьете не приносила ей никакого удовлетворения – зрители из-за столиков больше смотрели на ее полуобнаженное тело, чем на па ее танцев… А что до фильма, то Мануэла уже поняла, что это за трюк: речь шла о чем-то вроде музыкальной кинокомедии, на которой постановщики намеревались получить возможно больше прибыли при возможно меньших затратах. И «божественную Жандиру» пригласили лишь для рекламы фильма – ее портрет красовался во всех журналах… Вот они, эти журналы, на столике около дивана. Мануэла смотрит на них с отвращением. Как все это не похоже на то, о чем она мечтала, когда познакомилась с Пауло и начала учиться танцам, когда Шопел носился с проектами устройства ее карьеры!.. Все оказалось иным, лишенным настоящей радости, и она – такая одинокая, в такой тревоге за судьбу своей любви к Пауло… За последнее время он все более отдалялся от нее. И хотя, приходя к ней, Пауло по-прежнему ласкал ее, повторяя заверения в любви и подтверждая, что как только он получит повышение, они поженятся, – все же Мануэла чувствовала, что он изменился, что он не прежний: в его голосе не было страсти, он легко раздражался, на его скептически-равнодушном лице вновь господствовало выражение скуки. Разве раньше он не жил вместе с нею, как если бы они уже поженились, и только изредка бывал на квартире своего отца в Рио? В последнее время, однако, он почти совсем туда перекочевал под предлогом, что необходимые ему книги и вещи не уместятся в тесной квартирке Мануэлы. Он приходил только к обеду и на ночь, да и то не ежедневно… А вначале он не отлучался от нее ни на минуту: вместе ходили они в кино и театры, на пляж, совершали длинные прогулки по городу. И он сам предложил снять эту маленькую квартирку в районе Копакабаны, переехать туда из пансиона во Фламенго, где она поселилась по приезде в Рио. Таким образом они смогут с этих пор быть вместе, не дожидаясь юридических формальностей, чтобы начать семейную жизнь, сказал он тогда. Она согласилась с восторгом, хотя несколько и побаивалась упреков со стороны Лукаса. Что скажет брат, когда узнает об этом? Лукас теперь постоянно разъезжал между Сан-Пауло и Рио; его дела, невидимому, шли в гору; он тоже изменился – это был уже не прежний Лукас: ничего похожего на скромного приказчика в стоптанных башмаках и с дешевым галстуком… Теперь он одевался у дорогих портных, по последней моде; путешествия свои совершал на самолете и поговаривал о том, что он тоже снимет квартиру в Рио. Мануэла поделилась своими опасениями с Пауло. Он в ответ только взмахнул рукой, как бы желая рассеять ее заботы: – А зачем ему знать, что мы поселились вместе? Официально я буду жить на квартире старика, как жил до сих пор. А если твой брат случайно застанет меня здесь, – он пожал плечами, – скажем ему, я пришел в гости. Что в этом предосудительного? – Он пристально посмотрел на Мануэлу. – Скажи мне одно: ты уверена, что он не знает? – Лукас? Нет, бог миловал, не знает. Ему известно, что мы любим друг друга, собираемся пожениться. И не больше… Если Лукас узнает, он убьет меня… Пауло насмешливо и недоверчиво улыбнулся. – Может быть, оно и так, но я в этом сомневаюсь, деточка. Я думаю, что он уж слишком много знает, но делает вид, что ничего не замечает… – Нет, нет… Ты не знаешь Лукаса, как знаю его я. Он способен убить тебя… – В конце концов, мы не делаем ничего плохого. Наймем квартиру, официально она будет считаться твоей. Ты артистка, твоя известность растет, тебе неудобно жить в комнатке частного пансиона. Скажи это твоему брату, и он поймет. Я официально буду продолжать жить у старика, а в действительности мы будем в нашем гнездышке вместе… Да, то были счастливые дни: Пауло не мог без нее обходиться. Дни, состоявшие только из радостных мгновений… Они вместе ходили по магазинам, выбирая обстановку для квартиры. Квартирка была небольшая: всего лишь одна просторная комната, ванна и крохотная кухня. Обставить ее не представляло труда, но Пауло хотелось какой-то особенной меблировкой сделать свое жилье оригинальным. Вместе покупали они драпировки, вазы для цветов, посуду. Мануэла чувствовала себя невестой накануне свадьбы. Может быть, это были самые счастливые дни ее жизни. И вот однажды вечером все изменилось. «Все изменилось», – повторяла себе Мануэла. Вначале Пауло поселился у нее: привез свои костюмы, пижамы, домашние туфли. В течение нескольких месяцев она чувствовала себя вполне счастливой. Лукас одобрил выбор квартиры и даже не спросил, кто будет ее оплачивать. Он советовал ей принять предложения варьете и кино. – Ты начинаешь уверенным шагом. И полагаю, что я тоже. Прямо не верится, что совсем недавно мы прозябали в грязном домишке в предместье Сан-Пауло… Солнце взошло для нас. Ее солнцем был Пауло: его любовь, его ласки, надежда соединить с ним свою жизнь. Когда он около нее, она сразу забывала грязные оскорбительные предложения, гнилую роскошь варьете, отвратительное чувство от того фильма, в котором ей предстояло демонстрировать свои танцы между пошлыми остротами артистов театра обозрений. Рядом с Пауло она чувствовала себя опять вдохновенной артисткой, которая не уставала совершенствоваться в искусстве. И в Рио она продолжала учиться танцам, беря уроки у балетмейстера муниципального театра: она сама понимала, что одного вдохновения и импровизации недостаточно, – она хотела изучить искусство танца. Но когда Пауло не приходил, а только звонил ей по телефону, Мануэла уже догадывалась по подчеркнуто нежному тону, что он сошлется на свою занятость; в таких случаях она чувствовала себя одинокой и униженной; танцевать в варьете казалось ей унизительным, изменой искусству, изменой своему вдохновению. Почему она должна торговать своим искусством, быть такой, какими рисует художников циник Шопел? Боже правый, почему? Пауло проводил время на каком-нибудь официальном приеме или в гостях в знакомом семействе, а она мучилась самыми различными предположениями. Будь она замужем, она могла бы поехать вместе с ним… Когда же, наконец, она станет его женой, перестанет танцевать в варьете, перестанет мучиться, ожидая его, перестанет терзаться мрачными мыслями, от которых ее синие глаза становятся такими печальными? Но Пауло отдалялся от нее все больше и больше… Чем же это все кончится? И вот теперь в довершение всего он собирается провести свой отпуск в Сантосе, вместе с отцом и супругами Коста-Вале, оставив ее здесь совсем одну, во власти сомнений и мучительной неуверенности. Мануэла испытывала инстинктивную неприязнь к Мариэте, которую она видела всего лишь один раз, на приеме у комендадоры да Toppe, где Мануэла танцевала перед президентом. Мануэла тогда прочла в ее глазах вражду, презрение, ненависть. Чего только ни наговорит Пауло эта женщина, чтобы вырвать его из объятий Мануэлы? А она будет одна, вдалеке, и даже не сможет защищаться… Нет, конечно, он никогда не женится на ней, его страсть угасла; он там, в Сантосе, даже не находил времени, чтобы отвечать на ее грустные письма и тревожные телеграммы. Он прислал ей всего лишь две-три открытки, бегло написанные, с вечным обещанием прислать письмо, которого она так и не получила. А она строила столько чудесных проектов об этой поездке вместе с Пауло!.. Наконец-то она была бы с ним целыми днями, она мечтала о прогулках, о выездах за город, о долгих часах на пляже, когда лежишь и ни о чем не думаешь, – только наслаждаешься счастьем быть вместе. Лишь накануне отъезда он сообщил, что не сможет провести свой отпуск с ней: Артур спешно вызывал его в Сан-Пауло, где неотложные семейные дела требовали его присутствия в течение нескольких дней. Дела чрезвычайной важности, уверял он, и Мануэла поверила. Дала ему уехать, не проронив ни слова протеста, стараясь не расплакаться при расставании. Но теперь, оставшись одна, она уже сомневалась в этих чрезвычайно важных делах, которые решались на пляжах Сантоса и в роскошном отеле… Как знать, может быть, это конец – тот пугавший ее конец, приближение которого она уже чувствовала, как нечто неизбежное? В эти дни ее жизнь протекала однообразно. Она почти не выходила из дома, за исключением вечерних выступлений в варьете и два раза в неделю на уроки танцев, – единственная оставшаяся ей радость. Шопела («мой единственный друг», – думала о нем Мануэла) в Рио не было: он странствовал по девственным лесам штата Мато-Гроссо… Утро Мануэла проводила в нетерпеливом ожидании почты, по нескольку раз звонила в швейцарскую и спрашивала, не был ли почтальон; однако писем не было, она с трудом сдерживала слезы, а по вечерам с нетерпением дожидалась телеграммы, которая возвестила бы о возвращении Пауло. Мануэла любила его прежней безумной любовью: слушала его излюбленные пластинки, читала его любимые книги стихов, которых не понимала (стихи без знаков препинания, заумные по смыслу), наконец жаловалась на свое одиночество его портрету, висевшему над диваном. Как-то раз, когда она чувствовала себя особенно одинокой и заброшенной, она прочла в газете сообщение о возвращении Шопела, «великого поэта, мечтающего насадить цивилизацию в неисследованных районах страны», как выразился репортер, повествовавший о перипетиях путешествия «автора «Слепого корабля», сочетавшего в себе поэта-мистика и поэта-промышленника, как этого требует наш век, в котором властвуют техника и машины». Не дочитав заметки, Мануэла бросилась к телефону. Поэт, узнав ее голос, рассыпался в любезностях; как всегда, называл ее Павловой и Айседорой Дункан, спрашивал о Пауло. Но когда Мануэла собралась поделиться с ним своими огорчениями и спросить, не видел ли он при проезде через Сан-Пауло ее жениха, – Шопел выразил сожаление, что сейчас не может поговорить с ней на эту тему, так как очень занят. Он готов, однако, пообедать с ней в понедельник – день, когда варьете закрыто и она свободна; ему самому хочется с ней переговорить о балетном представлении в честь президента. И он положил трубку, предварительно еще раз сославшись на свою занятость. Мануэла с нетерпением ждала понедельника. Заказала в ближайшем ресторане великолепный обед. Шопел явился поздно, в девятом часу, с двумя бутылками французского вина подмышкой, с огромной сигарой в зубах. Его толстая физиономия выражала полное довольство жизнью. К Мануэле он был очень внимателен. – Итак, как поживает маленькая вдовушка? – Плохо… Даже мои друзья, как вы, например, вернувшись из путешествия, не находят времени позвонить мне по телефону… – О, утренняя звезда бразильского искусства! Умоляю, будь справедлива! Сегодня я отказался от приглашения на обед с министром юстиции, великим автором поэмы «Новая Илиада», потому что искусство я ставлю превыше политики, в особенности, когда жрица искусства обладает таким телом и такими глазами, как твои. Прежде всего – священный долг дружбы… Мануэла не могла удержаться от смеха. Хотя иногда Шопел вызывал в ней отвращение своим цинизмом и лицемерным раболепством перед сильными мира сего, она со временем стала его уважать. Правда, Мануэла инстинктивно чувствовала, что он использует ее в своих личных корыстолюбивых целях, но, по крайней мере, он никогда не пытался ее соблазнить.. И, кроме того, он был другом Пауло, его лучшим другом.. А поэт продолжал все тем же искусственным декламационным голосом, с восклицаниями и витиеватыми выражениями: – Зачем печалиться: погода прекрасна, жара спала, успех продолжает тебе сопутствовать, сам облик твой – идеал красоты. Зачем печалиться, когда все превосходно в этой благословенной стране, под отеческим правлением Дона Жежэ Первого, Великодушного? – Пауло не возвращается… – Он сейчас в Сантосе, да? – Поэт изменил свой декламационный тон, каким он обычно приветствовал знакомых; теперь в его голосе зазвучали нотки раздражения. – Все отправились туда: он, его отец, Коста-Вале и эта корова, пошлая комендадора да Toppe со своими пошлейшими племянницами, – все отправились туда развлекаться. И только я, один я, жалкий раб, был вынужден рыскать по Мато-Гроссо, искусанный москитами, среди вооруженных кабокло. А вернувшись, осужден целый день сидеть в конторе, заботиться об интересах этого проклятого «Общества долины реки Салгадо», иметь дело с государственными чиновниками, из которых каждый хочет как можно больше проглотить… Ты никогда не сможешь себе представить прожорливость этих людей, Мануэла… Вырвавшись от чиновников, я попадаю в когти к американцам. Они больше ослы, чем самая глупая ослица; больше ослы, чем Бразильская академия изящной словесности, собравшаяся в полном составе на торжественное заседание; они только разбираются в бизнесе и никак не могут взять в толк, почему мы до сих пор не прогоним кабокло с побережья реки… Я работаю, как каторжный, а они проводят все время в Сантосе на пирах и оргиях. Только не жалуйся мне, моя маленькая Мануэла, иначе я тоже начну жаловаться, и это никогда не кончится. Мы изойдем океаном слез… Мануэлу забавляло брюзжание Шопела. – А кто вам велел сменить поэзию на коммерцию? – Надо жить, дочь моя, а я не рожден для прозябания в нищете. Поэзия еще никого не прокормила. – Он продолжал конфиденциальным тоном: – Всей силой своей души, Мануэла, я ненавижу бедность. Мир разделен на две части: одна – это бедняки с их грязью, зловонием, несносной неблаговоспитанностью, другая – богачи с их сверкающей чистотой, благоуханием, широкой и веселой жизнью. Чтобы быть среди них, нужно иметь деньги, Мануэла, или, по меньшей мере, такую красоту, как твоя… Красота – это те же деньги. – Деньги, лишенные всякой ценности, Шопел. На них не купишь счастья… – Мануэла рассеянно перелистывала журнал. – Празднества в Сантосе? Но как же так, если там забастовка? Мне говорил Лукас… – Забастовка в порту, моя юная балерина, а празднества – на пляже… Разве ты ничего не знаешь о празднестве в честь министра труда, в честь Габриэлзиньо? Рассказывают, это было нечто божественное… Вакханалия, беспримерная в истории… Пауло мне все описал в письме… – Он вам писал? А мне – ни одного письма. Три открытки по нескольку слов и все… Я не понимаю, Шопел… Но поэт, испугавшись, как бы она не расстроилась, перебил ее: – Сначала пообедаем… Мы еще поговорим на эту тему. Я голоден, как лев. Она пригласила его к столу, но сама почти ничего не ела, чуть пригубила французского вина, принесенного поэтом. Шопел с жадностью проглотил обед и один выпил две бутылки вина. Он сообщил, что музыка для балета уже написана и «великий маэстро Сидаде» ждет ее для переговоров. Мануэле представлялся исключительный случай: композитор, которым гордится вся страна, чье имя широко известно за границей, написал балет специально для нее. Это – подлинное торжество. Маэстро глубоко заинтересован в успехе своего балета: он рассчитывает, что гонорар от постановки окупит его путешествие в Европу, и полагает, что президент ему в этом не откажет. И ей, Мануэле, тоже пора задуматься, чего себе попросить: Жетулио, абсолютный властелин Бразилии после установления Нового государства, является новым Меценатом и щедро наделяет дарами тех, кому покровительствует… Но Мануэлу не воодушевили эти блестящие перспективы. Она глубоко задумалась, и это встревожило поэта. Возвратившись из Мато-Гроссо, Шопел нашел у себя длинное письмо от Пауло, в котором тот рассказывал о грандиозном празднестве в Сантосе и о своей новой причудливой страсти. «Ты оказался прав, – писал он, – я был слеп, не замечал любовь рядом с собой. Это нечто восхитительно терпкое, с опьяняющим привкусом кровосмешения…» Далее в письме подробно описывалась ночь на пляже, безумные слова Мариэты, но тут же говорилось и о продолжении романа с Розиньей да Toppe. Вскоре собирались объявить помолвку, свадьба приурочивалась к рождеству. «Дело – я чуть было не написал «сделка» – решено окончательно, старина. Я женюсь на миллионах комендадоры, и сверх того она мне гарантирует повышение по службе и назначение в состав нашего посольства в Париже». В конце письма Пауло просил друга оказать ему услугу, поговорить с Мануэлой. «Постарайся подготовить почву. Я хотел бы избежать бурной сцены. Конечно, будут горькие упреки, но я сам виноват, позволив этой истории так долго затянуться. Убеди ее, что она только выиграет, сохранив со мной лишь дружеские отношения. Она на верном пути, и ей остается только следовать ему, чтобы сделать себе карьеру». Даже Шопел, привыкший к цинизму молодых литераторов и сам циник, даже он возмутился последними строками письма – потрясающим эгоизмом Пауло. Почему он просит его, Шопела, подготовить Мануэлу к разрыву? Почему не возьмет все это на себя? Или, может быть, с такими просьбами принято обращаться к друзьям? Он почувствовал к Пауло нечто вроде зависти: тот родился в богатой аристократической семье, в жизни ему были открыты легкие пути – ему незачем было льстить, унижаться, писать пошлые восхваления политикам или промышленникам, как это вынужден был делать он, Шопел. Носителю громкой старинной фамилии, Пауло, не задумываясь, отдавались и наследницы миллионных состояний, и бедные очарованные им девушки, вроде Мануэлы. И в довершение ко всему он теперь блаженствовал в объятиях Мариэты, на которую Шопел уже давно и совершенно безуспешно бросал влюбленные взгляды… «Не буду вмешиваться в это дело, – подумал он, – пусть устраивается сам, когда вернется». Однако в тот самый день, когда он получил письмо, ему позвонила Мануэла. И поэт призадумался: как знать, если он поведет дело тактично, не удастся ли ему унаследовать после Пауло Мануэлу? Не попадет ли она в его жадные объятия? Шопел тяжело переживал равнодушие женщин. Его толщина (свыше ста двадцати килограммов веса), его смешная жирная физиономия, огромный двойной подбородок – все это приводило к тому, что женщины над ним только смеялись, а если какая-нибудь из них отдавалась ему, то он хорошо знал, что ею двигала не любовь, а совсем иные соображения. Несколько лет назад он собирался жениться на одной сироте, воспитанной в доме ее дяди и тети, – хороших знакомых Шопела. Он уже считался женихом, и этим небогатым людям брак их племянницы с Шопелом представлялся сущим даром судьбы. Но Алзира, его невеста, введенная им в литературную среду и привыкшая вытягивать у него средства, чтобы хорошо одеваться и вволю развлекаться, со дня на день откладывала свадьбу в надежде встретить другого претендента на ее руку, столь же обеспеченного, но более привлекательного внешне. Время от времени Шопел устраивал ей бурные сцены ревности; начинал с обвинений, а кончал тем, что плакал, как ребенок, и грозился покончить жизнь самоубийством. Алзира разыгрывала оскорбленную невинность: неужели ей ни с кем нельзя быть в дружеских отношениях, чтобы тут же не возбудить его подозрений? При каждой очередной сцене она повторяла те же самые фразы, заявляла о своем намерении отказаться от брака с ним – она не собиралась превратиться в рабыню. И всегда кончалось тем, что Шопел шел на уступки и довольствовался очень неопределенным обещанием верности и заверением в любви. Он осыпал Алзиру подарками, посвятил ей не одно стихотворение, боясь, как бы она – до сих пор единственная, принявшая его любовь, – не бросила его. Мысль «унаследовать» Мануэлу принимала в его мозгу все более отчетливые формы. Из всех его выдумок с Пауло – художница Сибила, литературный критик Армандо Ролин, поэт-шизофреник Жермано д'Анунсиасан – Мануэла была единственной, обладавшей истинным призванием к искусству. Уже давно Шопел перестал смотреть на затею с Мануэлой, как на шутку; теперь он относился к ней серьезно, ему даже нравилась ее непосредственность, ее стыдливость скромной мещаночки, напоминавшие ему атмосферу, царившую в доме его родителей в глуши штата Параны. Эта верность, эта преданная любовь («прилипчивая», как определил ее Пауло), эта скромность воспринимались им, как положительные качества, а у Алзиры таких качеств не было. Если бы Мануэла проявила к нему благосклонность и позволила ему занять освободившееся после Пауло место, каким это было бы счастьем: он стал бы обладателем лучшей и самой прекрасной из женщин… Но… как этого достичь? Ему показалось, что он нашел способ. В таких женщинах, как Мануэла, любовь рождается из чувства признательности. Даже в ее любви к Пауло, рассуждал Шопел, было много от этого чувства. Пауло извлек ее из мещанской среды, где она прозябала, открыл перспективы другой жизни. Мануэла заплатила за это любовью. Правда, Пауло был интересен и элегантен и не весил сто с лишним кило. Но зато у Шопела есть поэзия и славное имя. Он долго обдумывал свой назначенный на понедельник визит. Надо было действовать с большим тактом. Сейчас, видя ее погруженной в печаль, он не знал, с чего начать. Молча пил кофе. Затем пересел на диван, закурил новую сигару… Самое худшее, что он очень отяжелел после обеда, – не следовало так много есть… – У тебя есть коньяк? Мануэла пошла на кухню и возвратилась с бутылкой. Налила коньяк в большие пузатые бокалы тонкого стекла, купленные Пауло. Придвинула стул, но Шопел сказал: – Сядь рядом со мной – так будет лучше. Мы должны поговорить серьезно. Раскрой передо мной свое маленькое сердце, без страха поделись своими печалями… Я твой друг, ты ведь это знаешь… Превосходный коньяк! – И он причмокнул толстыми губами. – Что я могу рассказать? Вам самому все известно, может быть, больше, чем мне… Известно, как все началось и что происходит сейчас. У меня пока одни лишь сомнения, вопросы… – В таком случае спрашивай, я тебе отвечу… – Этот отъезд Пауло в Сантос… Мы строили планы, как вместе провести отпуск… Но он заявил, что у него важное дело… И вот он в Сантосе, на празднествах. – Он никогда не говорил тебе, что это за важное дело? – Нет. Я и не допытывалась, я ведь ничего не смыслю в делах. Шопел, смакуя, выпил коньяк и налил себе еще. Приближался самый трудный момент. Надо было не ударить лицом в грязь. Он начинал чувствовать легкое опьянение. – Пауло обещал на тебе жениться, не так ли? – Как только получит повышение… – Мануэла тревожно насторожилась: торжественный тон поэта, простая, свободная от обычной витиеватости речь ее пугали. Что он собирался ей рассказать? Шопел неодобрительно покачал головой. – Пауло – ребенок, а все дети – эгоисты. Сколько раз я советовал ему не обещать того, чего он не может выполнить… Но он считался только со своими желаниями. Он плохо поступал. – А почему он не может на мне жениться? – Мануэла, люди из высшего общества вообще не женятся: они заключают коммерческую сделку, понимаешь? Дочь банкира такого-то заключает брак-сделку с сыном промышленника такого-то. Коммерческая сделка, как и всякая другая… – Но Пауло меня любит… – Вернее, он тебя любил или желал, что для него – одно и то же… Мануэла взмолилась, протягивая к нему руки: – Скажите мне сразу, не терзайте… Шопел взял ее за руки, привлек к себе, в его голосе послышалась нежность: – Бедное дитя… Я не должен тебе этого говорить – Пауло придет в ярость. Но я люблю тебя… Ты даже не можешь себе представить, как я тебя люблю… Я Друг Пауло, но не могу не признать, что он нехорошо поступил с тобой… Я не раз говорил ему: «Не заставляй Мануэлу страдать… Она не такая, как другие…» – Но что же случилось? Скажите ради бога! Шопел для храбрости глотнул коньяку. – Пауло женится на одной из племянниц комендадоры да Toppe… На Розинье… Он отправился в Сантос завершить сделку. Это выгодная сделка… У Мануэлы вырвалось мучительное рыдание. Шопел положил ей руку на плечо, заставил ее склонить голову на свою жирную грудь и одновременно свободной рукой потянулся за бокалом с коньяком. Мануэла бормотала сквозь рыданья: – Не может быть… не может быть… Тогда, чувствуя себя растроганным, поэт нетвердым от опьянения голосом принялся говорить и говорил очень долго. Он пытался ее утешить: зачем страдать из-за человека, так дурно с ней поступившего, обманувшего ее, игравшего ее чувством? Пауло не из тех людей, какие ей нужны. Он эгоист, скептик, карьерист, закоренелый гуляка, буян… Разве она не знает о его скандале в Боготе? Ей нужен человек, который любил бы ее глубоко и по-настоящему, готов был посвятить ей всего себя, умел должным образом оценить ее преданность, ее нежность, – словом, человек, который не называл бы ее любовь «прилипчивой», как это делает Пауло. После такого открытия Мануэла разрыдалась сильнее, и Шопел воспользовался этим мгновением, чтобы еще крепче прижать ее к себе. Он продолжал говорить, понемногу раскрывая истинный облик Пауло, и тут же рисовал ей блаженство иной любви: несомненно, в нее были влюблены многие, и среди этих многих должен найтись человек, достойный ее. – Никогда… – ответила Мануэла. Но Шопел не смутился. Пока что было еще слишком рано рассчитывать на иную реакцию. Он должен ждать. Прощаясь – уже была глубокая ночь, – обещал прийти еще раз; потребовал с нее обещания, что на следующее утро она позвонит ему по телефону и расскажет, как себя чувствует. Напоследок он сказал: – Не предавайся печали. У тебя есть твое искусство и твои друзья. – Мое искусство? Танцевать в варьете для пьяных!.. А друзей у меня нет… – А я? – Поэт, казалось, обиделся. Мануэла стояла перед ним в дверях. – Простите, Шопел. Да, правда: вы мой единственный друг. И вы не должны меня теперь бросать совсем одну. Я боюсь, что сойду с ума… Ему захотелось поцеловать ее, но он сдержался. Только ласково провел рукой по волосам. – Можешь на меня положиться. Я люблю тебя гораздо больше, чем ты себе представляешь. Да, именно, гораздо больше. Выйдя на улицу, он взял такси и велел шоферу отвезти себя на центральный телеграф. Почва была подготовлена. Подготовлена для Пауло и для него. Самое важное теперь не испортить все чрезмерной поспешностью. Надо было сделать так, чтобы она почувствовала себя благодарной ему и чтобы это чувство благодарности постепенно переросло в любовь. Дать всему созреть… С телеграфа он отправил Пауло срочную телеграмму: «Почва подготовлена. Слезы осушены. Рыдания заглушены. Жалобы прекращены. Я мученик дружбы. Можешь возвращаться, непостоянное сердце, каменная душа, закоренелый грешник». Он нараспев прочел текст телеграммы, словно декламировал стихотворение. Почесал подбородок кончиком авторучки; ему очень хотелось добавить еще одну игривую фразу относительно романа Пауло с Мариэтой Вале. «Но что, если Мариэта узнает об этой телеграмме? С супругой банкира лучше не шутить… Оставим патронессу в покое: при муже, какого она имеет, приходится с почтением относиться к ее старческой страсти…» – решил он. Подписал телеграмму, заплатил. Такси его дожидалось. Сезар Гильерме закурил сигару, сказал шоферу адрес и со вздохом облегчения откинулся на подушки. «Восхитительная Мануэла…» Выражение глубокого довольства разлилось по его толстому смуглому лицу. 2
В самолете Пауло вспомнил о телеграмме Шопела. Да, у этого Сезара Гильерме есть ум, и, кроме всего прочего, он полезен. Беседа с Мануэлей, наверно, далась ему нелегко. Пауло представил себе первую вспышку горя Мануэлы и почувствовал беспокойство. К счастью, теперь все уже, очевидно, перешло в следующую стадию, и поэтому предстоящая встреча его не особенно пугала. Самый опасный момент грозы миновал, и они смогут разговаривать друг с другом более или менее спокойно. Разумеется, еще будут слезы, но первые слезы, которые всего труднее выносить, достались на долю Шопела. Она еще поплачет, будет умолять не бросать ее; Пауло готов и к этим неизбежным последним слезам и к этой трепетной мольбе. «Все устроится», – скажет он примирительным тоном и приласкает ее: он ее любит и всегда будет любить, только не может на ней жениться – такой брак был бы сущей нелепостью. И она поймет это без труда, если только рассудит обо всем хорошенько. Дело не в том, что он считает ее якобы недостойной себя. Несмотря на то, что он дипломат, а его отец – государственный деятель, он, Пауло, бедняк – отпрыск разорившегося рода, славного во времена империи. То, что он получает в Итамарати, нехватает ему даже на самые насущные нужды, – строго говоря, он живет за счет отца… Ему следует подумать о будущем, и единственный доступный для него путь к богатству – это женитьба, женитьба на племяннице комендадоры да Toppe, которая сразу же принесет ему пять тысяч конто приданого… Он постарается все это изложить Мануэле по-театральному эффектно, чтобы она убедилась, что он – как и она – жертва, а не палач. Продолжать с ней связь? Но он и сам хотел бы этого больше всего на свете! Только теперь они не смогут, как это делали до сих пор, выставлять напоказ свою любовь. Им придется принять кое-какие меры предосторожности: жить врозь, встречаться более или менее тайно, что, впрочем, только придаст еще больше блеска их большой любви, которую они вынуждены будут скрывать… Оставаясь открыто ее любовником, он рискует расстроить свою женитьбу, – неужели она этого не поймет? Но по существу ничего в их отношениях не изменится; так даже будет лучше: их страсть оденется романтическим покровом тайны. И он уже видел ее, соглашающуюся с его доводами, покорно падающую в его объятия. Он останется свободным и, кроме того, сможет ею обладать, когда только этого пожелает… Конечно, не это обещал он Мариэте Вале. Мариэта заблуждалась, воображая, что он позволит управлять собой, как марионеткой. Теперь, когда Пауло утратил в отношениях к ней своего рода сыновнее почтение, которое она прежде в нем вызывала, он спрашивал себя, не были ли ее советы в какой-то степени продиктованы ревностью?.. Даже после того, как Мариэта сошлась с Пауло, она сохранила к нему свое прежнее отношение практической и умудренной опытом женщины, призванной руководить этим избалованным ребенком в сложных хитросплетениях жизни. Она чувствовала себя счастливой: она добилась его и так как у нее не было насчет Пауло никаких иллюзий, так как она не идеализировала его, а любила таким, как он есть, – эгоистом, снобом, скептиком, то ее усилия были направлены лишь к одной цели: удержать его около себя навсегда. Без Пауло ее бы снова охватили неудовлетворенные, необузданные желания, снова началась бы жизнь, лишенная всякого интереса, малейшей прелести… А есть ли лучшее средство удержать Пауло, как быть для него не только любовницей, которую легко заменить другой, но и другом, советчицей, охранять его интересы, устранять препятствия с его пути?.. Однажды в одну из длинных бесед, всегда сопровождавших их страстные свидания, они разговаривали о Мануэле. Пауло очень удивился тому, что Мариэта знала о его романе во всех мельчайших подробностях. – Уж не поручила ли ты Барросу следить за мной? – засмеялся он. Она взяла его за руку и ответила: – Я только удивляюсь тому, как ты настолько мог увлечься подобной безделушкой, лишенной всякого блеска, мещаночкой из предместья, что даже нанял для нее квартиру, открыто жил с ней… – Она артистка, – пытался защищаться Пауло, словно этот факт возвышал Мануэлу над мещанской средой. – Артистка! Это вы с Шопелом выдумали для собственного развлечения. Ты мог от скуки провести с ней ночь – я это понимаю. Но открыто сделать ее своей любовницей, привязаться к ней, компрометировать себя… этого я понять не могу. Ты не представляешь себе, какие толки вызвало твое увлечение. Ты даже не представляешь себе, что мне ежедневно приходилось по этому поводу выслушивать. Я защищала тебя, насколько могла; уверяла, что это случайная связь, но все приезжавшие из Рио рассказывали, что с этой женщиной тебя видят повсюду: в театре, на пляже, в ресторане… Энрикета Алвес-Нето, одна из многих, кто видел тебя с ней (Пауло хорошо помнил эту встречу: она произошла в фойе кинотеатра, где Энрикета была с Эрмесом Резенде – своим очередным любовником), передавала мне, что ее чуть не стошнило. – Мариэта засмеялась и произнесла, подражая театральной манере супруги адвоката: «Имея столько интересных женщин в своей среде, он заводит роман с какой-то первой встречной мещанкой…» – И, оборвав смех, она, отчеканивая слова, сказала: – И Энрикета права… – Энрикета – истеричка. Она за мной бегала… – Пусть так, но от этого она не перестает быть правой. Еще вчера об этом же со мной говорила комендадора. А это очень серьезно, ты понимаешь сам… – Комендадора? Что же она сказала? – Пауло, мой дорогой, ты знаешь, я не ревнива. Я не девочка, готовая поверить, что ты никогда мне не изменишь. Мне нужно, чтобы ты меня любил и знал, что я тебя обожаю и вечно буду тебе принадлежать. Я забочусь о твоих интересах, милый… – Пауло привлек ее к себе, стал целовать. Но она вырвалась – сейчас они вели серьезный разговор. – Я настолько о тебе забочусь, что чувствую себя ответственной за твой брак с Розиньей. Ты еще находился в Боготе, а я уже хлопотала за тебя перед комендадорой. Только что вернувшись из Европы и узнав, что комендадора выбирает для своей племянницы мужа, я подсказала твое имя… И посмотри, как получилось: в те дни газеты только и писали, что о тебе. Тебя изображали пьяницей, волокитой, совершенным чудовищем. Но поскольку героиней скандала была дама из общества, жена посла, все это не имело никакого значения. Я даже думаю, что именно этот скандал заставил комендадору остановить свой выбор на тебе… Но зато она глубоко возмущена твоей новой историей. Еще вчера она мне говорила, что это неприлично, что она не может допускать подобных вещей и что если ты действительно собираешься жениться на Розинье, то должен сначала порвать с этой авантюристкой… Просила меня с тобой переговорить. Сначала я отказалась от этого поручения. Тогда она вызвалась сама говорить с тобой… Пауло всполошился: – Вот получилась бы история!.. – Я это хорошо знаю. Поэтому я обещала ей поговорить с тобой сама, не боясь того, что ты можешь истолковать это как проявление моей ревности… Но ты ведь меня знаешь: эта женщина не такова, чтобы к ней ревновать… Пауло боялся разговора со старой комендадорой да Toppe. Старуха, с ее миллионами, драгоценностями, заносчивостью и грубостью бывшей проститутки, вселяла в него настоящий ужас. Она обращалась с ним властно и насмешливо, считала его своей вещью, игрушкой. Правда, Пауло как будто ей нравился (комендадора подарила ему новый автомобиль), но когда она говорила о чем-нибудь серьезном, то не допускала с его стороны никаких возражений, и спорить с ней было невозможно. И поэтому теперь он был готов пообещать Мариэте все что угодно, лишь бы избежать этого неприятного разговора. Он начал ей объяснять: – Знаешь ли, как это все получилось… История в Боготе меня сильно потрясла. Во всем виновата Адела, жена чилийца… Она напилась до бесчувствия, я тоже… – Знаю. Ты мне уже рассказывал… – Ну, так вот. Потом весь этот скандал, газетная шумиха, бешенство старика Артура… А я ко всему прочему вбил себе в голову, что мне нужна романтическая любовь, нужна невинная девочка… Но я уже давно пресытился… – Ему ничего не стоило притвориться перед Мариэтой. – И теперь, когда ты принадлежишь мне, совершенно ясно, что с ней я порву. – Порвешь с ней? Правда? – Ты плохо меня знаешь. Я люблю тебя… В тот же день он написал Шопелу. Получив от поэта телеграмму, он поспешил сообщить новость Мариэте: – С Мануэлей все кончено. Я просил Шопела сходить к ней и сказать… Вчера он мне телеграфировал… Он увидел на ее лице выражение нескрываемого торжества. И именно поэтому его снова потянуло к Мануэле. Мариэта воскликнула: – Когда поедешь, отвези Шопелу дюжину галстуков от меня в подарок… «Она думает сделать со мной все, что захочет, – размышлял Пауло. – Посмотрим, моя лисичка, кто из нас окажется хитрее…» – И снова ему вспомнилась безграничная нежность Мануэлы. Перед самым возвращением в Сан-Пауло он зашел попрощаться с комендадорой и обедал у нее. Скучал в большой зале, где Розинья и ее сестра играли в четыре руки на рояле простейшие этюды для учениц музыкальной школы. – Отвратительно! – бормотал про себя Пауло. Внезапно вошла комендадора и, жестом приказав племянницам продолжать, села рядом с гостем. Некоторое время вслушивалась в музыку (сестры немилосердно фальшивили) и гордо улыбалась. – Эти девочки великолепно воспитаны… Никто в Сан-Пауло с ними не сравнится. Я денег не жалела… Пауло выдавил из себя несколько кратких похвал пианисткам: – Уверенное исполнение… сколько чувства… – Всякий раз, притворяясь, он вспоминал отца, позирующего перед парламентом и перед всем светом. Комендадора уставилась на него своими маленькими, не по возрасту живыми и очень коварными глазками. – Итак, молодой человек, наконец-то вы решили бросить свою танцовщицу? Давно пора… – Она показала унизанным кольцами пальцем на старшую племянницу. – Или танцовщица, или пианистка… Нельзя одновременно и свистеть в дудку и пить через нее… – Это уже вопрос искусства… – Пауло пытался отшутиться. – Я ничего не смыслю в вашем искусстве, мой мальчик; оставьте его для салона Мариэты Вале и для книжных лавок. Скажу только, что связь с какой-то босоножкой – позор, оскорбление общества. – Уже все кончено… – заверил Пауло, стремясь замять этот разговор. Грубая откровенность комендадоры действовала ему на нервы. Она даже не старалась позолотить пилюлю. – И вовремя, дорогой мой. Хоть раз в жизни поступил благоразумно. Теперь мы сможем серьезно говорить о твоем браке с Розиньей… Я разделю между девочками акции и фазенды; дам каждой по пять тысяч конто… Алина еще слишком молода для замужества. Но я даю за каждой пять тысяч конто… Это приданое принцессы. Пауло изобразил необыкновенное чувство собственного достоинства, облекся в ту маску безупречной честности, которая так шла и Артуру. – Я люблю Розинью, комендадора, и женюсь на ней не из-за денег. Даже будь она бедна… Комендадора рассматривала его, как какого-то диковинного зверька. Он, по-видимому, ее очень забавлял. Громкий смех, которым она разразилась, был настолько неожиданным, что девушки прервали игру. Пауло почувствовал себя униженным: что еще собирается наговорить эта скотина? А сколько раз он и сам иронически улыбался позам необыкновенного благородства своего отца? Когда комендадора совладала, наконец, с охватившим ее смехом, она проговорила: – Ну, точь-в-точь отец! Ох, уж эти аристократы!.. Ничего не могут сделать попросту, не облекшись в мантию благородства. – Она покачала головой и печально сказала: – Ты, сынок, – только обломок прошлого, у тебя славное имя, а это кое-чего стоит… Пойдем обедать. – И, вставая со стула, она повторила: – «Я не из-за денег… Даже будь она бедна…» – и скорчилась от смеха. – Ох, уж эти дворянские отпрыски!.. Никогда еще Пауло не чувствовал себя настолько униженным! Все хотели ему приказывать, руководить его жизнью, его поступками, даже его словами: отец – с его настойчивым желанием этого брака, Мариэта – со своей страстью, банкир Коста-Вале – с заинтересованностью родственника, и, наконец, комендадора – со своей невыносимой неблаговоспитанностью. Но он покажет им всем, что он представляет собой и чего он стоит! Пауло возвращался домой, обдумывая план своего «бунта»: они еще увидят, на что он способен. Тем не менее он и не думал освободиться ни от Мариэты, ни от Розиньи, не собираясь ни отказываться от женитьбы, ни расставаться с Мануэлой. Такие мысли не приходили ему в голову. Его план мести сводился к тому, что он будет продолжать связь с Мануэлой, но, разумеется, тайно. Ему казалось, что таким способом он сохранит свою личную свободу, а этого вполне достаточно, чтобы жить в мире с самим собой. В самолете он готовился к предстоящему объяснению с Мануэлой, взвешивал свои доводы. Артур спал рядом в кресле. Самолет шел над горными вершинами, среди густого тумана. Пауло попытался привести в порядок свои мысли. Месяц, прожитый им в Сан-Пауло и Сантосе, месяц почти беспрерывных празднеств, несколько нарушенных лишь забастовкой портовых грузчиков, принес много нового; любовь Мариэты отнимала у Пауло немало времени. Обязанность сопровождать Розинью на светские рауты, в кино, ухаживать за ней тоже очень утомляло его, и маленькая квартирка в Копакабане сейчас казалась ему идеальным местом, где можно было от всего этого отдохнуть. Квартирка Мануэлы представлялась ему мирным прибежищем, чтобы хоть на время забыть непрестанный, хлесткий, как удар бича, смех комендадоры; постоянные разговоры Розиньи о своем воспитании в пансионе монахинь («Тошнотворно!» – вспоминал Пауло); жадную чувственность Мариэты и вместе с тем ее материнские участливые советы. Мануэла будет умолять его вернуться; он согласится, но с необходимыми ограничениями… Самолет начал снижаться, туман остался позади, и вот между горами и океаном, весь в блеске огней, открылся Рио-де-Жанейро. Пауло начал будить отца. – Подлетаем. Артур потянулся, просыпаясь. – Я сразу же проеду в контору нашего акционерного общества, отвези мой чемодан домой… Идя следом за носильщиком к выходу, Пауло заметил Лукаса Пуччини. Разыскивая такси, Артур уже успел затеряться в толпе пассажиров. Пауло хотел избежать встречи с Лукасом: как знать, может быть, ему уже известно о разрыве, и он, чего доброго, вздумает потребовать с него ответа за поруганную честь сестры? «Ты не знаешь Лукаса… Он способен убить!..» – со страхом вспомнил он слова Мануэлы. Субъекты вроде Лукаса – мужланы, полные предрассудков: он способен устроить грубую сцену тут же, в аэропорте. Пауло попробовал проскользнуть незамеченным, но Лукас уже его увидел и, широко улыбаясь, направился к нему с дружески протянутой рукой. Пауло поздоровался с ним без особенного восторга. – Как поживаете? – Я прилетел только сегодня утром, и вот уже дожидаюсь обратного самолета. Приближается к завершению одно дельце, нужно было переговорить с влиятельными лицами… – Лукас явно важничал. – Не было даже времени навестить Мануэлу. Если вы ее увидите, передайте, что на будущей неделе я проведу здесь несколько дней и обязательно к ней зайду. – И он засмеялся, будто наслаждался значением собственной персоны. – Дел у меня столько, что даже нет времени повидаться с родней. Но что поделаешь? Долг – прежде всего… И так как в эту минуту в зале ожидания громкоговоритель возвестил отправку самолета на Сан-Пауло, Лукас заторопился. – До свидания… – Счастливого пути… Пауло перевел дыхание; он совсем успокоился. «Ты не знаешь Лукаса… Он способен убить!..» Нет, этот субъект никого не убьет, он слишком поглощен тем, чтобы делать деньги… Пауло отыскал глазами своего носильщика, уже дожидавшегося его около такси. Нужно завезти чемодан на квартиру к отцу, затем пообедать в ресторане где-нибудь в центре, а потом, чтобы чем-то заполнить время, отправиться в кино. На квартиру к Мануэле он решил явиться незадолго до ее возвращения из варьете (у него был свой ключ). Он не даст ей времени заговорить, начать жаловаться – едва она войдет, зажмет ей рот поцелуем и, таким образом, все дальнейшее будет легче осуществить… Когда он открыл дверь, то увидел, что комната освещена. Почему Мануэла не в варьете? Услышав шум, она приподняла голову, и Пауло отпрянул назад при виде ее бледного, как у тяжело больной, лица, ее непричесанных волос, ее беспомощной позы – она напоминала не человека, а брошенную на диване вещь. Мануэла взглянула на него без слов, на ее светлых глазах выступили слезы и потекли по лицу. Она даже не пыталась их вытереть. Пауло отвел от нее взгляд, увидел беспорядок в комнате. «И это Шопел называл подготовленной почвой?..» – Ты больна? – Он направился к ней, протянув руки. Мануэла съежилась на диване. Голос ее, незнакомый Пауло, прозвучал строго: – Чего тебе здесь надо? Вещи я уже отослала к тебе домой. Он вспомнил о свертке в темной бумаге, замеченном им на квартире отца. Сверток был положен на стул швейцаром. Пауло не стал его разворачивать, подумав, что это белье от прачки. – Но что с тобой? Что это значит? – Мне все известно. Уходи, оставь меня в покое… – Она не кричала, словно уже была неспособна волноваться, но голос ее звучал властно, приказывал. – Тебе рассказал Шопел?.. – Не все ли тебе равно, кто рассказал? Уходи сейчас же… – Я сам просил его рассказать тебе… – Сам? Значит, ты еще хуже, чем я думала. У тебя даже нехватило мужества поговорить со мной самому. Подослал другого… Объяснение развертывалось не так, как он рассчитывал, когда летел в самолете, но Пауло еще не терял надежды повернуть его соответственно своим интересам и своему самолюбию: он не хотел уйти, выгнанный девушкой, – хотел добиться, чтобы она попросила его остаться. Но его смущало выражение скорби на лице Мануэлы, ее безучастный вид, суровый голос. – Да, у меня нехватило мужества рассказать тебе. – Он почувствовал, что голос его прозвучал не столь печально, как ему хотелось. – Я тебя люблю так сильно, так сильно, что не мог видеть твоих страданий… – Теперь нужный тон был найден. – Но что же я мог поделать? Или этот брак, или на всю жизнь переносить лишения, нужду… – Это кому – тебе? – Я беден, Мануэла, как это ни кажется странным. Мой отец никогда не умел беречь деньги: сколько бы он ни заработал, все истратит… Все, что у него есть, – это адвокатская трибуна, дом в Сан-Пауло да еще немного железнодорожных акций… А я, всего-навсего – второй секретарь посольства… Если я выгодно не женюсь, то останусь ничтожеством. Мне даже нечем оплачивать твою квартиру. Чтобы рассчитаться за эти месяцы, пришлось взять денег у старика… – Я никогда тебя об этом не просила. А если приняла, то только потому, что ты обещал на мне жениться. Приняла как от своего мужа. – Вспомнив об этом, она уткнулась лицом в подушку. – Но как я мог на тебе жениться, ничего не имея за душой? – Бедные тоже женятся… Он на мгновение замолчал, подыскивая новые доводы. – Ты понимаешь… Семейные традиции… Он сел на край дивана, потянулся рукой к растрепанным волосам Мануэлы, как бы стараясь подкрепить слова лаской. Но она оттолкнула его резким движением, подняла голову, в гневе выпрямилась; это была другая Мануэла, какой Пауло никогда не видел. – Уходи отсюда!.. Мне все ясно: я недостойна принадлежать к вашей семье… Я неизвестно кто, не смею войти в дом Коста-Вале, присутствовать на великосветских приемах… Я нужна только для постели, только для этого нужна… Как проститутка, – так вернее сказать… Я-то думала, что нет человека лучше тебя, что вот настоящий человек!.. Когда ты меня обесчестил, ты обещал жениться, я, дура, поверила… – И она забилась в угол дивана. – Опять ты о потерянной чести! Это вздор! Сколько раз я уже объяснял тебе, что все это глупости, которые могут существовать только в нашей отсталой стране!.. – Пауло начинал сердиться. – С меня довольно. Зачем ты обещал? Обманул меня, насмеялся, чего тебе еще здесь нужно? Пауло попытался подавить свое раздражение. – Не будь дурочкой… Что мешает нам жить по-прежнему? Ты говоришь о любви, но для тебя любовь сводится только к браку. А разве мы не были счастливы и без него? Почему же не оставить все, как было до сих пор?.. – Тут он дал себе отчет, что не она, а он просит, и от этого снова рассердился. – Брак… Свадьба!.. Только об этом ты и думаешь. И называешь это любовью!.. Кто любит по-настоящему, не назначает цену за свою любовь… Теперь голос Мануэлы прозвучал уже без суровости, – почти тот прежний голос, к которому Пауло привык: – Ты хочешь продолжать? Как до сих пор? Будешь приходить сюда обедать и ночевать у меня? «Партия выиграна», – решил он. Отчаяние девушки, очевидно, было вызвано мыслью, что он бросает ее навсегда… Он заговорил очень нежно: – Все останется по-прежнему. Придется только принять кое-какие меры предосторожности, не выставлять нашу близость напоказ. Даже и для тебя, для твоего будущего лучше, чтобы об этом не знали… Если тебе представится случай выйти замуж, ты понимаешь… – Твоя любовница… И снова в голосе прозвучали гневные ноты. Это был жестокий и суровый голос – никогда он не мог себе представить, что Мануэла с ее нежным лицом фарфоровой куклы может быть такой резкой. – Твоя девка!.. Ты будешь время от времени сюда приходить, чтобы пообедать и переспать со мной!.. Какая мерзость, боже мой! – Но почему же? Что в этом такого ужасного? Разве мы до сих пор этого не делали? – Ты гораздо хуже, чем я думала… Ты хорошо сделал, что пришел сюда. Я была в отчаянии… в отчаянии, что потеряла тебя. – Не меня, а брак. Неужели тебе нужно было во что бы то ни стало выйти замуж? – Я была унижена тем, что ты на мне не женился. Унижена своим бесчестьем. Это правда. Но в отчаянье я впала потому, что потеряла тебя: я думала, что ты – другой, не разглядела, какой ты в действительности. Вот поэтому и хорошо, что ты пришел и высказался. Теперь у меня осталось только унижение, а отчаиваться мне больше неотчего. Ты этого не стоишь… Она встала. Пауло продолжал сидеть на краю дивана; ему бросились в глаза ее голые ноги – сильные, упругие ноги танцовщицы. Она скрестила руки на груди и больше не плакала. – Я хочу, чтобы ты знал только одно: теперь, когда я узнала, каков ты, я не только не соглашусь быть твоей любовницей, но даже если бы на коленях ты стал умолять меня выйти за тебя замуж, я бы отказалась. Единственное доброе дело, что ты для меня сделал, – это что ты на мне не женился… – Она показала на дверь. – А теперь убирайся вон!.. «Попытаюсь в последний раз», – подумал Пауло. – К чему этот театр, эта старомодная душераздирающая драма? Почему не разговаривать как двум нормальным людям? Говоря так, он в глубине души знал, что играет он, а она в своем гневе, в своем презрении, в своих драматических жестах – искренна. – Убирайся прочь сейчас же!.. Он пожал плечами. Значит, ему не придется уйти так, как он себе представлял. Ну что ж! Так или иначе, но он от нее освободился, а это – самое важное. В женщинах у него недостатка не будет. Он поднялся. На губах у него играла легкая улыбка. – Это похоже на бульварный роман… Нелепо… Но раз ты так хочешь, приходится смириться. Прощай, моя дорогая Мануэла, спасибо тебе за все… – Он помедлил, не зная, протянуть ей руку или нет. Она повернулась к нему спиной и отошла к широкому открытому окну, выходившему на море. Услышала, как Пауло положил ключи на стол. Они звякнули. Потом стук закрывающейся двери. Несколько мгновений спустя она увидела Пауло, направляющегося по тротуару к стоянке такси. Все было кончено, кончено навсегда. Обесчещена, все ее мечты разрушены… Все ли? Еще до того, как Мануэла познакомилась с ним, она мечтала в движениях танца выразить порывы своего сердца. Почему не продолжать своих занятий? Шопел ее поддержит – он выказал себя хорошим другом. Работа и учение помогут ей забыться. Но как трудно забыть не этого, который только что вышел, – но того, другого Пауло, с которым она познакомилась однажды вечером, несколько месяцев назад в луна-парке, в Сан-Пауло. Карусель кружилась в блеске огней… А какую мелодию наигрывала тогда ветхая пианола? Вернись! Ночь так длинна; Мне грустно без тебя. Моя безмерная любовь… С тех пор прошло всего несколько месяцев. Это случилось в последний день октября прошлого года – в самый канун государственного переворота, а между тем, кажется, что это было очень давно… То был другой Пауло или, может быть, тот же самый, но тогда она не смогла его рассмотреть? Нет, она, Мануэла, была тогда другой – теперь она отдавала себе отчет, насколько изменилась за эти месяцы. Что осталось от прежней робкой девочки, прозябавшей в сыром домишке предместья? Теперь ее портреты печатаются в газетах, но зато она утратила свою невинность, свою мечту о домашнем очаге. Единственное, что у нее осталось, – ее танцы, мечта о которых сопутствовала ей в печальное время ее жизни в пропахнувшем плесенью домишке; эта мечта поддерживала ее и теперь, в эти ночи, такие бесконечные и печальные, такие одинокие… 3
Сакила, прочитав сообщение районного комитета о своем исключении из партии, махнул рукой, желая показать, что ему на это наплевать. За его именем следовало несколько других; все эти люди были охарактеризованы как «троцкистские предатели, раскольники и наймиты паулистских латифундистов, враги рабочего класса». В сообщении указывался факт захвата полицией типографии и гибели Орестеса и Жофре. Особо был упомянут бывший казначей районного комитета Эйтор Магальяэнс, молодой врач, не имеющий практики, который обвинялся в растрате партийных средств. Про него в сообщении было сказано: «Самый низкопробный авантюрист». Сакила отбросил листовку в сторону – у него хватало других забот. Он редактировал манифест о создании «рабочей коммунистической партии» и подбирал состав ее руководства. Армандисты торопили его, приближался момент путча. Он не мог, однако, перестать думать о том, что было написано об Эйторе Магальяэнсе. Даже если обвинение было ложным, – а Сакила опасался, что оно обосновано, – это было очень неприятно. А вместе с тем он ни в коем случае не мог порвать связи с «Луисом» (такова была подпольная кличка бывшего казначея), пользовавшимся широкой известностью в партии и авторитетом среди сочувствующих; именно поэтому он являлся одним из главных козырей группы Сакилы. Действительно, после Сакилы Эйтор являлся главарем раскольников. Он был активен и честолюбив, умел вызывать симпатию, ловко используя свое прошлое – наделавший шуму суд, к которому он был привлечен, будучи студентом; Сакила иной раз даже побаивался его как возможного конкурента. Несомненно, у врача также были свои планы, но Сакила считал их менее определенными, чем свои собственные. В самом Эйторе было нечто беспокоившее Сакилу: он не умел скрывать своих намерений, слишком много говорил, бравировал своей беспринципностью. Сакила же ревниво относился к закрепившейся за ним славе «порядочного человека», «честного деятеля» – так его нередко называли в различных политических кругах интеллигенции. Даже в партии этот ореол личной честности и моральной порядочности привел к тому, что в течение долгого времени ему оказывали доверие и приписывали его неправильные действия недостаткам политического мировоззрения, которые, однако, легко исправить. В отношении же Эйтора было иначе: даже армандистские политики, которые, подобно Антонио Алвес-Нето, скрывали свою беспринципность под вывеской «реализма», чувствовали, что у него нет никаких убеждений и его повседневные мелкие стремления носят подозрительный характер. Вскоре после того, как в партии произошел раскол, Сакила привел Эйтора на беседу с армандистским лидером. Алвес-Нето не скрыл от Сакилы неприятного впечатления, которое произвел на него этот человек: – Слишком легкомыслен… Лучше скрыть от него наиболее важные детали нашего плана. У него нет качеств политического деятеля, как у вас… Но, как бы там ни было, от Эйтора, по крайней мере в ближайшее время, освободиться нельзя. После переворота – другое дело… Надо подумать, как потом избавиться от него; Эйтор – неудобный и, пожалуй, даже вредный для него единомышленник… Когда Сакила стал размышлять, до чего может дойти Эйтор в своем стремлении «отомстить этой швали» (так он выразился, прочитав сообщение об исключении его из партии), Сакилу охватило какое-то тревожное чувство. Примерно такое же неприятное ощущение вызывал у него Камалеан, когда он появлялся в редакции для вымогательства десяти-двадцати милрейсов… Оказавшись вне партии, Сакила наметил план действий, который должен был привести его к крупным политическим победам, к высоким постам, а для этого ему нужно было сохранить ореол честного человека, «чистого революционера». Люди, подобные Эйтору и Камалеану, честолюбие которых проявляется в мелкой амбиции, способны на любую подлость. Вот почему Сакила не хотел, чтобы его смешивали с ними, но знал, что не может без них обойтись, по крайней мере, в начальной фазе создания своей новой партии. Сейчас необходимо первым делом позаботиться о внешнем оформлении новой партии: она должна быть приемлема для буржуазии и не отталкивать от себя представителей рабочего класса. План армандистско-интегралистского заговора созрел, и хотя Антонио Алвес-Нето и воздержался от того, чтобы раскрыть Сакиле основные детали плана, он все же поручил ему установить контакт кое с кем в кругах интеллигенции. Но прежде всего армандисты ожидали от Сакилы использования влияния коммунистической партии на сержантов, капралов и солдат, а также на рабочую массу, с тем чтобы помешать им выступить против переворота. – Пока вы говорите только от своего имени, каким бы авторитетом вы ни пользовались – я не оспариваю его, – вам не достичь успеха. Эти люди верят партии… Где ее новое руководство? – спрашивал Сакилу Антонио Алвес-Нето. Сакила боялся, чтобы его позиция не пошатнулась, чтобы его авторитет лидера не был подорван в глазах «крупных политических деятелей». Он объяснял адвокату, что устанавливает контакт с единомышленниками в других штатах для создания национального руководства своей партии и распространения ее влияния на всю страну. Он действительно послал людей в Рио-де-Жанейро, в Рио-Гранде-до-Сул, на северо-восток. Эйтор Магальяэнс готовился отправиться в Мато-Гроссо и Гойаз, где его знали: он там раньше выполнял одно партийное задание. – Еще несколько дней, – обещал Сакила, – и новое руководство будет представлено низовым организациям партии и всей массе. Это будет национальное руководство с именами, пользующимися уважением, которое сможет получить неограниченную поддержку новой политической линии со стороны огромного большинства коммунистов, – объяснял он армандисту. Забастовка в Сантосе, по его словам, показала рабочему классу, что единственным средством свергнуть Жетулио является государственный переворот, что вся история с организацией демократического фронта для того, чтобы воспрепятствовать установлению фашизма, – историческая ошибка, политический абсурд. Он старался убедить Алвес-Нето в том, что он как лидер пользуется большим влиянием в рабочих кругах. Переворот, гарантировал он, встретит поддержку у рабочего класса: за последние дни он и его товарищи развернули широкую разъяснительную работу. В штате Сан-Пауло, а также в Рио были распространены листовки. Если, чего доброго, вооруженная борьба продолжится и возникнет необходимость мобилизовать солдат, он сможет поднять тысячи людей. Алвес-Нето испуганно схватился за голову. – Не делайте этого!.. Даже и думать об этом нечего… Я ведь говорил, что мы хотим совершить переворот внезапный и решительный… И быстрый, прежде всего быстрый. Мы знаем, как начать длительную борьбу, Сакила, но не знаем, как ее кончить. Вспомните тридцать второй год. Мы не будем повторять этой глупости. Нынешний план прост и хорош: восстание в казармах Рио и Сан-Пауло, поддержанное военно-морским флотом, находящимся, как вам известно, в подчинении у интегралистов… Взятие дворцов Катете и Гуанабара[134] в Рио, захват дворца правительства штата Сан-Пауло – и всему конец. Когда Жетулио будет арестован, его губернаторы в штатах падут сами, как зрелые плоды, без необходимости применить силу… – А Рио-Гранде-до-Сул? Ведь это родина Жетулио… – Все предусмотрено. Флорес-да-Кунья, который там намного популярнее, чем Жетулио, перейдет границу и с триумфом вступит в Порто-Алегре, вот увидите… – Он продолжал горячо и убежденно: – Все произойдет в одну ночь. Когда утром Бразилия проснется, Жетулио будет в тюрьме, а Армандо Салес – у власти. Это то, чего мы хотим. Никакой длительной борьбы и тем более вооружения рабочих. Никаких беспорядков – мы не нарушим экономическую жизнь страны. Никаких забастовок, демонстраций трудящихся! Никакой анархии!.. – Он понизил голос: – Рабочие волнения могут быть на руку только интегралистам. Они хотят воспользоваться смутой, чтобы попытаться управлять одним… Сохраните революционный пыл своих рабочих, он нам может пригодиться потом, если интегралисты попытаются нас предать. Но в момент переворота вы должны заставить их сохранять спокойствие, чтобы не создавать затруднений новому правительству. Поэтому-то необходимо, чтобы ваша партия начала немедленно действовать… Сакила обещал поторопиться, но на деле он не возлагал больших надежд на поездки своих посланцев. Первоначальное замешательство, вызванное его исключением из партии, не распространилось на партийные организации других штатов, оно ограничилось лишь Сан-Пауло, да и тут было быстро ликвидировано энергичными действиями районного комитета. Раскольник понял, что его влияние в партии окончательно подорвано; за эти несколько месяцев, прошедших после переворота Варгаса, он оказался в изоляции: его вредная деятельность была обсуждена и осуждена первичными организациями; многие требовали его устранения еще до того, как выяснились все его разногласия с руководством. Первоначальная идея, которую лелеял Сакила при опубликовании вместе с Эйтором Магальяэнсом и некоторыми другими единомышленниками манифеста, направленного против руководителей партии в штате Сан-Пауло, состояла в том, чтобы по возможности добиться признания его группы Национальным комитетом, который был бы поставлен перед совершившимся фактом. Поэтому первый его манифест был полон клятв верности партии, Советскому Союзу, Ленину и Сталину. В ответ на это последовало его исключение из партии вместе с единомышленниками. Решение об исключении было утверждено Национальным комитетом; местные организации всех штатов узнали правду о событиях в Сан-Пауло. Поэтому поездки посланцев Сакилы и оказались бесплодными. Одновременно с ними прибывали и материалы национального руководства с известием об исключении из партии Сакилы и его группы. И в партийной организации Сан-Пауло также создалась неблагоприятная для него атмосфера. После своего первого манифеста Сакила обратился к рабочим, пользовавшимся авторитетом в массах. Рассчитывая на былой престиж, он хотел привлечь на свою сторону людей из рабочей среды. Но почти всюду его приняли враждебно, а некоторые рабочие даже не подали ему руки. Один из них – рабочий из Санто-Андре, вовлеченный Сакилой в партию два-три года назад и поэтому всегда дружелюбно к нему относившийся, – попросту выгнал его из своего дома. – Я с предателями не имею ничего общего… – сказал он и, закрывая дверь перед его носом, добавил: – Тебе только с Камалеаном разговаривать – оба вы одной породы… Шагая к автобусной остановке, Сакила думал о Камалеане. Как только стало известно об исключении Сакилы, бывший типограф снова начал появляться у него в редакции газеты, иногда заходя по вечерам, чтобы выманить немного денег. Он почти ничего не говоря, опускался на стул; Сакила уже знал, что ему нужно: протягивал бумажку в десять милрейсов, бегло обменивался с ним несколькими словами и под предлогом занятости уходил. Камалеан вежливо откланивался и исчезал, по крайней мере, на неделю. А потом и совсем пропал. Члены партии поговаривали, что Камалеан связан с полицией, что он с провокационной целью старается вызвать некоторых коммунистов на откровенные разговоры, и аресты товарищей, с которыми он был знаком, приписывались его доносам: «Классе операриа» опубликовала предостережение членам партии, возлагая на Камалеана ответственность за провал типографии, за убийство Жофре и Орестеса и разоблачая его как предателя, состоящего на службе в полиции. Хотя Камалеан – когда Сакила однажды нажал на него, чтобы узнать правду, – упорно отрицал этот факт и утверждал, что он якобы совершенно неповинен в какой-либо связи с полицией, журналист не сомневался, что типограф – тайный агент охраны политического и социального порядка. Камалеан во время этого разговора чуть не расплакался, клялся, что выдал адрес типографии только под зверскими пытками, причем сделал это лишь потому, что не знал о присутствии там новых товарищей… Сакила часть вины за эти кровавые события возлагал на районное руководство: оно не проявило внимания к Камалеану, с ним обращались с ненужной грубостью, тем самым облегчив работу полиции… Но если это годилось для того, чтобы в какой-то мере умалить вину Камалеана перед другими, – Сакила этим оправдывал то, что принимает типографа и даже дает ему деньги, – все же он сам по-прежнему был уверен, что Камалеан работает для полиции. Поэтому, когда бывший типограф перестал к нему ходить, он облегченно вздохнул. Однако как только манифест Сакилы стал распространяться, Камалеан появился снова. На этот раз он не удовлетворился бумажкой в десять милрейсов, не принял очередного извинения журналиста: «У меня много дела, – запаздывает материал для номера. Зайди в другой раз». Он заявил, что может подождать, ему обязательно нужно поговорить с Сакилой. Оставалось только свести его в кафе поблизости от редакции. «Но что ему, чорт возьми, нужно?» – думал Сакила. В тот же день, несколько раньше, Баррос вызвал Камалеана к себе в кабинет, в управление охраны политического и социального порядка. Он вынул из папки хорошо отпечатанный манифест Сакилы и положил перед ним на стол. – Ты его человек, не так ли? Камалеан кивнул головой в знак согласия. – Я уже вам рассказал точно, все как есть… Баррос хотел узнать, кто эти три лица, подписавшие своими подпольными псевдонимами вместе с Сакилой манифест. Камалеан начал снова объяснять разногласия между Сакилой и руководством, рассказал об обещаниях журналиста. – Луис, это – врач, доктор Эйтор… – Эйтор Магальяэнс, знаю… – Ловкий тип… Поговаривали, что он проживает деньги партии… Относительно двух других имен ему ничего не было известно: это подпольные клички, он много раз их слышал, но не мог установить личность этих людей. Кто поддерживает Сакилу? – Он назвал несколько имен, слышанных им от журналиста в те дни, когда тот откровенничал с ним в типографии… Баррос кое-что записал, затем сказал: – Ты должен пойти к Сакиле… Ты ведь продолжаешь его посещать, как я тебе велел, не так ли? – Я уже давно у него не был. Инспектор рассердился: – Почему? Разве я тебе не велел поддерживать с ним контакт? Ты попросту болван, ни к чорту не годишься… Камалеан стал оправдываться: ему давали другие поручения – во время забастовки он вместе с другими полицейскими агентами следил за подозрительными лицами на шоссе Сантос – Сан-Пауло… – Но Сакила, по крайней мере, не подозревает, что ты работаешь у нас? – Нет. Ни капельки… Думает, что я ищу новую работу… – Так ты ему скажи, что нашел место, и поэтому последнее время не заходил к нему… Ну-ка, давай… – И он стал придумывать историю, которую Камалеан должен был рассказать Сакиле. Проинструктировав агента, он сказал: – Выведай у него все, что сможешь. Потом найди этого врача… Эйтора… Прикинься другом, союзником. Они оба могут многое порассказать, и, если будешь действовать с головой, окажешь нам большую услугу. В особенности надо выжать все, что только можно, о тех, других… – Тех? Баррос встал с папиросой в зубах. – Ну да, о тех… Сакила должен знать о них многое, да и Эйтор тоже… Насчет Жоана, Руйво, насчет других руководителей партии, понятно? Нас интересуют именно они, заруби это себе на носу!.. – Он стал учить его, как действовать. – Скажи Сакиле и Эйтору, что хочешь с ними работать. Они вместе с армандистами стряпают заговор. Может быть, раскроешь что-нибудь в этом направлении. Самое важное, однако, выведать у них о тех, кто нас по-настоящему интересует, кто представляет действительную опасность. Поэтому-то Камалеан в тот день и пришел к Сакиле, а в кафе рассказал ему историю, придуманную для него Барросом: как он устроился на работу в маленькой типографии в пригороде, – там печатаются приглашения на похороны, визитные карточки и тому подобная мелочь. Заработок плохой, но на жизнь кое-как хватает. В первые дни был очень занят переездом, поэтому и не показывался. Сейчас, получив выходной день, пришел узнать у Сакилы новости; он помнил, что журналист был единственным человеком, кто помог ему после выхода из тюрьмы. А другие обвиняли его даже в том, что он – полицейский агент, шпик охраны политического и социального порядка. И это в то время, как он сидел без работы, будучи вынужден жить на подачки Сакилы в пять-десять милрейсов… Сидя за столиком в глубине полупустого кафе, журналист молча слушал его. Он понял, что Камалеан, по-видимому, прислан полицией что-то выведать у него, и размышлял, как бы от него отделаться, Камалеан коснулся исключения Сакилы из партии: – Один товарищ показал мне твой манифест… Это именно то, с чем следовало выступить. Я в твоем распоряжении… И он снова напомнил слова Сакилы, пообещавшего ему, когда он окажется у власти, какой-нибудь пост, хотя бы должность секретаря профсоюза. Но он, Камалеан, не честолюбив: он согласен на любую работу, лишь бы доказать, что он не предатель, что на него клевещут. Он старался перевести разговор на тему о действительных руководителях партии, как ему велел Баррос. Он поносил Карлоса, Жоана, ожидая, что скажет ему в ответ Сакила, имеющий все основания быть недовольным партийным руководством. Однако журналист, напуганный этим неожиданным и подозрительным посещением, отвечал односложно, с такой нерешительностью, что Камалеан прикинулся обиженным: – Уж не думаешь ли и ты, что я из полиции? – Нет, не в этом дело… – Если бы я на самом деле был агентом полиции, то первым я должен был выдать тебя, – ведь я о тебе знаю больше всего… Сакила почувствовал в голосе бывшего типографа неприятную нотку угрозы; необходимо было приноровиться к собеседнику, не выпасть из тона. – Я никогда не сомневался в твоей честности. Но они тебя заклеймили, опубликовав в «Классе операриа», что ты работаешь для полиции… – Сволочи!.. – …и многие поверили. Прежде чем давать работу, нужно тебя реабилитировать. Теперь Сакила разговорился, он хотел убедить Камалеана, что никаких решений еще не принято, но ему все надоело, и он намерен бросить партийную работу, посвятив себя целиком газете. – Эта политическая деятельность доставляет лишь неприятности и разочарования… Но Камалеан напомнил ему выдержки из манифеста: Баррос заставил его прочесть весь этот документ. – И это теперь, когда ты только что создал новое руководство? – Пока это только первые шаги… Я еще не знаю, что из этого получится. Если дело удастся, я тебя найду. О тебе я, конечно, не забуду… Камалеан наконец распрощался, обещав вскоре зайти, чтобы узнать новости; возможно, тогда у Сакилы найдется для него поручение. – Я могу организовать низовую ячейку там у себя, в пригороде… Камалеан теперь стал не только постоянно заходить за листовками для распространения, но Сакила однажды застал его на квартире у Эйтора Магальяэнса; они вели оживленную беседу. Такая неожиданная дружба встревожила его, и, когда бывший типограф ушел, он сказал Эйтору: – Этот тип не заслуживает никакого доверия. Все говорит за то, что он работает в полиции. Эйтор отмахнулся. – Любого исключенного из партии считают агентом полиции… Скоро, пожалуй, будут говорить то же и о нас… Разве они не утверждают, что я вор? – И он засмеялся, как будто такое обвинение казалось ему весьма забавным. – Я ему не доверяю. – Однако это не мешает тебе давать ему поручения… – Я ему даю листовки и только. Не могу же я порвать с ним так, сразу. Было бы еще хуже… – Точно так же поступаю и я. Если он из полиции, лучше, чтобы он был у нас на виду… – Во всяком случае, он ничего не должен знать о наших связях с армандистами. – Конечно, нет. Впрочем, он вообще интересуется только этими заправилами из секретариата. У него зуб против них… Как и у меня, впрочем… – Он пригладил и без того тщательно причесанные волосы и добавил: – Эти господа думают, будто имеют право говорить что угодно: называть одних полицейскими, других ворами… Надо их хорошенько проучить… Все это не могло не тревожить Сакилу: такие люди, как Эйтор и Камалеан, способны были причинить ему неприятности; их следовало опасаться; они рассчитывали на какие-то свои мелкие выгоды, их планы были далеки от широких честолюбивых замыслов журналиста. С другой стороны, он чувствовал, что нельзя больше держать себя так, будто он по-прежнему один из руководителей партийной организации. Национальный комитет сразу же утвердил его исключение, и это поставило его вне партии. В ответ на это Сакила решил создать свою партию, объединившись с троцкистами, которые потянулись к нему. Троцкисты, эта маленькая группа интеллигентов, разбросанная по стране, сразу же после раскола стали добиваться с ним контакта. Теперь и Сакила, употребляя терминологию троцкистов, начал называть руководство «партийными гангстерами». Он чувствовал себя ближе к троцкистам, чем к партии. Троцкистские интеллигенты – литературный критик Лауро Шавес, художник Абруньоза, поэт Жоан Пекено – рекламировали себя как революционеров чистой воды. В былое время Сакила неоднократно их критиковал, говоря, что такими революционерами быть легко: это «революционеры» на словах, которые удовлетворяются разговорами и теоретическими дискуссиями, они далеки от какой-либо практической деятельности, их никогда не беспокоит полиция, и вся их активность ограничивается тем, что они злословят о партии и ведут борьбу с ней. Теперь, однако, он пошел на сближение с ними: может быть, они ему еще понадобятся. Он не считал, что пришло уже время окончательно связать себя с ними. Это сразу ликвидировало бы для него все возможности оказывать влияние на рабочую массу. Но в будущем, кто знает, не смогут ли эти интеллигенты работать вместе с ним в легальной партии, которая возникнет после переворота под вывеской «социалистическая» или «левая» партия?.. Когда исчезла последняя надежда представлять себя как одного из районных руководителей партии, – он, по соглашению с Эйтором и другими раскольниками, решил создать «рабочую коммунистическую партию». В таком виде она просуществовала бы некоторое время, с тем чтобы после переворота перейти на легальное положение и переменить вывеску. Затруднение состояло в том, чтобы сколотить руководство; помимо него и Эйтора, имена остальных мало что говорили или вообще ничего не значили для рабочей массы. Отсутствие авторитетных рабочих деятелей и интеллигентов с именами уменьшало возможное влияние «его» партии, ослабляло его позиции перед Алвес-Нето. Жаль, что Сисеро д'Алмейда, на которого Сакила так рассчитывал, отказался следовать за ним. Кандидатура Сисеро была бы идеальной: он известен не только в партии, но и вне ее – крупный писатель, которого уважают все, даже политические противники. Его мужественное поведение в тюрьме, куда он был заключен после восстания 1935 года, сделало его популярным среди членов партии в Сан-Пауло; его исторические книги принесли ему авторитет и известность среди деятелей культуры. С другой стороны, во время избирательной кампании у него проявились известные разногласия с политической линией партии. Он во многом был солидарен с Сакилой, даже иногда поддерживал его в дискуссиях с руководителями партии. Они были знакомы уже много лет, оба пришли из «модернистского» движения, их вкусы в поэзии, живописи и литературе совпадали. Правда, когда Сакилу критиковали, Сисеро соглашался с районным комитетом. Однако в их личных отношениях ничего не изменилось, и еще не так давно они за завтраком обсуждали аграрную проблему. Поэтому Сакила рассчитывал, что он легко сможет завоевать поддержку Сисеро для новой партии, в особенности, если предложит писателю руководящий пост в ней. Это произвело бы впечатление даже на Алвес-Нето: с одной стороны, в паулистском высшем обществе Сисеро, отпрыск знатной старинной семьи, считался белой вороной; с другой – многие полагали, что после Престеса он самая значительная фигура в коммунистической партии. Сакила позвонил ему и заехал пообедать. У журналиста было мало времени, он должен был вернуться в редакцию: в «Майском салоне»[135] были выставлены некоторые картины английских абстракционистов – первые картины такого рода, показанные в Сан-Пауло, поэтому он постарался сократить беседу об абстракционизме и перевести разговор на недавние партийные события. Он начал резко критиковать деятельность партии по отношению к забастовке в Сантосе: – Бесполезная растрата сил, удар в пустоту… Эти люди из руководства потеряли голову, они просто хоронят движение. Сисеро защищал забастовку, но Сакила не почувствовал в его доводах убежденности, словно писатель и сам сомневался в правильности развития движения. Это ободрило Сакилу, и он стал рисовать Сисеро перспективы создания новой «подлинно коммунистической партии с истинно революционной линией – партии, способной покончить с Жетулио и «новым государством», которая завоевала бы легальное положение после антижетулистского переворота, причем ее политика – единственно правильная для полуколониальных условий Бразилии – открыла бы для этой партии двери парламента, легальной печати, легального существования». Он говорил, взвешивая слова, убежденно и вдохновенно. Излагая свои политические планы, он как будто видел их уже осуществляемыми на практике: он воображал себя в палате, на дружеской ноге с политическими деятелями всех направлений, выступающими от имени «его» партии, причем все его называют «ваше превосходительство»… Он говорил так, будто предоставлял и Сисеро те же возможности, готов был принять и его в компаньоны этого столь многообещающего предприятия. Писатель слушал молча, с тем же заинтересованным и серьезным выражением, с каким выслушивал всех, кто бы к нему ни обращался. Он не прерывал Сакилу, внимательно вслушиваясь в каждое его слово. Сакила принял молчание за согласие и остался доволен исходом разговора – он нуждался именно в таких людях, как Сисеро: это не Эйтор и не Камалеан… Он стал входить в детали, коснулся гарантий, обеспечиваемых армандистским заговором в случае победы, и в заключение доверительно сообщил ему, что уполномочен «товарищами из всех районов» пригласить его принять участие в руководстве новой, «подлинно коммунистической партии»… – Не могу согласиться… – ответил Сисеро своим спокойным негромким голосом. – Партия есть партия, Сакила; не существует двух коммунистических партий. Когда это случается, одна из них неминуемо кончает тем, что оказывается на службе у врагов. – Он прервал жестом возражение, которое Сакила собирался сделать. – Я тебя терпеливо слушал, выслушай и ты меня. Может быть, ты в некоторых своих критических замечаниях и прав. Не отрицаю, и я не всегда согласен с кое-какими позициями товарищей. Однако эти вопросы обсуждаются в самой партии, и разногласия относительно линии, которой следует придерживаться, должны разрешаться отнюдь не путем создания другой, конкурирующей партии… Таким путем лишь ослабляется движение, подрываются наши собственные силы. Сакиле удалось вставить слово: – Ты же хорошо знаешь, что с этими людьми нельзя спорить. Это совершенно невозможно… Они не допускают никакой дискуссии. – Это не так. Ты сам сколько угодно спорил, отстаивал свою точку зрения. – Но тебе же известно, как это происходило: большинство несознательных голосует против нас – и дискуссии конец. Люди, способные мыслить и руководить, подавляются этим большинством. – Не будем спешить. Люди голосуют после обсуждения. Если кто-либо оказывается побежден при голосовании, значит, его идеи и его доводы не убедили большинство. Это демократический принцип, мой дорогой, принцип большинства. Как должен поступать в этом случае коммунист? – Склоняться перед большинством? – снова прервал его Сакила, размахивая руками. – Соглашаться с ложными тезисами только потому, что у большинства закрыты глаза? Ошибаться потому, что другие упорствуют в своей ошибке? Даже Ленин выступал против большинства, когда оно ошибалось. – Ты что, спятил? Откуда ты это взял? Когда Ленин порывал с партией, чтобы навязать свою линию? Когда он раскалывал партию? – А разделение на меньшевиков и большевиков? Ленин не поколебался… – Ленин остался с большинством или, вернее, большинство осталось с Лениным. Или ты не знаешь, что «большевик» по-русски – это сторонник большинства? – Он посмотрел на журналиста, сидевшего по другую сторону стола. – Нет, Сакила, ты неправ. Ты отстаивал свои разногласия, большинство оказалось против тебя; твоей обязанностью было согласиться с решением, а если тебя не убедили, должен был найти способ продолжить обсуждение. Это было бы правильным, а все остальное означает раскол партии, помощь ее врагам. – Но как продолжить дискуссию, если они начали с моего исключения? – Это тоже неверно. Ты был исключен после того, как нарушил единство партии, открыто выступил против ее руководства, против ее политической линии. Я уже сказал, что и сам не всегда согласен со всеми решениями руководства; во время избирательной кампании у меня были разногласия с линией партии. Но отсюда далеко до того, чтобы впутываться в антипартийное движение… Нет, я благодарен тебе за предложение, но не принимаю его. – Ты механически применяешь готовые штампованные формулировки. А для человека с такой марксистской культурой, как у тебя, это не годится. С чего ты взял, что я организую движение против партии? Для меня, для нас, отстраненных от руководства, партия – это мы; мы действительно защищаем интересы пролетариата, и именно у нас правильное представление о тактической линии партии. – Вы защищаете интересы пролетариата, – улыбнулся Сисеро – но пролетариат идет за теми, кто против вас… Где это видано, чтобы коммунистическая партия была без рабочих? Можно по пальцам сосчитать людей, которые идут за вами: среди них нет ни одного рабочего… – А Симеан и Адалберто?.. – Симеан – сапожник-кустарь. Адалберто – чиновник префектуры, и ты его только потому считаешь рабочим, что один день он действительно работал на фабрике. Это человек с самой мелкобуржуазной психологией, которого я когда-либо знал. Достаточно сказать, что он велит своим дочерям говорить ему «вы»… – Он снова улыбнулся, но потом заговорил серьезно: – Вот что я тебе скажу, Сакила: если не считать тебя и еще двух-трех твоих честных единомышленников, остальных следовало бы давно исключить. Например, этого Эйтора… Это ведь вор! – Клевета… Все, что эти люди умеют делать: клеветать на всех, кто слепо им не подчиняется. Именно поэтому, чтобы не идти против самого себя, против своей совести, я и избрал эту позицию и не сойду с нее… – Это не политические причины. Сакила, я, твой друг, считаю, что ты один из самых способных людей, пришедших в партию. Я не сомневаюсь в честности твоих намерений. Но ты напутал, ошибся и теперь, не зная, как отнестись к последствиям, только усугубляешь свои ошибки. Я тебе советую: выкинь все эти нелепые проекты, брось всю эту шайку авантюристов и постарайся на массовой работе снова завоевать доверие партии. Не сиди сложа руки и рассуждая про свое исключение, а завоюй право вернуться в партию. Вот что ты должен сделать. – Я пришел сюда не за тем, чтобы просить у тебя советов. Сисеро рассердился, но, как подобает воспитанному человеку, продолжал по-прежнему вежливо: – Вот все, что я тебе могу сказать, мой дорогой. И ничего больше… Сакила пожалел о своей внезапной резкости. Какой смысл был порывать с Сисеро д'Алмейдой? – Прости. Не будем ссориться… Ты думаешь так, я – иначе; время покажет, кто из нас прав. Я не сектант, и в тот день, когда ты придешь протянуть мне руку примирения, я тебе напомню эту беседу. Ну, а пока у нас есть много другого, о чем поговорить… – И он начал восхвалять серию статей Эрмеса Резенде о психологии кабокло в долине реки Салгадо и о цивилизации бразильского крестьянства, появившихся в газете «А нотисиа». – Это мастер, – заявил Сакила, – его очерки, хотя эклектичные по анализу и неполноценные по выводам, – самое важное, что появилось за последние годы в области национальной культуры, и в целом труд Эрмеса Резенде имеет неоценимое революционное значение. Этими похвалами по адресу Эрмеса Резенде Сакила хотел отомстить Сисеро д'Алмейде, поскольку, когда нужно было назвать крупнейшего современного бразильского писателя-социолога, мнение литературных критиков разделялось в выборе между Эрмесом и Сисеро. Однако Сисеро, казалось, не придал этому значения и принялся обсуждать статьи Эрмеса с тем же серьезным видом, с каким обсуждал перед этим политическую позицию журналиста. Сакила посмотрел на часы и встал: придется отложить беседу – он опаздывает в редакцию. Отказ писателя участвовать в руководстве новой партией расстроил Сакилу сильнее, чем он позволил себе показать. Он рассчитывал на это авторитетное имя, чтобы, с одной стороны, произвести впечатление на Антонио Алвес-Нето, с другой, – пользуясь этим, привлечь на свою сторону некоторых рабочих. Теперь он был вынужден составить руководство из тех немногих лиц, которые были у него в распоряжении, но, по правде сказать, это даже не было партией. Долго ли еще ему удастся обманывать армандистов? Хоть бы скорее произошел переворот, тогда станет легче: для легальной партии нашлось бы много людей, он мог подобрать их среди многочисленных «леваков», всех видов и различных толков, из среды интеллигенции. Для партии такого рода он мог бы рассчитывать даже на Эрмеса Резенде… Но для нелегальной партии, накануне самого переворота… В этот вечер Камалеан снова появился в редакции в сопровождении Эйтора Магальяэнса. Врач зашел перед отъездом в Мато-Гроссо и Гойаз, куда он отправлялся, чтобы завербовать кое-кого из тамошних товарищей. Возможно, что до этих глухих мест еще не дошла новость об исключении Сакилы и его группы. Он пришел урегулировать денежные дела, причем, казалось, у него не было секретов от Камалеана, последний был в курсе проектируемой поездки, он настолько проник в раскольническую группу, что Сакила уже не мог и думать о том, чтобы отстранить его. Важно, размышлял он, на худой конец нейтрализовать Камалеана. После переворота все будет иначе: в легальной партии он избавится от таких опасных личностей, как Эйтор и Камалеан. 4
Итак, Камалеан вступил в новую партию, и хотя Сакила все еще держался недоверчиво и настороженно, Эйтор, напротив, за эти дни сдружился с ним и многое рассказал ему о готовящемся перевороте. Камалеан торжествовал, дожидаясь поздней ночью Барроса в полиции. Ему сказали, что инспектор отправился поужинать, но скоро вернется. Камалеан остался ждать и с интересом прислушивался к рассказу другого шпика о свалке в кафешантане. Но как только инспектор вошел в кабинет, Камалеан отделился от кружка оживленно беседовавших и проскользнул в полуоткрытую дверь. – Можно, начальник? – Войдите. Камалеан остался стоять перед столом, со шляпой в руках. – Ну что? Добились чего-нибудь за эти дни? Что узнали? Лицо предателя с нездоровым, грязно-зеленым оттенком озарилось улыбкой; он потер потные руки. – Сеньор останется доволен… – Посмотрим. Садитесь. Камалеан сел и поспешил взять сигарету, предложенную ему инспектором. – Я проник в самую партию… Сакила не хотел было меня принимать, но я настоял и теперь ежедневно хожу туда за листовками. Они все там… Он начал рассказывать о своих беседах с Сакилой и главным образом с Эйтором; о разоблачениях, сделанных врачом, относительно связей с армандистами, о близости переворота, о перспективах на последующий за ним период. Главой заговора, по всей видимости, являлся Алвес-Нето, тот самый, что до десятого ноября был кандидатом на пост губернатора штата. – Я проник в самый центр партии. На днях меня вызовут к руководителям… Баррос постукивал карандашом по столу. Где же восторженные похвалы, которых ждал Камалеан? Инспектор как будто не придал особого значения ни его проникновению в партию, ни разоблачениям относительно переворота. – Вы осел, Камалеан! Я сейчас объясню вам, что происходит… – Баррос наслаждался такими минутами, когда ему представлялась возможность продемонстрировать перед одним из подчиненных свое превосходство, свою полицейскую изощренность. Находились люди, утверждавшие, что он, Баррос, годен лишь для применения грубых мер; завистники говорили об ограниченности его интеллекта. Как бы он хотел, чтобы они в эту минуту находились здесь! – Вы проделали большую работу, напали на след. Однако если вы воображаете, что партия, куда вы проникли, и есть та самая коммунистическая партия, вы глубоко заблуждаетесь. – Но Сакила… – Он состоит в заговоре с армандистами – это правда. Он связан с Алвес-Нето – это тоже правда. Они подготовляют переворот. Все это мне давно известно и ничего нового вы мне не сообщили. Сакила хотел, чтобы партия приняла участие в заговоре, но другие с этим не согласились: они не верят, чтобы выступление против правительства увенчалось успехом. Вот почему Сакила решил создать свою собственную партию. В моем распоряжении имеются все изданные им материалы; мне известно, где находится напечатавшая их типография. Мне известно гораздо больше вас, Камалеан, и об этих людях, и об Алвес-Нето, и обо всем, что они замышляют. Но почему я не вмешиваюсь? Почему оставляю в покое Сакилу? Почему даю ему возможность печатать и распространять листовки? Потому что он, с этой своей никчемной партийкой, помогает нам в нашей борьбе против другой, настоящей коммунистической партии, которую мы должны уничтожить… Понимаете? Эта затея Сакилы вызывает замешательство среди коммунистов, а это нам на руку. У партии Сакилы нет никаких перспектив; она кончит тем же, чем и все другие партии, которые пытались создавать троцкисты: прекратит свое существование из-за отсутствия кадров… – Значит, мне надо выйти из партии?.. – Нет, я этого не говорю. Вы должны оставаться с ними. Таким способом вы сможете держать нас в курсе их деятельности и, может быть, если проявите ловкость, узнаете что-нибудь новое относительно переворота, и о лицах, замешанных в заговоре. Они уже давно его замышляют – это начинает нам надоедать. Но, может быть, через Сакилу вам удастся выяснить кое-какие детали. Однако не это интересует нас более всего. Важно, заметьте себе, узнать у этих людей все, что им известно о другой партии – о настоящей партии коммунистов, о ее составе, о ее деятельности… Вот что нас интересует, запомните это хорошенько!.. – Баррос подкреплял свои слова постукиванием карандаша о стол. – Кто такой Жоан? Где находятся Руйво и Зе-Педро? Кто такой Карлос? Где их новая типография? Вот что нам важно узнать. Сакила должен знать многое: ведь он был в составе руководства партии. И Эйтор тоже: он был казначеем районного центра… Этот Эйтор… Попробуйте его подкупить – как знать, может быть, он соблазнится хорошим кушем? Или, может быть, здесь нажать на него как следует?.. Прощупайте этого человека, прощупайте Сакилу и других. Постарайтесь узнать у них все что сможете относительно партии… Нам нужно ее ликвидировать. Интегралисты, армандисты, Сакила – все они копошатся, устраивают заговоры, однако опасность, настоящая опасность, исходит от других, от красных… Вы понимаете? Камалеан кивнул головой. Баррос зажег новую сигарету и принялся хвалиться: – Чтобы быть хорошим начальником полиции, Камалеан, чтобы противостоять коммунистам, надо иметь не только крепкий кулак, но и хорошую голову. У меня есть и то и другое… – Он сжал кулак. – Многие коммунисты испытали силу этой руки… Но у меня есть и мозги, я умею думать. Одно дело – Сакила с его партийкой и Алвес-Нето – с его заговором. Чего они хотят? Свергнуть доктора Жетулио. Ясно, что мы им помешаем, если только они что-нибудь вздумают предпринять, поднимут лапу… Но умейте различать. У них – у Сакилы и Алвес-Нето – все ограничивается этим… А те, коммунисты, хотят свергнуть существующий порядок… – он произносил слова раздельно и медленно, как бы желая придать им больше веса: – …хотят разрушить наше общество и насадить коммунизм… Они-то и интересуют нас прежде всего; за то, чтобы их разгромить, нам и платят. Именно о них должны вы узнать у Сакилы и других все, что только возможно. Насколько возможно больше… Камалеан проговорил льстивым тоном: – Да, у сеньора замечательная голова… Баррос улыбнулся. – Иначе нельзя… Теперь ступайте в кассу, получите вознаграждение за работу. Но в тот день, когда вы доставите мне какие-нибудь конкретные данные о Жоане, о Руйво, о Карлосе, о Зе-Педро – данные, которые позволят мне нанести удар по руководству партии в Сан-Пауло, в тот день я гарантирую вам повышение. Этот Эйтор… Обратитесь к нему прямо – он сможет кое-что порассказать. Только действуйте с умом. Помните, мой дорогой, что надо иметь мозги… Это главное… Мозги, дорогой мой, мозги… 5
– Мозги, мой дорогой, – серое вещество, фосфор… – со смехом говорил Лукас Пуччини, сидя в кресле напротив Эузебио Лимы и разглаживая складку на брюках. Это было в огромном здании министерства труда, в Рио-де-Жанейро, в кабинете Эузебио, после великолепного завтрака в одном из ресторанов Меркадо, славящимся своими рыбными блюдами. – Я всегда говорил: такие интеллекты, как твой, встречаются редко… Но не только говорил, – сказал Эузебио, – я этим не ограничился… Я протянул тебе дружескую руку. Ты ведь служил в турецкой лавке, не так ли? – «Баратейро»… – вспомнил Лукас. – Я не останусь в долгу, Эузебио, не бойся. Когда я достигну того, чего надо достигнуть, поднимусь туда, куда хотел подняться, я никогда не забуду, что руку помощи мне протянул мой друг Эузебио Лима… – …который еще кое-чем управляет в этой стране, Лукас… В чьем распоряжении министерство труда, казначейство, богатые кассы государственных пособий и пенсий… Кто пользуется доверием нашего вождя, достойного доктора Жетулио… Лукас вполне разделял восторг министерского чиновника. – Президент – великодушный человек. Меня больше всего в нем восхищает простота: он со всеми обращается, как с равными себе. Это совсем непохоже на поведение некоторых заправил Сан-Пауло, которые держат себя настолько важно, будто в брюхе у них сидит король. – Лукас все еще кипел возмущением от приема, оказанного ему накануне Коста-Вале, заставившим его ждать больше получаса и чьими первыми словами были: «В моем распоряжении десять минут. Изложите ваше дело возможно короче…» Он обратился к Коста-Вале с одним предложением: дело шло о настоящей золотоносной жиле. После бизнеса с кофе, принесшего первые крупные деньги, Лукас Пуччини с головой ушел в коммерцию. Два-три небольших удара, верных и быстрых, сразу удвоили его капитал. Но теперь ему хотелось чего-нибудь более прочного, более солидного, более постоянного. Это был хлопок. С ним дело обстояло так: американцы, захватив в свои руки несколько экспортных фирм, господствовали над рынком и обрекали производителей на нищенское существование, чтобы иметь возможность скупать у них хлопок по смехотворно низким ценам. После долгих размышлений Лукас решил финансировать сбор урожая хлопка в штате, монополизировать обработку, а в дальнейшем регулировать цены на хлопок по своему усмотрению. Он зарегистрировал в Сантосе коммерческую фирму «Л. Пуччини, экспортер». Однако капитал его был слишком мал для огромного размаха предприятия. Поэтому-то он и обратился к Коста-Вале, который был для него символом делового мира. Сколько раз из окна своей прежней конторы восхищался он владельцем фабрик и банков; Лукас завидовал ему. Коста-Вале уже достиг той цели, которую он, Лукас Пуччини, бывший приказчик, скромный чиновник министерства труда, поставил перед собой, пустившись в финансовую деятельность. Однако Коста-Вале, занятый «Акционерным обществом долины реки Салгадо», своими железными дорогами, фабриками, своим банком, не заинтересовался проектом представшего перед ним незнакомого молодого человека, говорившего робким голосом («Я имел честь однажды быть представленным сеньору. Я был с Шопелом и Пауло Карнейро-Маседо-да-Роша…» – напомнил Лукас, но это не послужило для банкира какой-либо коммерческой рекомендацией). Не успело пройти и пяти минут с начала аудиенции, как Коста-Вале закончил беседу, направив его к одному из заместителей управляющего банком. – По вопросу о предоставлении кредитов следует обращаться не ко мне. С вами займется сеньор Фонсека… – Завершая аудиенцию, он нажал кнопку звонка и вызвал служителя. – Проводите этого сеньора в кабинет сеньора Фонсека… Лукас проследовал за служителем по холодному коридору банка. Приподнятое настроение, с каким он сюда шел, упало от равнодушия Коста-Вале. Уже другим, угрюмым и мало убедительным тоном вторично изложил он свой проект заместителю управляющего – худенькому человечку, одетому, как манекен с витрины. Фонсека сделал какие-то записи, обещал изучить вопрос и просил Лукаса зайти через десять дней. Очень жаль, что он не принес никакой коммерческой рекомендации: отсутствие ее затрудняло успешное разрешение его ходатайства. Это, – подумал Лукас, – классический образец отказа. Не стоит больше и заходить… Отдавшись почти целиком коммерческой деятельности, Лукас все же не оставил службы в министерстве. У себя в отделе он появлялся редко, но его шеф смотрел на это сквозь пальцы, не желая портить отношений с ближайшим другом Эузебио Лимы. Лукас выписал из провинции своего шурина и с помощью того же Эузебио устроил его на службу в префектуру Сан-Пауло. Он дал ему доверенность на получение своего жалования в министерстве – это была его дань семье, где он теперь тоже редко появлялся: он не в состоянии был выносить слезы тети Эрнестины, кашель дедушки, возню детей. Выйдя из банка, Лукас, обескураженный, отправился к себе на службу; для этого ему нужно было только перейти улицу. Сослуживцы приветствовали Лукаса, в душе завидуя его привилегированному наложению. Он прошел в кабинет шефа пожелать ему доброго здоровья. Шеф принял его очень сердечно, осведомился о семействе и просил, когда он увидится с Эузебио Лимой, передать его поздравление… Эузебио Лима… Как же он не подумал о нем раньше и отправился прямо к Коста-Вале! Несчастная мания гнаться только за капиталом; влечение к банкирам, к промышленникам… Прождать полчаса в приемной, выслушать высокомерные, холодные как лед слова Коста-Вале, формальные отговорки наряженного, как манекен, заместителя управляющего – и все это, когда у него в руках гораздо более практичное, более легкое, наилучшее из всех возможных решение задачи! Он простился с шефом, почти выбежал из министерства и бросился заказать себе место на первый же самолет. Кто сможет лучше финансировать его проект, чем Эузебио Лима? Сколько денег служащих и рабочих, средств касс взаимопомощи и пенсионного обеспечения лежит в банках… С Эузебио Лимой он провел свой бизнес с кофе. С ним же он осуществит и бизнес с хлопком. Придется выделить Эузебио большой куш, но это окажется дешевле, чем заплатить банку. Кроме того, он останется единственным хозяином своего предприятия: не будет банкира, который бы контролировал его действия. И как он не вспомнил о Эузебио Лиме!.. Начальник кабинета министра труда безгранично верил в коммерческий гений Лукаса Пуччини с тех пор, как тому пришла в голову мысль скупить остатки урожая кофе (на деньги, вырученные от этой операции, Эузебио теперь строил себе в Гавее дом). За завтраком он выслушал новый проект Лукаса. Цифры возможной прибыли повергли его в изумление. – Неужели так много, дружище? – А может быть, и гораздо больше. При наличии угрозы войны, ты понимаешь, хлопок котируется, как золото… Американцы теперь платят, сколько им заблагорассудится, потому что покупают и у того и у другого, малыми партиями. Но с того момента, как весь урожай окажется в руках одного, этот один сможет диктовать цены. А если не захотят покупать по нашим ценам, мы продадим свой хлопок немцам. Подумай только: плантаторы не хотят собирать урожай из-за низкого уровня цен. Это проделки американцев. Но мы выступим на рынок, скупим… – Для этого потребуется много денег, дорогой. А что, если мы просчитаемся? Если не оправдаем своих затрат? – Не так уж много нужно денег. Достаточно авансировать земледельцев под обязательство последующей продажи урожая. А чтобы затем с ними расплатиться, мы проведем операцию с самим хлопком. – И в этом случае потребуются бешеные деньги. – Риск самый минимальный… Но Эузебио вовсе не был расположен даже и на такой минимальный риск; он имел достаточный опыт в подобных делах. – При таких операциях, старина, надо очень тщательно себя застраховать. Лучше всего привлечь каких-нибудь влиятельных людей, хотя им и придется уделить немалую толику. Дай мне подумать… Пойми, если дело не выгорит, надо, по крайней мере, хорошенько себя обезопасить. Кто сможет с нами тягаться, если мы заручимся участием высокопоставленных лиц, милый Лукас? Так будет вернее. Помнишь операцию с кофе? Сколько мне пришлось рассовать денег разным людям. Однако, несмотря даже на историю с забастовкой, никто не осмелился поднять против нас голос. А почему? Потому что с нами были большие люди, твердо стоящие на ногах. Предоставь все это мне, я подумаю, как лучше это сделать… А через несколько дней получишь в свое распоряжение деньги. Пока длилась эта беседа, Эузебио поел жирной рыбы и выпил великолепного белого португальского вина. Затем расстегнул жилет, который стягивал ему живот. Он не мог удержаться, чтобы не высказать своего восхищения: – Откуда у тебя столько замыслов, столько затей? – Мозг, мой дорогой, – серое вещество, фосфор… Теперь Лукас Пуччини, закрепляя сделку («о, великий бизнес!»), изливался в верноподданнических чувствах по адресу главы «нового государства»: – Чтобы служить доктору Жетулио так же, как и ты, Эузебио, я готов на все… И я и моя сестра. Кстати, Мануэла будет танцевать для президента в торжественном спектакле… В балете, специально написанном для этого случая маэстро Сидаде. Говорят, он великий композитор. Эузебио знал о готовящемся спектакле. Он спросил: – Правда, что твоя сестра порвала с Паулиньо да Роша? Лукас Пуччини ничего об этом не знал. – Я был здесь на прошлой неделе, но не мог с ней повидаться. Для меня это новость. Впрочем, – вспомнил он, – я встретил Пауло в аэропорту. Он прибыл, я улетал… – Мне сказал об этом Шопел. Она хорошо сделала: этому Паулиньо грош цена – обыкновенный пьяница с замашками утонченного интеллигента. Если бы не фамилия отца, он давно бы уже лишился службы в Итамарати. – Для меня эта новость – совершенная неожиданность. Сегодня я обязательно повидаюсь с Мануэлой. Она, бедняжка, наверное, опечалена, удручена. – Два дня тому назад я видел ее в варьете. Но, само собою разумеется, на эту тему мы не разговаривали. Я только успел выразить свое восхищение ее танцами. Там был и Шопел; они вышли вместе. Этот Шопел, друг мой, – любопытное явление. – Эузебио переменил тему разговора. – С тех пор как он с помощью Коста-Вале начал богатеть, у него появился ненасытный аппетит. И подумать, что каких-нибудь три года назад он был ничем, царапал плаксивые стишки, сетуя на бога и на мир… А теперь ему всего мало: только что он основал акционерное общество. Разумеется, не он сам – за спиной этого общества стоит Коста-Вале с деятелями из Минас-Жераиса. Но Шопел очень горд тем, что в этом обществе фигурирует его имя… Он уже стал директором нескольких предприятий. И кто? Этот толстяк Шопел с лицом человека, перенесшего в детстве менингит… Теперь он усиленно рекламирует себя в качестве близкого друга доктора Жетулио, но когда-то он был близок к армандистам, а всей душой стоял за интегралистов. Нет у меня к нему доверия… – закончил Эузебио, покачав головой. – Правда ли, что они затеяли какой-то заговор? В Сан-Пауло много говорят о готовящемся перевороте… – спросил Лукас, стараясь не думать о разрыве сестры с женихом. – Кто? Армандисты? Конечно, затевают. Они и часть интегралистов. В этот заговор вовлечены даже многие члены правительства. Но доктор Жетулио сцапает их на повороте… – Каким же образом? – Он даст им поглубже завязнуть в заговоре, а потом сразу, одним ударом отправит их всех в тюрьму; доказательства вины будут у него в руках, престиж его возрастет. Вот увидишь… – Хитрый старик!.. – восхищенно заметил Лукас. – Да, хитрый, – голос Эузебио Лимы прозвучал не менее восхищенно. – Хитер и мудр, как никто. Ну и ловкая бестия, этот Жетулио. С ним некому тягаться. Из дворца Катете он уже больше не выйдет, разве что – на кладбище. И дай бог, чтобы это случилось, когда он уже будет совсем-совсем старенький… – Аминь! – согласился Лукас, вытягиваясь в кресле. – Да услышат тебя ангелы небесные… 6
Адрес в Куиабе, данный ему Карлосом на случай срочной необходимости, был адресом одного учителя начальной школы. Гонсало после работы в Татуассу основал первую партийную организацию во владениях Венансио Флоривала; он создал крошечную ячейку из четырех членов с Нестором в качестве ответственного лица. Из Сан-Пауло долго не было никаких известий, и Гонсало решил поехать в столицу штата Мато-Гроссо, чтобы связаться с партийной организацией. Много дней обдумывал он этот вопрос и, в конце концов, решил, что ехать необходимо. Он начал здесь, в глуши, работу и, следовательно, должен был обязательно установить контакт с партийной организацией штата – ведь это она должна будет руководить деятельностью первой крестьянской ячейки, которая послужит прообразом для многих других. Поля здесь удобрены страданием и нищетой; из первого брошенного семени со временем вырастет широкое движение борьбы за аграрную реформу – борьбы, которая не ограничится словами, а выразится в действиях… Лозунг о передаче земли крестьянам встречал восторженный отклик даже среди самых отсталых тружеников полей. Трудность заключалась в том, как донести лозунги партии до всех этих огромных пространств с редкими поселениями, где предстояло вести партийную работу. Прежде чем предпринять путешествие в Куиабу, Гонсало долго размышлял. Он возвратился в долину, где кабокло после поспешного бегства экспедиции спрашивали его, что же будет дальше. Араб Шафик, вернувшись в поселок, рассказал, что «Акционерное общество долины реки Салгадо» начало в столице судебный процесс, стремясь завладеть здешними землями. Из Сан-Пауло для защиты интересов общества прибыл знаменитый адвокат. Тогда Гонсало решил воспользоваться днями временного затишья, воцарившегося в долине, для своей поездки в Куиабу. Опасность, которой он себя подвергал, была не особенно велика: правда, у полиции Мато-Гроссо, как и у полиции остальных штатов, имелись его фотографии, копии донесений о нем, приказ об его аресте, разосланный полицией штата Баии. Но все это были документы трехлетней давности, за этот срок след его затерялся. Он примет все меры предосторожности, и только чрезвычайно неблагоприятное стечение обстоятельств может выдать его полиции. Кроме того, ему совершенно не под силу одному проводить работу по созданию партийных ячеек на окрестных фазендах: ему нельзя даже на них показываться, предварительно не познакомившись с товарищами, потому что это уже функция партийного руководства штата Мато-Гроссо. Он же, Гонсало, должен оставаться в долине, дожидаться там повторного появления американского персонала акционерного общества с приказом о выселении кабокло. Вот в чем его прямая задача, ради которой он прибыл в эту глушь. Ему кажется, что он еще слышит слова Витора, определяющие его задачу: «Американцы не замедлят протянуть свои когти к природным богатствам этой долины. Почему бы теперь не отправиться туда до их прибытия и не подготовить им встречу?» Карлос велел Гонсало быть очень осторожным; только в исключительном случае воспользоваться данным ему адресом. Карлос предупредил его, что товарищ в Куиабе не знает, кем в действительности является Гонсало. Ему только известно, что Гонсало – товарищ, приехавший из Сан-Пауло, чтобы обосноваться в долине, и что, если потребуется, он должен ему помочь. Обратившись к учителю, Гонсало должен назваться Мануэлем. Но пусть он сделает все возможное, чтобы избежать этого шага: партийная организация штата еще слаба, и Гонсало не должен рисковать своей безопасностью. В штате почти нет фабрик, а следовательно, нет и пролетариата. Немногочисленные партийные кадры состоят из энергичных и преданных делу, но недостаточно идеологически подготовленных людей; их узкая деятельность, по существу, ограничивается столицей штата. И однако для Гонсало наступил такой момент, когда он увидел себя вынужденным прибегнуть к полученной им явке. От Карлоса больше не было никаких известий, а перед Гонсало стояло ряд задач, требовавших разрешения. Он должен был подготовить, если это окажется возможным, вооруженное сопротивление кабокло готовящемуся вторжению империалистического «Акционерного общества долины реки Салгадо». Эта задача требовала присутствия Гонсало в прибрежном районе, а не на территории земель Венансио Флоривала. В противном случае, кто подаст помощь Нестору, Клаудионору, новым товарищам, завербованным среди крестьян? Кто объединит для борьбы кабокло, батраков и испольщиков, когда почва для восстания будет подготовлена? И кроме того, нельзя начинать борьбу без гарантии, что она найдет отклик среди крестьянства. Если выступление кабокло, как пример, не увлечет за собой и не подымет на борьбу многие тысячи крестьян, гнущих спину на господских полях штата Мато-Гроссо, оно окажется бесцельной жертвой. А кому взять на себя выполнение этой задачи, как не товарищам из Куиабы? Так, взвесив все аргументы, он пришел к выводу, что ему необходимо отправиться в столицу штата. И чем скорее, тем лучше: американские инженеры и техники не замедлят еще раз сунуться в долину реки Салгадо, и Гонсало должен возвратиться туда до их появления. И он отправился в Куиабу под видом неудачливого искателя алмазов. В Куиабе он поселился в дешевой гостинице, где останавливались приезжавшие из окрестных поселков мелкие торговцы, бедные крестьяне и люди, ищущие работу. Посещение товарища Гонсало отложил до вечера – тогда он наверняка застанет его дома. Разузнав в гостинице, где находится нужная ему улица, он отправился туда с наступлением сумерек. Гонсало старался возможно незаметнее проскользнуть по улице небольшого городка, где почти все друг друга знали и где всякое новое лицо могло привлечь к себе внимание. Худой человек лет пятидесяти, с начинающей седеть головой, с очками в золотой оправе на птичьем носу, открыл ему дверь бедного дома, расположенного на скудно освещенной уличке, и спросил певучим голосом: – Что вам угодно? – Мне нужен сеньор Валдемар Рибейро… Худой человек старался разглядеть в сумраке лицо незнакомца. – Это я. Что вам угодно? Гонсало вплотную подошел к нему. – Меня зовут Мануэл. Я от Карлоса. – Заходите… – прошептал тот. Войдя в коридор, Гонсало увидел, как хозяин запер дверь на ключ, затем протянул ему руку. – Очень рад, товарищ. Подождите здесь минутку. Он прошел в комнату, закрыл окна. Из коридора Гонсало были видны рабочий стол с лежавшими на нем ученическими тетрадями; рядом – старая этажерка с книгами и журналами, изданными в Рио и Сан-Пауло. На стене – превосходно сделанные и раскрашенные фотографии пожилой четы – наверное, родители учителя или его жены; олеографическое изображение сердца Иисусова и маленькая фотография бородатого человека в солдатской шинели и сапогах. Из глубины дома женский голос спросил: – Кто там, Валдо? – Не беспокойся, дорогая. Это один мой знакомый… До Гонсало донеслось из столовой брюзжание женщины. Учитель возвратился, пригласил его, робко улыбнувшись. – Теперь прошу входить. – Он показал на закрытые окна. – Мера предосторожности… Кто-нибудь может пройти по улице, заглянуть в окно, увидеть чужого. Ведь здесь все друг друга знают… Гонсало рассматривал теперь вблизи маленькое выцветшее фото на стене, рядом с олеографией. – Ведь это же «Старик»! Человек подтвердил: – Он самый, наш Престес… Это фотография времен похода Колонны, когда он проходил здесь, через Мато-Гроссо. Он сам мне ее подарил, на обратной стороне есть его собственноручная надпись. Я некоторое время сопровождал Колонну в ее марше по нашему штату. Но сил нехватило, я заболел и не смог идти дальше… Пришлось остаться здесь, подвергаться преследованиям. Меня уволили из школы, жил на частные уроки. Обратно на работу приняли только в тридцатом году… Гонсало казался очарованным фотографией: ему никогда еще не приходилось видеть портретов Престеса, относящихся к героическому и легендарному времени его похода через Бразилию. Вот он (тогда ему было 26 лет) – с бородой, закрывающей грудь, пристальным взглядом, в простой военной куртке. Фотография – увеличение любительского снимка, сделанного в самой гуще селвы. Позади революционного полководца видны перевитые лианами деревья, первобытная природа плоскогорья. Хозяин продолжал рассказывать: – Я учитель начальной школы. Если бы не лишился доверия начальства, был бы теперь директором. – Он показал на тетради, лежавшие на столе. – Вот сейчас только занимался исправлением ученических диктантов…– И так как Гонсало все еще продолжал смотреть на фотографию, учитель заметил: – Мне многие уже говорили: «Сеньор Валдо, сняли бы вы со стены эту фотографию. Когда-нибудь она доставит вам неприятности…» Даже и жена пристает: «Почему бы не перевесить ее в спальню, зачем держать напоказ в гостиной?» Но я остаюсь непреклонным. Это мой дом, я имею право у себя на стене повесить любой портрет. Или я должен прятать портрет Престеса только потому, что он в тюрьме? Нет, я так не поступлю… фотография останется здесь, в гостиной, нравится это кому-либо или нет… Из глубины дома опять донесся голос женщины: – Валдо, подать кофе? Учитель улыбнулся Гонсало. – Ей смертельно хочется узнать, кто у меня. Женщины очень любопытны. – Он крикнул в ответ на вопрос жены: – Не надо приносить кофе, я приду за ним сам, – и снова обратился к Гонсало: – Садитесь, а я схожу за кофе. Затем побеседуем. Он оставил Гонсало одного в комнате и долго не возвращался. Гонсало сел. Чем может ему помочь Валдемар? – думал он. Если остальные товарищи похожи на него, трудно рассчитывать на помощь. Правда, он производил впечатление хорошего, прямодушного человека, – великана пленило его отношение к Престесу. Однако самый факт, что он, будучи коммунистом, повесил портрет Престеса в комнате, где у него бывают посторонние люди, и сделал это в такой тревожный для партии момент, – обличал его неопытность. Но, поскольку уж Гонсало к нему явился, он с ним поговорит. Учитель вернулся, неся поднос с двумя чашками кофе. Поставив его на письменный стол, он запер дверь, выходившую в коридор. – Вот теперь мы можем спокойно побеседовать. – Он протянул Гонсало чашку кофе, выразил восхищение богатырским ростом товарища и затем сказал: – Как вам удалось прогнать американцев? Этот передовой отряд авантюрного предприятия Коста-Вале и Венансио Флоривала долго будет помнить неудачный поход! Разумеется, здесь никому не известно, что вы приложили руку к этому делу. Никто не знает даже о вашем существовании. Кроме меня и товарища, прибывшего из Сан-Пауло… – Товарища из Сан-Пауло? – переспросил Гонсало, чрезвычайно заинтересованный этой новостью. Ведь товарищ из Сан-Пауло – по всей вероятности, ответственное лицо – мог бы ему помочь в разрешении тех задач, что привели его сюда, в Куиабу. Это было превосходное известие. – Да, он приехал дня три назад. Я вам сообщаю это, потому что он сам хотел с вами встретиться. Он просил меня разыскать вас и вызвать. Но как я мог это сделать? Будь еще здесь сириец Шафик, я бы через него дал вам знак, послал записку… – Не следовало это делать через Шафика. Он не должен знать, зачем я нахожусь в долине. – Что вы, товарищ? Разве я дал бы ему поручение, не приняв все меры предосторожности? Но другого выхода у нас нет. Когда Карлос пересылал вам материалы, он тоже прибегнул к помощи Шафика, а тот даже не знал, что везет… Однако сейчас я не мог использовать сирийца, потому что его здесь нет. Но когда мне придется снова прибегнуть к его помощи, поверьте, я приму необходимые меры предосторожности. Гонсало переменил тему разговора: не имело смысла обсуждать этот вопрос. – Ну, а товарищ из Сан-Пауло? – Ах, да!.. – Но учитель все еще чувствовал себя уязвленным предыдущим замечанием Гонсало относительно Шафика и потому снова вернулся к этой теме: – Вы как будто недовольны, что я использовал Шафика. Но ведь… – Это не имеет значения. В дальнейшем мы решим, как установить связь, не прибегая к помощи Шафика. А сейчас поговорим о другом… Учитель что-то проворчал, но, в конце концов, оставил эту тему. – Товарищ из Сан-Пауло – руководящий работник. Как я уже сказал, я поставил вас в известность о его приезде только потому, что он сам хотел с вами встретиться… Только поэтому, но отнюдь не по легкомыслию… – В голосе учителя прозвучали нотки раздражения. – Вы говорите, один из руководителей районного комитета Сан-Пауло? – Нет, один из руководителей Национального комитета. Он прибыл, чтобы разъяснить здесь изменения, происшедшие в политической линии партии и в составе руководства. Очень серьезные вопросы… Радикальные изменения… Гонсало заинтересовался еще больше: что могло все это означать? Изменения в составе руководства, новая политическая линия? Представитель Национального комитета едет сюда, предпринимает такое опасное путешествие, – должно быть, произошло нечто очень серьезное. Если и раньше у Гонсало возникали сомнения, стоит ли посвящать в свои дела учителя (такого симпатичного, но в то же время и такого неопытного!), то теперь он окончательно решил этого не делать, а переговорить с приехавшим товарищем. Тот научит его, как надо действовать; с ним можно будет все обстоятельно обсудить: и работу, начатую среди крестьян, и планы встречи американцев, когда они снова появятся в долине. Да, стоило приехать! Он был очень доволен. – Когда я могу с ним увидеться? – Это зависит от него. Может быть, даже завтра… Я утром сообщу ему, что вы здесь. Где вы остановились? Гонсало дал адрес своей гостиницы и добавил: – Чем меньше я здесь задержусь, тем лучше… – Сегодня уж слишком поздно к нему идти. А мне еще нужно к утру исправить все эти ученические тетради. Но прежде чем отправиться завтра на занятия в школу, я зайду к нему в отель. – Он остановился в отеле? – удивился Гонсало. – Представитель Национального комитета партии в отеле? Разве это не опасно? – Его здесь никто не знает. Он врач, и всем говорит, что приехал для того, чтобы выяснить, можно ли открыть здесь врачебный кабинет. Уже посетил больницу… Он очень хитер: обладает изысканными манерами, элегантно одет – никто не заподозрит в нем партийного работника… – Как же я узнаю о встрече? Они договорились, где им увидеться завтра в полдень. Гонсало поднялся, собираясь уходить. Учитель почти обиделся. – Как, вы уже хотите уйти? Но ведь вы, товарищ, мне еще не сказали, что привело вас сюда. И кроме того, я еще хотел вам объяснить эту историю с Шафиком… Гонсало не смог удержаться от смеха. – Пусть она вас не тревожит. Я понимаю: у вас не было другой возможности. Но прежде чем я отсюда уеду, условимся о более надежном способе связи. – Но зачем вы приехали из долины, зачем пришли ко мне? Не просто же так, только для того, чтобы приехать!.. – Послушайте, товарищ! У меня есть вопросы, которые необходимо обсудить. Я рассчитывал переговорить с местными товарищами и именно за этим приехал. Но поскольку здесь товарищ из Национального комитета и он желает со мной говорить, то лучше уж я поговорю сначала с ним. Не так ли? – Да, конечно, если так, я не возражаю. Великан снова принялся рассматривать портрет Престеса. Даже на этой выцветшей старой фотографии он ясно мог различить в глазах революционера – в этих глубоких и пламенных глазах – твердую решимость. Он повернулся к учителю и проговорил, указывая пальцем на портрет: – Я нахожу, что ваша жена права. Эта фотография на стене гостиной – достаточное основание для визита полиции… – Портрет Престеса должен находиться на самом почетном месте… – В робком голосе учителя на этот раз прозвучало негодование. «Он симпатичный», – подумал Гонсало и опустил на его щуплое плечо свою огромную ручищу. – Я уверен, что и сам Престес сказал бы вам то же самое, товарищ. – Он дружески улыбнулся. – Я знаю, что намерения у вас хорошие, но они могут привести к плохим результатам… – И добавил, еще раз взглянув на фотографию: – Достаточно, если мы будем носить его в сердце. 7
– Он вас ожидает в отеле сегодня, в четыре часа, – сказал ему учитель начальной школы и вкратце пояснил, что речь идет о товарище Эйторе Магальяэнсе, подпольная кличка которого – Луис; он один из наиболее видных партийных работников Сан-Пауло. Его комната – № 6, в бельэтаже; лучше всего, если Гонсало, ни у кого ничего не спрашивая, поднимется по лестнице и войдет в номер, находящийся как раз напротив площадки. В такой час в отеле бывает мало народу (в это время полуденный зной уже спадает), и они смогут побеседовать спокойно. Подпольная кличка «Луис» ничего не говорила Гонсало, он никогда не работал в Сан-Пауло, из руководителей этого района знал только Карлоса, который приезжал в долину реки Салгадо и произвел на него прекрасное впечатление. Но фамилия врача напомнила ему о развернувшейся пять-шесть лет назад массовой кампании за освобождение студента, арестованного по обвинению в том, что он на митинге стрелял в полицейского агента. Полиция напала на летучий митинг коммунистической молодежи, произошла схватка, один из агентов был ранен тремя пулями, и полиция обвинила в этом арестованного на месте студента; его судили за «покушение, повлекшее тяжелые ранения». Партия развернула тогда по всей стране кампанию протеста в связи с этим делом – против студента не было никаких улик; имя его – Эйтор Магальяэнс – в то время приобрело большую популярность. Гонсало еще помнил фотографии в газетах: юноша с романтической внешностью и черными, тщательно причесанными волосами походил на героя из кинофильма. Его процесс имел сенсационный характер, студенты устраивали на улицах демонстрации. Он был оправдан, товарищи по факультету с триумфом вынесли его из зала суда на руках; его имя еще долго произносили как имя героя. Потом Гонсало потерял его из виду, партия была занята другими вопросами. «Быстро же он стал руководителем, этот парень; сколько лет тому назад был его процесс? Пять… Нет, немного больше, шесть или семь…» – размышлял Гонсало по дороге в отель. На его стук в дверь сонный голос ответил: – Войдите… Дверь была закрыта неплотно, Гонсало толкнул ее и затворил за собой; молодой человек встал с постели и приветствовал его: – Очень рад, товарищ Мануэл… «Знает он, кто я такой или нет?» – размышлял Гонсало. Национальное руководство, по крайней мере наиболее ответственные работники, вероятно, информированы о его убежище. Гонсало разглядывал стоявшего перед ним красивого молодого человека. Тот мало изменился за эти годы, был все таким же, как на фотографиях, публиковавшихся в печати в связи с процессом: большие глаза с поволокой, черные брови, приглаженные волосы, холеные руки, наманикюренные ногти. «Я в самом деле сектант», – обвинил себя Гонсало, сдерживая чувство неприязни, которое вызвал у него вид блестящих ногтей молодого человека и его напомаженных волос. Сколько раз товарищи критиковали его за сектантство. Он думал, что за это время исправился, однако сейчас снова не мог победить в себе явного отвращения к личности врача, который между тем любезно протягивал ему руки. «Разве так важен внешний вид? Возможно, все это показное, маска для обмана полиции». Гонсало улыбнулся своей простодушной улыбкой, пожал протянутые ему руки. – Очень рад, товарищ… Эйтор тоже улыбнулся и, освободив руки из лап великана, дружески, с подчеркнутой симпатией похлопал его по спине. – Ну, как американцы? Хорошую вы им задали трепку – отличная работа… Эйтор читал в газетах корреспонденции о злоключениях экспедиции инженеров и журналистов в долине реки Салгадо. Он говорил с Сакилой и некоторыми другими приятелями о мужестве, проявленном кабокло, и выслушал от журналиста пространное политическое объяснение по этому вопросу, сопровождавшееся резкой критикой листовки партии, где «Акционерное общество долины реки Салгадо» разоблачалось как агентура империалистического проникновения в Бразилию. – Эти партийные боссы из секретариата очень примитивно мыслят… – заявил Сакила. – Они живут в страхе перед призраком американского империализма. Ничего не понимают, даже самых простейших истин. Как можно думать о пролетарской революции в полуфеодальной стране, не имеющей промышленности, и вместе с тем выступать против всякой попытки индустриализации?.. – Но, Сакила, наша цель – буржуазно-демократическая революция… Никто и не говорит о пролетарской революции… – прервал один из приятелей. – Знаю. Но что такое буржуазно-демократическая революция, как не индустриализация страны? Это ее первый этап. Когда страна индустриализирована и возник пролетариат, тогда можно думать об аграрной реформе, о сельскохозяйственной проблеме и о борьбе против империализма. Партия игнорирует наличие национальной буржуазии, личностей вроде Коста-Вале, закладывающих основы индустриализации… – Но ведь они используют иностранный капитал, Сакила… – Только частично. Нельзя практически индустриализировать такую огромную страну, как Бразилия, без сотрудничества с иностранным капиталом. Пока его доля не превышает национального капитала, не страшно. И тенденция национальной буржуазии – прогрессивная тенденция – сейчас именно такова. Мы должны поддержать индустриализацию и оставить все эти романтические мечты об аграрной реформе до более подходящего времени. В такой полуколониальной стране, как наша, только национальная буржуазия способна осуществить буржуазно-демократическую революцию. Она наш главный союзник. – Однако в Китае… – возразил другой. – Ну вот, теперь ты с Китаем… Чего достигла китайская компартия своим сектантством, порвав с Чан Кай-ши? Изолирована в заброшенном районе, и теперь японцы быстро покончат с ней… Вот к чему ведет механическое применение известных догм… То же произойдет и здесь. Я уже однажды говорил: нельзя пробить головой каменную стену. Чтобы разбить эту феодальную стену, нам нужно сначала создать капиталистическую кирку… Это значит: в союзе с прогрессивной буржуазией, с отечественными капиталистами типа Коста-Вале индустриализировать страну… – Чтобы разбить стену феодализма, нужно создать капиталистическую кирку!.. Великолепная фраза, сеньор Сакила! – зааплодировал Эйтор. Он не вспомнил больше об «Акционерном обществе долины реки Салгадо» до тех пор, пока товарищ из Куиабы, к которому Сакила дал явку, не сообщил, что в долине живет представитель партии, изгнавший американцев из долины. С характерной для него наглостью Эйтор заявил, что он знает о существовании этого человека и ему необходимо с ним поговорить. Учитель обещал подумать, как это можно устроить. И внезапно этот человек появился в Куиабе. Узнав эту новость, Эйтор сначала испугался, подумав, что тот прибыл по поручению партии для того, чтобы разъяснить районному комитету подлинную позицию его и Сакилы. Но как могло это быть, если человек буквально похоронен там в долине, за горами, на краю света? Эйтор решил поговорить с ним. Это желание вызывалось отнюдь не заинтересованностью в том, чтобы завоевать его для «новой коммунистической партии». Эйтора мало интересовала новая партия Сакилы, с которой он был связан только потому, что ему доверили прибыльную должность «уполномоченного по финансам». В этой связи играли роль также перспективы, которые вырисовывались для него в случае успеха переворота: если сторонники Алвес-Нето придут к власти, ему, конечно, удастся устроить себе синекуру в каком-нибудь учреждении, которое гарантировало бы хорошее жалование без необходимости работать. Эйтор относился равнодушно и скептически к широким политическим планам Сакилы: он не верил в возможность создания легальной партии со своими депутатами и сенаторами: откуда им взять массу, которая будет за них голосовать? Кроме того, он был мелким авантюристом с убогим воображением и узким кругозором, самым заурядным лжецом, и планы его были гораздо более близкого прицела. После разговоров с Камалеаном он еще больше уверился в своем давнем желании ознакомиться с секретами подпольной деятельности партии: для такого человека, как он, – это капитал; если его использовать с толком, это принесет большие деньги. Вот, например, этот таинственный человек, находящийся в долине, организующий пожары в лагерях, изгоняющий экспедиции «Акционерного общества долины реки Салгадо», – какая это может быть волнующая глава в книге, какой сенсационный репортаж для антикоммунистической газеты! Эйтор только что закончил чтение аргентинского издания нашумевшей книги «Из глубины ночи» Яна Валтина, ренегата коммунистического движения, поступившего на службу в гестапо. Он увлекся книгой, и это повлияло на то, что в его мозгу зародились подобные планы. В нем жило одно глубоко укоренившееся чувство – отвращение к работе. Будучи сыном мелкого чиновника с ограниченными средствами, он в детстве слышал жалобы отца, сетовавшего на скудное жалование и несправедливости, поносившего работу и расхваливавшего тех, кто умеет устраиваться в жизни. Карьеру врача для него избрал отец; врач, мол, всегда устроится, поедет в провинцию, женится на дочери богатого плантатора – и жизнь обеспечена. Адвокатов же много оставалось без дела, для инженеров работы тоже нехватало. Эйтор закончил медицинский факультет, борясь с бедностью; призвания к избранной профессии он не чувствовал. Отец внезапно умер от болезни сердца, когда Эйтор учился на втором курсе. Провожая убогую похоронную процессию, бедный студент проронил несколько слезинок, поклявшись создать себе более легкую, непохожую на судьбу отца жизнь. В первые годы обучения в университете он заботился только о том, как бы раздобыть шпаргалки, чтобы сдавать экзамены, и часто посещал публичные дома, где его черные напомаженные волосы и романтические глаза завоевали ему успех у проституток. У этих несчастных созданий он забирал деньги на карманные расходы. Однажды, когда он, вспоминая жизнь отца, ругал богачей, один из товарищей рассказал ему об организации коммунистической молодежи. Свойственная Эйтору страсть к приключениям привела к тому, что он завязал тесные отношения с молодыми коммунистами. А затем произошли беспорядки на митинге, процесс; имя его на короткое время приобрело известность. Ему нравилось позировать в качестве героя; по выходе из тюрьмы он был принят в партию и быстро там выдвинулся. Он показал себя замечательным активистом в финансовой работе. В последние годы учения он почти полностью посвятил себя сбору средств среди сочувствующих. Кто бы мог подозревать, что он присваивает значительную часть денег, вносимых врачами, писателями, адвокатами, студентами, различными организованными им «кружками друзей»? После окончания университета Эйтор приехал в Сан-Пауло и стал компаньоном одного врача-венеролога, открывшего медицинский кабинет, в котором пациенты появлялись, однако, крайне редко. Зато молодой врач быстро привлек в ряды сочувствующих большое число лиц, которые начали оказывать помощь партии. Его имя еще импонировало многим сочувствующим, он был окружен ореолом, который создал процесс. Ему легче, чем кому бы то ни было другому, удавалось собирать деньги в фонд партии. Каждый месяц он сдавал в партийную кассу крупную сумму – больше, чем все другие активисты, вместе взятые. В трудных условиях подполья руководству нелегко было знать о жизни всех членов партии, в особенности некоторых интеллигентов, вроде Эйтора. Еще труднее было контролировать его счета, учитывать деньги, поступавшие к нему от десятков сочувствующих без всяких расписок, зачастую даже анонимно. Все основывалось на доверии, и в течение долгого времени Эйтор считался прекрасным активистом в области финансовой работы. Вот почему, когда был арестован казначей районного комитета – старый честный рабочий, из-за партийной деятельности уволенный с фабрики (несмотря на то, что семья его часто голодала, он никогда даже взаимообразно не брал денег организации), на эту должность по предложению Сакилы был назначен его друг Эйтор. Вначале – временно, а потом, после утверждения на одном из заседаний районного комитета, – и постоянно. Тогда он стал распоряжаться финансами районного комитета и вскоре сменил свою комнату в пансионе на маленькую квартирку в небоскребе. Как казначей, он был гораздо больше на виду у руководства. Еще до того, как финансовые вопросы были переданы под контроль Карлоса (Сакила был первым работником комитета, с которым Эйтору пришлось иметь дело, – это было еще до того, как обострились разногласия между журналистом и руководством), уже тогда старый Орестес, который в ту пору был ответственным за работу по линии МОПР'а в своем квартале, выражал сомнение в честности бухгалтерии Эйтора. Привольная жизнь, которую тот вел, начала обращать на себя внимание Карлоса. Эйтор пытался объяснить свое обеспеченное положение заработками от врачебной практики, но нетрудно было установить, что пациентов у него фактически нет. Жоан также заинтересовался этим вопросом, и они оба провели ревизию, которая, как и следовало ожидать, выявила его нечестность. Эйтор встревожился: средства для поддержания забастовки в Сантосе было поручено собрать другим членам партии. Тогда он понял, что надвигается катастрофа и ему придется расстаться со своей легкой жизнью… Нужно было обеспечить себе другой, более простой но вместе с тем более прибыльный способ добывания средств. Он строил различные проекты и планы. Это было как раз в то время, когда Сакила обратился к нему в связи с расколом в партии. Районный комитет отстранил Эйтора от финансовой работы (сбор средств был передан другому лицу уже несколько месяцев назад), но в течение долгого времени не удавалось справиться с затруднениями, возникшими в результате организованного Сакилой раскола. Дело в том, что большую часть «кружков друзей» создал в свое время Эйтор, он же был связан с большинством сочувствующих, в отношении которых единственным доказательством их солидарности с коммунистами являлась денежная помощь партии. Многие из них были неизвестны даже руководству; контакт с ними поддерживал только Эйтор. Установить снова связь со всеми этими людьми было нелегко, и в первое время после исключения Сакилы финансы районного комитета оскудели. Эйтор относился к планам Сакилы скептически, но воздерживался от того, чтобы высказывать ему это: его сделали ответственным за финансы раскольнической группы, и это означало для него в течение известного времени обильный приток средств: помимо сочувствующих, еще не предупрежденных партией о его мошенничествах, имелась изрядная сумма, отпущенная Алвес-Нето на первоначальные расходы его новых союзников. Именно для того, чтобы заполучить в свое распоряжение эти поступившие от армандистов деньги, Эйтор и тянул как можно дольше с отъездом из Сан-Пауло в провинцию. И только когда Сакила энергично нажал на него, он решил отправиться в Мато-Гроссо и Гойаз. – Только в этих штатах сейчас можно распространить влияние партии… Если ты не поедешь немедленно, «те» пошлют туда своих людей, и всему конец… Эйтору было не столь интересно завоевать эти районы для организации Сакилы, как самому, в своих личных целях, познакомиться с деятельностью партии в этих штатах. О Гойазе он кое-что знал, так как однажды побывал там для организации сбора средств. Но ему ничего не было известно о партии в Мато-Гроссо. Уже само название этого штата звучало для людей побережья таинственно. Эта была земля, полная тайн, прекрасный фон для какой-нибудь авантюры, вроде историй Яна Валтина, – могла бы получиться хорошая глава в еще не написанной, но задуманной книге. Он уже не сомневался, что в самом ближайшем будущем использует свои познания о жизни партии. Период становления партии Сакилы не мог длиться долго. Сочувствующие, один за другим, узнавали правду и возвращались к настоящей коммунистической партии. А он, чем он будет жить? Если армандистский переворот удастся – тогда прекрасно. Ну, а если провалится? Планы Сакилы полностью рухнут, и Эйтор останется ни с чем – как говорится в пословице, «в лесу без собаки». Поэтому, чем больше он будет знать о партии, тем лучше… И ему повезло: как только он приехал в Мато-Гроссо, удалось напасть на след партийного работника, руководящего борьбой в долине реки Салгадо. Эйтор был доволен поездкой: товарищи из местного районного комитета приняли на веру всю ту груду лжи, которую он им преподнес: об ошибках районного комитета Сан-Пауло, об исключении из партии ответственных лиц, в частности Руйво, Жоана, Зе-Педро, Карлоса, об отстранении некоторых членов Национального комитета, которые их поддерживали, о создании нового однородного руководства, о выработке новой политической линии… Он был послан поставить товарищей в известность обо всем, чтобы помешать любой попытке обмана со стороны исключенных, которые продолжают называть себя районным руководством… Учитель и еще три товарища, допущенные на совещание, разинули рты от удивления. Один из участников совещания, железнодорожник, высказал некоторые сомнения в правильности новой политической линии. Он робко выдвинул ряд возражений – было видно, что он не привык произносить речи. Но мало-помалу он воодушевился, доводы приходили сами собой – ему их подсказывало классовое чутье. Эйтор дал ему высказаться, а затем смял его грозной бурей цитат, большую часть которых он тут же придумал, приписав их вождям международного рабочего движения. Железнодорожник покачивал головой, слыша столько знаменитых имен и столько мудреных слов. – Товарищ, – сказал он, когда Эйтор кончил, – я плохо умею читать и расписываться: я только полгода учился в школе, когда был мальчишкой. Но одно я знаю твердо, и никто у меня не выбьет этого из головы: рабочий и буржуй – враги. Где это видано, чтобы рабочих призывали объединяться с хозяевами? Об этом толкуют капиталисты, но ведь это делается для того, чтобы лучше драть с нас шкуру. Учитель, ослепленный эрудицией и фейерверком цитат Эйтора, раздраженно предупредил железнодорожника: – Национальное руководство изучило вопрос, не наше дело обсуждать новую линию… – А почему бы и нет? – настаивал рабочий. – Как же я буду выполнять задания партии, если они мне неясны? Кто в партии это выдумал? Для меня это новость… Однако кончилось тем, что он замолк перед новой теоретической лавиной, которую изверг Эйтор, и замкнулся в молчании, принятом врачом за молчаливое согласие с его доводами. На самом же деле железнодорожник, оставшийся далеко не убежденным, посматривал на этого элегантного, многословного молодого человека все с большим недоверием. «Как он отличается от Карлоса!» – подумал железнодорожник. С Карлосом он познакомился на совещании, когда тот был проездом в Куиабе… «Как он отличается от Карлоса, от Витора, от остальных товарищей, которых я встречал!» – думал Гонсало, садясь на предложенный ему стул. Эйтор, улыбаясь, уселся на кровати; он раздумывал, с чего начать. Сидевший против него человек был ему совершенно неизвестен, хотя в те времена, когда Эйтор был казначеем, он имел дело с большинством членов партии в Сан-Пауло. Эйтор не знал, кто он, но должен был убедить его в том, якобы знает его, должен был завоевать его доверие, расспросить об его истории (сенсационная глава для книги, если ему удастся ее написать)… – Я не знаком с вами, но знаю, кто вы. Товарищи перед отъездом сказали, что вы находитесь в этих краях. Мне поручено сообщить вам новости и получить отчет о вашей работе… Эта неопределенная фраза сбила Гонсало с толку. Великан, далекий от того, чтобы хоть в какой-то степени представить себе события, происшедшие в Сан-Пауло, и убежденный в том, что Эйтор – ответственный руководитель, подумал, что тот имеет в виду его подлинную личность. – Здешние товарищи ничего не знают, – сказал Гонсало. – Думают, что я прибыл из Сан-Пауло. Мне кажется, лучше оставить их в неведении… – И я так полагаю, – согласился Эйтор, насторожившись при этом неожиданном заявлении. «Он не из Сан-Пауло. Откуда же он, кто он такой? Возможно, он из Национального комитета, нужно будет выяснить. Дело оборачивается интереснее, чем казалось…» – Здешние товарищи, – продолжал он, – настолько слабо подготовлены, что с ними просто беда… Надо реорганизовать все руководство. Ответственный за организацию железнодорожник – сущий осел… – Я знаю только учителя… – Тоже беспомощный человек… Но с этим хоть, по крайней мере, можно разговаривать, у него хоть какой-то кругозор… Гонсало не был удовлетворен таким началом беседы: почему, чорт возьми, он все время сравнивает сидящего напротив человека с Витором и с Карлосом? Что у того за презрительное отношение к товарищам из Куиабы?.. Блестящие ногти, тщательно причесанные волосы, запах брильянтина на всю комнату – все это было Гонсало не по вкусу. Великан пытался выбросить из головы эти мысли. Ведь все говорило за то, что нужно отнестись к Эйтору с полным доверием: Гонсало было известно это имя, и он знал прошлое Эйтора, историю его процесса, а кроме того, товарищи никогда не открыли бы его местопребывание в долине человеку, не пользовавшемуся абсолютным доверием партии. Чем же тогда вызывается эта необъяснимая антипатия к нему? Пожалуй, Гонсало шокировал облик голливудского героя, презрение, с которым тот отзывался о товарищах из Мато-Гроссо. «Я сектант…», – повторил он самому себе. Эйтор конспиративно понизил голос: – Вы знаете, кто я? – Да. – Но, возможно, вы не знаете, что после недавних событий я был кооптирован в состав Национального комитета… – Каких недавних событий? Я ничего не знаю. Живу на краю света, новости сюда не доходят. Я впервые в Куиабе. – Потом я все расскажу вам подробно. Но прежде мне нужно услышать ваш отчет. Мне известно, что Карлос побывал у вас, но… Карлос исключен из партии, и мы не знаем, в какой степени он говорил нам правду. – Исключен? – Троцкист… Левый уклон… – Эйтор заявил это тоном сожаления. – Он завалил партийную работу в Сан-Пауло. Из числа членов районного руководства он ненавидел Карлоса больше, чем кого бы то ни было: Карлос больше других интересовался им, контролировал его деятельность, совал нос в его дела… Гонсало не скрыл своего удивления: – Это просто невероятно… А он на меня произвел такое хорошее впечатление. Казался таким преданным партии, таким дельным человеком. – Я тоже с трудом поверил. Но у нас в руках доказательства. Троцкист, и к тому же отпетый… Но сейчас послушаем ваше сообщение. Потом расскажу я… Гонсало начал говорить, еще находясь под впечатлением этой информации: за все время, что он жил в одиночестве на берегах реки Салгадо, в селве, среди кабокло, Карлос был единственным товарищем, с которым он виделся. От этой встречи у него осталось неизгладимое впечатление. Они сразу поняли друг друга, подружились, вместе разработали планы в связи с прибытием экспедиции инженеров и журналистов. А теперь эта потрясающая новость: Карлос оказался троцкистом, врагом партии! Если это так, даже и его собственная, Гонсало, безопасность находится под угрозой: от троцкистов можно всего ожидать, от них прямая дорога – в полицию! Нужно будет обсудить это с Эйтором. Он начал свой доклад, рассказав о том, как он узнал о создании «Акционерного общества долины реки Салгадо», как начал вести разъяснительную работу среди кабокло. Но Эйтор прервал его: – Руководство интересуется полным отчетом о вашей деятельности. Начните с момента своего прибытия в эти края. – После того как я был осужден, товарищи из Бани решили, чтобы я отправился сюда… – Гонсало монотонно стал рассказывать о своем героическом путешествии, о прибытии в долину, о своей работе. С самого начала рассказа Эйтор догадался о том, кто этот великан: ему было достаточно упоминания об индейцах Ильеуса. Среди членов компартии этот эпизод революционной борьбы – восстание в Парагуассу – всегда приводился как пример того, что работа в деревне имеет большое будущее. Кем мог быть этот товарищ, которому доверено столь важное поручение, как не знаменитым Жозе Гонсало, бесследно исчезнувшим несколько лет тому назад? – Я думаю, – сказал Эйтор, когда великан закончил свой рассказ и поделился занимавшими его проблемами, – что новая политическая линия партии разъяснит все ваши сомнения, товарищ Гонсало… – произнес он имя, которое у него будто случайно вырвалось. – Лучше продолжайте называть меня Мануэлем. – Верно, это была неосторожность… – Теперь Эйтор знал, кто это, такому открытию не было цены. Если даже он и не напишет книгу, чего бы только ни дали за это разоблачение Коста-Вале или те, кто руководит Камалеаном! Нужно будет не оставлять Камалеана совсем в стороне, следует и на него рассчитывать в своих планах. – Ну, хорошо, – продолжал он, – теперь слушайте внимательно, я вам объясню, что происходит в партии. А потом мы вместе сделаем необходимые выводы для вашей работы. Кроме того, если я и приехал сюда, то главным образом чтобы повидаться с вами, чтобы дать правильную ориентацию вашей деятельности… Послушайте… На этот раз он из осторожности воздержался от произвольных цитат. С таким товарищем, как Гонсало, это могло быть опасно. Он ограничился историей о мнимом исключении руководящих работников комитета Сан-Пауло, об изменениях в составе Национального комитета, куда якобы был выдвинут он и другие члены партии, выступавшие против «узко сектантской» политики Руйво, Карлоса, Жоана и Зе-Педро. До сих пор Гонсало не находил ничего такого, против чего можно было бы возразить. За исключением Карлоса, остальные приведенные имена ничего ему не говорили, он их не знал. Но когда Эйгор начал пространно критиковать политическую линию партии и излагать идеи Сакилы об индустриализации страны любой ценой, о союзе с «национальной буржуазией» (в качестве примера представителя прогрессивной буржуазии Эйтор привел Коста-Вале), о необходимости отказа от аграрной реформы и раздела земли, о неизбежности сотрудничества с иностранным капиталом для создания бразильской промышленности, Гонсало почувствовал, что все здание, на котором он до сих пор основывал свою революционную деятельность, рушится. А Эйтор утверждал далее, что ставка на создание демократического фронта с целью воспрепятствовать фашизации страны полностью провалилась; партия, заявил он, пришла к заключению, что только государственный переворот способен сбросить Жетулио и покончить с «новым государством». Гонсало все это показалось странным. Новая концепция буржуазно-демократической революции, союз с буржуазией, чтобы индустриализировать страну без разрешения предварительно вопроса об аграрной реформе, и в особенности тезис о перевороте, – все это находилось в резком противоречии не только с тем, что он читал в книгах, но и с окружающей его повседневной действительностью. Каждый из этих тезисов представлялся ему спорным, доводы Эйтора отнюдь не убеждали его. Под конец врач дал несколько советов, касающихся дальнейшей деятельности Гонсало: он предложил прекратить работу среди арендаторов и батраков фазенды Венансио Флоривала («пусть это останется на будущее, когда мы заложим основы нашей промышленности»), выкинуть из головы идею о насильственном срыве проникновения акционерного общества в богатую марганцем долину реки Салгадо. Организация такого мощного промышленного предприятия означает, по словам Эйтора, крупный шаг на пути к буржуазно-демократической революции. И к тому же, добавил он, это повлечет за собой образование здесь рабочего центра: Гонсало должен дождаться прибытия рабочих, чтобы действовать среди них. Надо будет появиться сразу же после прибытия в долину первой экспедиции компании, устроиться на работу, чтобы организовать партийную ячейку на основе новой всеобъемлющей программы, приспособленной к экономической действительности Бразилии, которая является полуфеодальной страной. – Чтобы разрушить стену феодализма, учтите это, товарищ, нужно сначала создать капиталистическую кирку… Но Эйтор не убедил великана. Много вопросов, доводов, сомнений роилось в мозгу у Гонсало. И первый вопрос, который сорвался y него с уст, был о том, что переполняло его сердце: – А кабокло? Они ведь возлагают на нас все надежды. Они готовы любыми средствами защищать свое право на владение землей. Даже если придется погибнуть с оружием в руках. Так же, как и индейцы колонии Парагуассу. И что же, мы их покинем в такой час? Крестьяне в окрестностях тоже начинают проникаться к нам доверием. Как же так? Эйтор улыбнулся с видом превосходства. – Сентиментальность… – Давайте обсудим, товарищ. Будьте терпеливы со мной – я человек простой, у меня не было возможности много учиться. Но все сказанное вами кажется мне противоречащим тому, что я изучал, противоречащим условиям жизни народа. Давайте обсудим, – куда это будет годиться, если я останусь при своем мнении. – В голосе великана почувствовалась такая искренняя нота, что на какой-то миг Эйтор заколебался. – Давайте обсудим, – согласился он. – Но как бы то ни было, я должен сказать вам, что речь идет о решении Национального комитета. Убеждены вы или не убеждены, ваша обязанность подчиниться ему. – А обязанность руководства – убедить меня, разъяснить мне и помочь. – Гонсало снова овладело чувство недоброжелательства, какое-то необъяснимое недоверие к этому человеку. Такая форма агитации показалась Гонсало в корне отличающейся от всей внутренней демократии партии, от того братского духа, к которому он привык, работая с Витором и другими товарищами из Баии. Эйтор почувствовал недоверие великана. – Конечно, давайте обсудим. Нелегко вначале убедить себя, ведь мы привыкли к старому курсу. Даже многим из руководства было трудно разобраться. Хотя новая ориентация – результат директив Коминтерна. – Коминтерна?.. – Да. Это вытекает из анализа, сделанного Коминтерном в связи с провалом китайской революции. Мы только что получили почту. – Эйтор лгал с непринужденностью; это было легче, чем находить аргументы, он уже истощил весь запас фраз, слышанных им от Сакилы при встречах в Сан-Пауло. Ветер поднял на улицах города красную пыль, она покрыла стекла в окнах комнаты. Великан пытался разобраться. В его широкой груди билось благородное сердце. Он хотел служить своему народу и своей стране, трудящимся всего мира, служить своей коммунистической партии. Ради этого он оставил спокойную жизнь, надежную работу, невесту, которой ему никогда не забыть, ради этого он вместе с индейцами взялся за оружие, был осужден на сорок лет тюрьмы, затем пересек леса и болота, построил себе хижину в неведомой селве, на которую теперь обращены алчные взоры иностранных миллионеров, властелинов войны и человеческих судеб. Напротив него, покуривая сигарету и слегка улыбаясь, сидел другой человек: сердце его было полно мелких чувств, он неизбежно должен был стать авантюристом, ренегатом (который кончает обычно тем, что его исключают из рядов партии), и для него судьба кабокло в долине, голод работников Венансио Флоривала, надежда, пробудившаяся в хижинах, неукротимое мужество и поразительная самоотверженность Гонсало не представляли интереса, ему нужны были только «сенсационные разоблачения» для продажи газетам, издателям, Коста-Вале или полиции. И он гордился собой, той ловкостью, с которой выяснил, кто такой этот великан, тем, как он лгал этому человеку. В этот час он уже не сомневался, что кончит работой для полиции. Гонсало смотрел в окно и видел, как в приносимой ветром красной пыли встают кабокло из долины, Ньо Висенте с его охотничьим ружьем, работники фазенды Венансио Флоривала и восторженный Нестор. Они называли его «Дружище», видели в нем олицетворение коммунистической партии, свое будущее, свою надежду. Его голос зазвучал громче и суровее: – Давайте обсудим, товарищ. Я ни в коей мере не чувствую себя убежденным… 8
За городом его объяла теплая, ясная ночь полей – ночь с бесчисленными звездами, успокаивающая и по-матерински нежная. Мыслям, одолевавшим великана из речной долины, было тесно в стенах гостиницы. Он вышел из здания. Миновал тихий, заснувший город и направился в поля. Ему нужен был воздух, открытые пространства, чтобы не задохнуться под тяжестью нахлынувших на него мыслей, под бременем огромной тревоги, возникшей из овладевших им сомнений. Он чувствовал себя так, будто его лишили привычных убеждений, в которых он черпал для себя силы; горькие, мучительные сомнения одолевали его. Гонсало любил пословицы: в них отражалась веками накопленная народная мудрость; одна из таких пословиц гласила: «Пустой мешок не стоит». Вот так получилось и с ним: из него вынули все, что до сих пор определяло его жизнь, а сомнение, явившееся на смену, было так непривычно и чуждо его прямодушной натуре, его характеру, ясному, как солнечное утро, что все это опустошило его. Тревога, которая возникла в нем после разговора с Эйтором, с особой силой овладела им ночью в номере гостиницы; казалось, что земля уходит у него из-под ног. Все аргументы, которые без конца приводил ему на протяжении вечера этот элегантный и самоуверенный молодой человек, представлялись Гонсало нелепыми; они противоречили окружавшей его действительности: голоду и нищете кабокло, батраков на фазендах, человеческому страданию, царившему на этих землях, где эксплуатация достигла чудовищных размеров. А между тем эти аргументы исходили как будто от руководства партии, из Москвы, от Коммунистического Интернационала – путеводного маяка, освещавшего путь коммунистам во всем мире. Тревога Гонсало возникла из неспособности понять доводы Эйтора, а не поняв, он не мог принять их. И однако он обязан был согласиться с ними; не подчиниться решению партии – такая мысль ему и в голову не могла прийти. Партия понимала все лучше, чем кто-либо из ее бойцов; на опыте повседневной работы Гонсало давно уже убедился, что партия всегда права. Сколько раз его личные мнения оказывались опровергнутыми во время дискуссии в партийной ячейке! И впоследствии на практике подтверждалось, что решение коллектива было правильным, а его личная точка зрения оказывалась ошибочной. Но в данном случае Гонсало никак не мог понять – почему партия приняла такое странное решение? «Один ум хорошо, а два – еще лучше», – любил он повторять. Как же допустить, что он, оторванный от мира, заброшенный в дикие леса на берегу реки Салгадо, мог оказаться правым, а партия – неправой? Он снова вспоминал и один за другим анализировал все доводы Эйтора, желая найти в них логику и правду, и приходил в отчаяние, с каждым разом находя их все более шаткими, неспособными выдержать критику. Что же произошло, почему он не в силах понять этот новый политический курс партии? Он сомневался в его правильности, сомневался, невзирая на все свои усилия принять его, поверить в его справедливость. И это сомнение наполняло Гонсало никогда дотоле не испытанной тревогой; он был в смятении, как малое дитя, внезапно лишившееся отца и матери. Почувствовав, что он задохнется в тесном номере гостиницы, Гонсало поспешно выбрался из города и пошел наугад. Его приняла в свое лоно глубокая ласковая ночь, напоенная ароматами, тишина земли, нарушаемая только отдаленным кваканьем лягушек на болоте и стрекотанием кузнечиков,– все это несколько его успокоило, как бы возвратило душе утраченное равновесие. Когда Гонсало стал рассказывать приезжему про Ньо Висенте и кабокло долины, про Нестора и тружеников фазенд, про Клаудионора и испольщиков Венансио Флоривала, этот субъект издевательски рассмеялся! «Сентиментальность…», – осуждающе произнес он. «Политику надо делать головой…» Но страдание, нищету кабокло и батраков Гонсало носил у себя в сердце, и вдруг сейчас, среди ночной тишины, нарушаемой лишь музыкой кузнечиков, он остро почувствовал всю фальшь этих слов, которыми Эйтор вычеркнул из темы беседы вопрос о кабокло и батраках: «Политику надо делать головой». Но нет! Не одной только головой делают коммунисты политику; не к одним только точным расчетам и бесстрастно поставленным целям она сводится! Политика для них – жизнь, а живут не только головой, которая рассуждает, но и сердцем, которое любит. Имя этого человека было ему знакомо, он знал о процессе, о кампании за его освобождение – он много слышал об Эйторе Магальяэнсе. Гонсало пришел к нему через посредство ответственного по району товарища, и Эйтор говорил с ним от имени национального руководства партии. И однако только сейчас, бродя без цели по полям под высоким звездным небом, понял Гонсало правду. Она открылась ему не по мановению волшебства; ему еще оставались неясны подробности. Но он открыл ее, как это мог сделать коммунист, преданный боец партии: «А что, если этот субъект – провокатор? Что, если он явился сюда не по заданию партии, а как агент врагов партии?» – думал он. Разве этого не могло быть? Гонсало знал о других подозрительных людях, которые, вступив в партию по самым различным мотивам, впоследствии или выходили из ее рядов сами, или их исключали, и они начинали работать на врагов. В Эйторе ему ничего не нравилось: ни холеные ногти, ни доводы; ни напомаженные волосы, ни легкомысленный тон разговора; ни самоуверенное выражение лица, ни пренебрежение, с которым он отозвался о кабокло… Ночь полей окружала Гонсало; она рассеивала нависшие над ним тяжелые тучи, вновь заполняла навеянную сомнениями пустоту, вновь вливала в него радость жизни. Но если это так, если он прав в своем подозрении – значит, над районной партийной организацией, над долиной реки Салгадо, над кабокло и батраками, над самим Гонсало нависла огромная опасность. Прежде всего надо установить истину. Но как это сделать? И после того, как она будет установлена, каким образом защитить партийную организацию, не поставить под удар свою работу в долине и на фазендах? Новые мысли и новые вопросы возникали перед ним. Однако, несмотря на серьезность положения, вызванного прибытием в Куиабу Эйтора, Гонсало чувствовал, что сознание его стало ясным, как свежий воздух ночи; он вдыхал могучий аромат земли, прислушивался к мелодичному стрекотанию кузнечиков, ощущал легкое дуновение ветерка – предвестника утренней зари. Гонсало не пугали трудности. Единственное, чего он боялся,– не расслышать голоса своей партии, утратить чувство гармонического единства с партией, которая, преодолевая человеческие страдания и бедствия, творит жизнь – счастливое завтра для людей. 9
На следующий день, рано утром, Гонсало явился к учителю и стал его расспрашивать о том, как здесь появился Эйтор и какие у него имелись документы. Учитель чрезвычайно удивился: он ни минуты не сомневался, что Эйтор мог оказаться кем-нибудь другим, а не тем, за кого он себя выдавал: руководящим работником Национального комитета партии. Он прибыл с рекомендацией Сакилы, а Сакилу учитель знал по своей поездке в Сан-Пауло. Имя Сакилы было известно и Гонсало: о нем говорил Карлос, когда был у Гонсало в долине. Но то, что Карлос сказал ему про Сакилу, только укрепило его в подозрениях об истинной сущности Эйтора. Учитель схватился руками за голову; он не мог этому поверить. Как же установить истину? Учитель был человек добрый и доверчивый; в его глазах за стеклами очков чудилось что-то детское. Он не пытался скрыть своей растерянности, в которую его повергло решительное утверждение Гонсало относительно Эйтора. – А если окажется, что он не провокатор? Если все это – лишь подозрения, лишенные всяких оснований? Наконец, он же известен в партии… Что скажет о нас национальное руководство? – Скажет, что мы бдительны. Вот все, что оно может сказать. Ответственность я беру на себя. – Он приехал с рекомендацией Сакилы. – У этого Сакилы были какие-то нелады с партией. Мне об этом известно. Возникал вопрос о его исключении… – Боже мой, какое затруднительное положение! А мы вчера вечером отдали ему все деньги, что нам удалось собрать за последнее время: вклад нашего района в центральную кассу партии. – Этот субъект еще долго собирается здесь пробыть? – Сегодня или завтра он должен выехать в Гойаз… Учитель нервно ходил по комнате. Гонсало поднялся со стула; его огромное тело, казалось, заполнило собой всю комнату. Было в нем нечто настолько бесспорно честное, что учитель вдруг поверил его подозрениям, несмотря на то, что против Эйтора не было никаких улик. – Есть только один выход. Вы или кто-либо другой из ответственных товарищей должен немедленно отправиться в Сан-Пауло. Связаться с партийной организацией, все выяснить. Если этот человек вне подозрений, я готов принять на себя ответственность за свои слова. Если он провокатор – а я так продолжаю думать, – деньги пропали… Но это меньшее зло. Самое важное – спасти организацию, товарищей, работу. Вы представляете, какой опасности подвергается весь район? Надо, чтобы кто-нибудь возможно скорее поехал в Сан-Пауло. – Мне никак нельзя. Но один товарищ в нашей организации бывал в Сан-Пауло и знает тамошних партийных работников. Он тоже не одобряет новый политический курс. – Кто он такой? – Железнодорожник, хороший товарищ. Он много спорил с Эйтором. Это сообщение обрадовало Гонсало. – И он тоже? Значит, не один я сомневаюсь. Ну что ж, пошлите его. – А вы? Что вы будете делать? – Сегодня утром я уже покинул гостиницу. Оставаться там опасно. Вы должны меня устроить где-нибудь, чтобы я смог дождаться возвращения вашего товарища из Сан-Пауло. Я не вернусь в долину, пока не узнаю правду. Без этого невозможно работать. Знаете вы надежное место, где бы я мог поселиться? – Как будто да. Дом, где останавливался Карлос. Это за городом. Дом принадлежит одному товарищу, который был раньше активным работником партии. Потом женился, переменил местожительство и отошел от работы, но остался хорошим, верным товарищем. У него безопасно… Да, в этом небольшом домике на границе земель крупной фазенды было безопасно; вокруг никаких соседей. Гонсало помогал хозяину в полевых работах. Хозяйка, обрабатывавшая землю вместе с мужем, не задавала Гонсало никаких вопросов. Как-то ночью, дня через два после того, как Гонсало поселился на новом месте, в комнату, где был повешен гамак для ночлега великану, – это была комната, в которой хранились лопаты, кирки, лошадиная упряжь, – вошел хозяин. – Пришел Валдемар с кем-то еще. Хотят вас видеть. Гонсало вскочил с гамака. Что это значило? Железнодорожник отправился всего лишь день назад, он еще не успел добраться и до Сан-Пауло. Его возвращения можно было ждать не раньше, как через неделю. Гонсало почти бегом устремился в комнату. При его появлении двое поднялись навстречу: учитель и какой-то худощавый молодой человек с серьезным лицом. Он представился Гонсало: – Меня зовут Жоан, я приехал из Сан-Пауло, у меня рекомендация Витора. – И он показал Гонсало в полураскрытой руке нелегальное удостоверение. Гонсало посмотрел на небольшой лоскуток красной ткани[136]. Его лицо осветилось улыбкой. – О! Ты, товарищ, прибыл вовремя. Я знал, что партия не замедлит появиться! Они горячо обнялись. Гонсало почувствовал, что его сердце забилось учащеннее, и сжимал Жоана в своих объятиях, как бы желая убедиться в том, что это не сон. – Нет, я прибыл не вовремя, а с большим опозданием. Этот бандит уже успел навредить во всем районе, и самое худшее, что ему удалось узнать о твоем существовании. – Он работает в полиции? – Если еще нет, то скоро будет. Учитель нервно потирал руки. – Вы оказались правы. Но как его можно было заподозрить?.. – Он выехал в Гойаз, – сказал Гонсало. – Тамошние товарищи уже предупреждены, и они окажут ему прием, какого он заслуживает. Это – агент Сакилы, самый зловредный из этой шайки бандитов. – Я ни о чем не знаю… – улыбнулся Гонсало. – Да, правда… – Жоан тоже слегка улыбнулся в ответ. – Но мы обо всем сейчас поговорим… – Пока вы будете разговаривать, я побеседую с хозяином дома, – сказал учитель. – Когда кончите, позовите меня. Выслушав рассказ Жоана, прочитав материалы – номер «Классе операриа» с сообщением об исключении из партии Сакилы и его группы и о раскрытии мошеннических махинаций Эйтора, характеристику «политического курса» отколовшейся группы как проявление самого подлого реформизма на службе у латифундий и иностранного капитала, – Гонсало сказал Жоану: – Я себя чувствовал так, словно вся тяжесть вселенной давила мне на сердце. Теперь легко… Жаль только, что этого мерзавца нет здесь передо мной, – я бы ему показал! – Он сжал огромный кулак, но с огорчением сразу разжал его: поздно. И продолжал: – Прежде всего, товарищ, я должен признать, что был недостаточно бдителен. Я даже не потребовал у этого субъекта документов и не спросил у товарища Валдемара, какого рода удостоверение тот ему предъявил. Я сразу же стал с ним разговаривать. И только когда он выложил передо мной весь свой запас вздора, у меня зародилось подозрение. Но это после того, как я открыл ему все о долине… – Знает ли он, кто ты в действительности? Или считает тебя Мануэлом, приехавшим из Сан-Пауло? – Знает. Потребовал от меня подробного отчета о всей моей деятельности. Следовательно, ему теперь все известно… – Это оказывается более серьезно, чем я думал. – Только ночью, после встречи с ним, у меня зародилась мысль, что он мог оказаться провокатором. Приходится признаться, что я действовал легкомысленно. – Здешние товарищи тоже заслуживают упрека. И мы, в Сан-Пауло, – тоже. Нам следовало послать сюда кого-нибудь, кто бы переговорил с товарищами и с тобой. Поглощенные собственной работой, мы не удосужились это сделать. Но это никак не оправдывает нашу халатность, наш серьезный промах. Мы играли безопасностью целой районной партийной организации, рисковали срывом важной работы. Этот вопрос должен быть обсужден Национальным комитетом. – Но что теперь делать? – спросил Гонсало. – Ему известно, что я здесь и подготовляю кабокло к отпору новому вторжению в долину; он знает, что я организовал ячейку из крестьян… – Мы пришлем кого-нибудь в помощь тебе. – Ты считаешь, что я могу там оставаться? Мне ничего другого не хочется. Кабокло меня полюбили; не знаю, отнесутся ли они с таким же доверием к моему преемнику? Я там уже давно, ко мне привыкли… Жоан опять улыбнулся: ему понравились слова Гонсало. – Разумеется, ты должен остаться. Никто лучше тебя не справится с этой работой. Только нельзя дольше оставаться на положении обыкновенного жителя долины, занятого обработкой своего клочка земли: наступило время перейти на нелегальное положение, исчезнуть из долины и с фазенд, превратиться в лесной призрак… – закончил он, снова дружески улыбнувшись. Великан поднялся, закрыв своей огромной фигурой керосиновый светильник так, что, казалось, в комнате потемнело. – Сейчас я расскажу тебе, как обстоит дело в долине и на фазендах. Мне еще самому не совсем ясно дальнейшее развитие событий, – хочу посоветоваться… – Прекрасно. Обсудим, и я передам наш разговор национальному руководству. Товарищ, который сюда приедет, привезет тебе конкретные указания… – Он помолчал и, прежде чем его собеседник начал говорить, добавил: – Мы пришлем тебе хорошего активиста, опытного в борьбе, но мало знающего деревенские условия. Он пережил недавно сильное потрясение. Во время забастовки в Сантосе была убита его жена. Мы хотим отвлечь его от мучительных воспоминаний и одновременно спасти от полиции: за организацию забастовки он привлечен к судебной ответственности. Он – негр, здесь его имя будет Эзекиэл. Ты можешь вполне на него положиться. Их фигуры при свете керосиновой коптилки отбрасывали на стену огромные тени. Прежде чем приступить к изложению своих вопросов, Гонсало резюмировал сказанное его собеседником: – Очень хорошо, что он приедет. Мы создадим на этих фазендах партийные ячейки. Для американцев жизнь в долине станет невозможной. Сейчас расскажу тебе, как мне представляется положение дел… Тени на стене все увеличивались; голос великана звучал, как голос бескрайней селвы, ее огромных рек, болот, где гнездились лихорадки, и фазенд, где рабы стонали от нищеты и голода, но все-таки жили надеждой! 10
Когда Жоан проснулся, все мускулы его тела болели: ему было неудобно лежать на скамейке вагона третьего класса. Он узнал пригородную станцию; еще какой-нибудь час, и поезд придет в столицу штата. Два дня назад он сел в поезд в Кампо-Гранде и еще никогда в жизни не испытывал такого желания помыться, как сейчас: тело его покрылось пылью, руки почернели, волосы свалялись. Он выглянул в окно и увидел на платформе пассажиров с сан-пауловскими газетами в руках, что-то оживленно обсуждающих. Ему удалось прочитать один из крупных газетных заголовков: «Попытка интегралистов совершить государственный переворот»[137]. Он поднялся, выскочил из вагона, купил номер газеты, почти вырвав его из рук продавца. Пробежав глазами заголовки, вернулся в вагон и схватил свой чемодан. «Вокзал в Сан-Пауло сейчас, наверно, кишит шпиками. Безопаснее сойти здесь и остальную часть пути совершить в автобусе». Прибыв после полудня в Сан-Пауло, он нашел город спокойным, лишь улицы патрулировались конной полицией. Поспешил купить экстренные выпуски газет и узнал из них, что накануне интегралисты в союзе с армандистами пытались произвести путч против правительства. Они внезапно напали на дворец Гуанабара – резиденцию президента республики – и чуть было не убили Варгаса. Диктатору под защитой его телохранителей удалось продержаться до прибытия подкреплений. Бои развернулись и в других местах, особенно ожесточенный – в Военно-морском арсенале, где солдаты батальона морской пехоты подавили попытку мятежа офицеров-интегралистов. Переворот не удался, арестованы очень многие – интегралистское руководство и некоторые политические деятели, связанные с Армандо Салесом. Одна из газет сообщала, что бывший кандидат на пост президента республики задержан у себя на квартире. Аресты произведены и в Сан-Пауло, где полиция заняла помещение редакции газеты «А нотисиа». В перечне арестованных Жоан прочел имя Антонио Алвес-Нето. Местопребывание Плинио Салгадо, по сообщению другой газеты, осталось якобы неизвестным властям, разыскивавшим руководителя «Интегралистского действия», чтобы выяснить степень его участия в заговоре. Прочитав последнее сообщение, Жоан саркастически улыбнулся: как могла полиция не знать, где находится Плинио Салгадо?.. И как можно сомневаться в его причастности к заговору?.. Разумеется, с ним ничего не случится: в тюрьмы посадят рядовых интегралистов, а вожаков, пойманных с поличным, не замедлят освободить. И они кончат тем, что договорятся с Жетулио… Как бы там ни было, но это – событие большой важности, и Жоану очень хотелось поскорее встретиться с товарищами из секретариата. Когда он приехал к Мариане, ее не было дома. Мать Марианы сказала, что она ушла с утра, не позавтракав, как только прочла газеты, и с тех пор не возвращалась. Жоан принимал ванну, когда Мариана вернулась. Выйдя из ванной комнаты, он застал ее на кухне, она завтракала. Она вскочила из-за стола и бросилась в его объятия: ведь всякий раз, когда Жоан уезжал, она не была уверена, увидятся ли они вновь и удастся ли ему благополучно выполнить свое задание. Она была готова к известию, что он схвачен полицией. Поэтому, когда он благополучно возвращался, она в первую минуту бывала неспособна произнести ни одного слова, всецело охваченная радостью снова видеть его, иметь возможность обнять и поцеловать. – Итак, – сказал Жоан, – интегралисты подняли голову и заявили о себе; мы это предвидели. А Сакила хотел вовлечь нас в такую авантюру!.. – На завтрашний вечер назначено заседание секретариата… – сообщила Мариана. – Товарищи очень обрадуются твоему приезду. Никто не знал, когда ты возвратишься… – Она, еще взволнованная, снова всмотрелась в любимое лицо и только после этого задала обычный вопрос: – Все в порядке? – Мне следовало приехать туда раньше. Этот мерзавец Эйтор уже успел там побывать; сбил с толку тамошних товарищей. А почему, – переменил он тему, – собрание назначено только на завтра? Почему не сегодня? Надо немедленно обсудить обстановку, создавшуюся в результате попытки интегралистского переворота. – Зе-Педро рассчитывает, что не сегодня-завтра должна прийти директива от национального руководства. – Это правильно. Но так или иначе, а времени нам терять нельзя. Необходимо разъяснить массам смысл этого выступления; выдвинуть требование наказания интегралистов и ареста Плинио Салгадо. А одновременно с этим потребовать от Жетулио отмены ноябрьской конституции, амнистию для узников тридцать пятого года. Мы должны использовать это событие для усиления нашей борьбы как против интегрализма, так и против «нового государства». Надо немедленно принимать практические меры. – Они приняты. Уже сегодня должна состояться антиинтегралистская демонстрация. Наши активисты ее готовят, ячейкам на местах даны указания… – Вот это хорошо. Теперь ты пойдешь к Зе-Педро и сообщишь о моем приезде. Я мог бы с ним встретиться еще сегодня и начать работу. А пока ты вернешься, я составлю отчет о поездке. Но, прошу тебя, не медли… Мариана кончила завтракать. – Сейчас же отправлюсь, – сказала она, вставая из-за стола. Жоан смотрел на нее и гордился своей мужественной и преданной подругой. Его трогало ее молчаливое понимание. У них оставалось мало времени друг для друга и, тем не менее, из уст Марианы до сих пор не вырвалось ни одной жалобы. Никакая разлука не могла бы отдалить их друг от друга. – Вечером, когда я вернусь, мы с тобой обо всем поговорим. Мариана ласково рассмеялась. – Хорошо, если ты вернешься к рассвету… Обещай, что разбудишь меня, когда придешь… У меня для тебя новость. – Она зарделась и, улыбаясь, продолжала: – Нет, лучше я скажу тебе сразу. Дела обстоят так, что ты, может быть, сегодня и не возвратиться, пропадешь на сутки, и мы с тобой увидимся только завтра вечером, на собрании. А новость эта не такая, чтобы сообщать ее при других. – Что же это такое? – Мне кажется, что я… что я опять… Ее смущенная улыбка была красноречивей слов. Жоан не дал ей договорить: – Ждешь ребенка? – В его взволнованном голосе звучала надежда. Мариана молча кивнула головой, и лицо ее было в этот миг нежно и прекрасно. Жоан привлек ее к себе; мягкие каштановые волосы Марианы коснулись его груди. – Как хорошо, Мариана! Как хорошо!.. – Обняв ее и как бы охраняя, он довел Мариану до двери. – До свидания, маленькая мама… Будь осторожна! 11
Открыть ему страшную правду? Сказать, пряча свою белокурую голову на его широкой груди: «Лукас, я беременна, что мне делать?» Но где найти мужество, чтобы произнести эти слова и взглянуть ему в лицо, услышать неизбежные горькие упреки брата, чья любовь – единственное, что еще оставалось у нее? Уже несколько раз в этот вечер слова были готовы сорваться с ее губ, но в последнюю минуту она удерживала их, пряча свою тревогу в глубине страждущего сердца: у нее нехватало мужества их произнести. А между тем, ей необходимо было с кем-нибудь поделиться, просить совета, искать утешения, услышать слово ласки, хоть немного разогнать тот тревожный мрак, в который ее повергли несомненные признаки беременности. Полуразвалившись на диване, Лукас рассказывал Мануэле о событиях предыдущего вечера, которые привели его к непосредственному общению с главой государства и раскрыли новые, грандиозные перспективы для всех его замыслов. В своем рассказе – это был сплошной поток взволнованных фраз – он часто возвращался к уже сказанному, чтобы упомянуть о забытой детали, чтобы процитировать слова, произнесенные Жетулио в наиболее драматические моменты выступления интегралистов. – Я совсем было позабыл… В самый опасный час, когда казалось, что интегралисты стали господами положения, именно тогда президент сказал… – Он подражал южнобразильскому акценту Варгаса; каждую цитату Лукас завершал утверждением: – Президент – настоящий мужчина, Мануэла. Я никогда не видел такого хладнокровия… Мануэла улыбалась ему, несмотря на свою печаль. По крайней мере, она теперь освободилась от тревоги, которая мучила ее после телефонного звонка Лукаса сегодня утром. Теперь брат с ней, цел и невредим. Она ведь продолжала тревожиться, пока он к вечеру не явился, веселый и ликующий. Обнимая брата, Мануэла ощупывала его руки и грудь, стараясь отыскать следы воображаемых ран. Облегченно вздохнула, убедившись, что он остался невредим после бурных событий вчерашнего вечера. В слезах целовала и обнимала его, повторяя шопотом: – Слава богу! Слава богу! Хоть у него все благополучно… А для нее сегодняшнее утро было кошмарным. Телефонный звонок Лукаса разбудил ее еще на рассвете. Конечно, он хотел ее успокоить, но вместо этого поверг в тревогу. Он говорил с ней из дворца Гуанабара: интегралисты сделали попытку совершить путч, напали на дворец, и он, Лукас, вместе с Эузебио Лимой поспешил на защиту президента. Он утверждал, что все уже кончено, путч подавлен, и он звонит ей только для того, чтобы она не тревожилась, не придавала значения сообщениям газет и не обращала внимания на полицейские патрули в городе, а спокойно сидела дома («самое лучшее тебе сегодня совсем не выходить на улицу; вечером я к тебе заеду»), – несмотря на все это, Мануэла провела несколько тревожных часов. Зачем Лукас вмешивается в эту смуту? А если днем все опять возобновится, если в него попадет пуля и она лишится и брата? Как будто недостаточно тех мучений, что свалились на нее с того вечера, когда она решилась, наконец, пойти к врачу на освидетельствование (она выбрала незнакомого врача по объявлению в газете: «Врач с большой практикой в больницах Парижа»)? С того дня она жила в полном смятении чувств, вызванном решительным заявлением доктора: – Можете порадовать вашего супруга приятной вестью, дорогая сеньора. Беременность, по меньшей мере, двухмесячная… Ласковая фраза доктора заставила ее побледнеть: «порадовать супруга…» Ведь у нее нет мужа, которому она могла сообщить эту новость, столь радостную в ином положении: если бы дома ее дожидался Пауло и встретил ее теми словами нежности, какими обычно мужья встречают весть об ожидающемся первенце. Ее муж… Нет у нее мужа, ребенку не придется носить имя отца… Ее реакция была так сильна, что врач сразу опустил глаза и посмотрел на руку Манузлы – на пальце не было обручального кольца. По доброму лицу седого врача скользнула мимолетная улыбка. Мануэле, почувствовав этот взгляд, сначала пыталась спрятать руку, а затем закрыла ею вспыхнувшее от стыда лицо. Улыбка сбежала с губ врача; он внимательно посмотрел на стоявшую перед ним молодую женщину, такую прекрасную и такую печальную, добродушно похлопал ее по спине и ободряюще сказал: – Может быть, теперь, получив такое известие, он решит жениться… Я знал много подобных случаев… Мануэла не могла сдержать слез. Она испытывала желание открыться этому незнакомому врачу, рассказать все о Пауло, о чувствах, которые ее терзали, подобно тому, как шквал на море бросает по волнам утлый челн без руля и парусов. Но что даст ей эта откровенность? Не вникая, безучастно слушала она наставления доктора: каждое утро немного гулять, избегать такой-то и такой-то пищи, ежемесячно приходить на освидетельствование… Сколько раз раньше мечтала она об этом радостном дне, когда станет известно, что у нее должен родиться первый ребенок! Каких только планов она ни строила! Было время, когда эти мечты представлялись ей осуществимыми, когда последовательность событий вырисовывалась перед ней прекрасной, исполненной гармонии и ясности. День, когда она узнает о своей беременности, казался ей счастливее, чем вожделенный день свадьбы. Да, так было, но это время прошло… Все, что осталось от Пауло, – это горькое воспоминание и унизительное разочарование. Теперь для нее в жизни существовало только искусство. В одном из стихотворений Шопела поэт говорил, что он «одинок, будто кактус колючий в пустыне»; именно такой одинокой чувствовала себя Мануэла после разрыва с Пауло. Все, что Мануэле осталось, это – танцы, и она отдалась им со страстью, стараясь забыть свое недавнее мучительное прошлое, свои погибшие мечтания, свои утраченные иллюзии. Преподавательница танцев – она очень хорошо относилась к своей ученице, – узнав о ее разрыве с Пауло, открыла Мануэле некоторые истины, о которых раньше не решалась ей говорить: рассказала, что Пауло и Шопел для собственного развлечения придумали создать из нее танцовщицу, признала, что у нее недостаточная техническая подготовка, и чтобы стать настоящей танцовщицей, ей еще надо много учиться и работать. У нее призвание к танцам, она рождена для этого искусства, но если она будет и дальше поступать так, как до сих пор, – жить похвалами прессы, вызванными, несомненно, не только первыми успехами на сцене, но и ее красотой, а также престижем ее шефов, Пауло и Шопела, в артистических кругах, – если она будет считать себя уже готовым мастером своего искусства, то не сможет дальше совершенствоваться и очень скоро наступит день, когда недостаток знаний и опыта сведет на нет ее врожденное дарование, и она останется рядовой танцовщицей варьете, никогда не сможет овладеть тайнами подлинного балетного искусства. Мануэла все это выслушала и поняла. Поступок Пауло, бросившего ее для того, чтобы жениться на миллионерше – племяннице комендадоры да Toppe, – не только показал истинное лицо Пауло, но и сразу разоблачил все, что прикрывалось блеском парадоксов и утонченных теорий литературной и артистической среды: весь этот расчетливый эгоизм и циничное стремление к карьере – все, что ее окружало. А Шопел, кому она доверилась, как близкому другу, разве он с каждым разом не становился все более настойчивым, добиваясь обладания ее телом, стремясь стать преемником Пауло в ее постели? Сначала он ограничивался намеками, потом перешел к декламации: объяснялся в любви и обещал организовать ее турне по Европе, субсидируемое правительством. Одинокая, замкнувшаяся в своей оскорбленной гордости, она даже не смела взглянуть в глаза брату, когда он, приехав в Рио, навестил ее. Без рассуждений отдавшись Пауло, не покрыла ли она бесчестием имя Лукаса? Сможет ли она снова полюбить? Противоречивые чувства волновали ее в эти дни. Если значительная часть ее страданий возникала из мещанского представления о бесчестии, явившегося результатом ее воспитания, то, с другой стороны, решение, отказавшись от всего, целиком уйти в свое искусство, снова и снова учиться, никогда больше не использовать свою красоту как средство для достижения славы, отказаться от шумного и легкого успеха, учением и трудом достичь подлинных вершин балетного искусства – все это явилось плодом врожденной чистоты и порядочности ее натуры. К этим выводам она пришла и под влиянием своей уязвленной гордости: она докажет Пауло, что способна добиться успеха и без его помощи, без той поддержки, которой он воспользовался, чтобы завоевать ее доверие. В дни, последовавшие за разрывом с Пауло, она вспоминала свою жизнь, начиная с вечера их первой встречи в сверкавшем ослепительными огнями луна-парке. И без труда поняла, как фальшивы были их взаимоотношения с Пауло. Ее желание танцевать, ее призвание балерины – прекрасный сон, скрасивший убогую жизнь в жалком домике предместья, – все это оказалось для Шопела и Пауло не более, как поводом для очередной выдумки, для «сенсационного открытия», которым они, по выражению Шопела, «хотели нарушить унылую скуку нашей литературной и артистической жизни». Им надо было лишь поразвлечься и посмеяться над своей забавной затеей. Именно ради этой цели и для того, чтобы овладеть Мануэлей, Пауло и разыграл с ней комедию безумной страсти. Об этом можно было легко догадаться с самого начала, если бы она не была наивной, не была ослеплена светом, внезапно хлынувшим в сумрак ее меланхолического существования и заставившим ее поверить и в свой успех, и в любовь Пауло. Шопел, часто ее навещавший после исчезновения Пауло, кончил тем, что рассказал ей правду во всех подробностях, но при этом постарался неблаговидные стороны дела целиком свалить на приятеля, а себе приписать только хорошие: устройство выступления Мануэлы на приеме у комендадоры да Toppe в честь главы государства, ангажемент в Рио, содействие ее широкой популярности как восходящей звезды. Шопел уверял, что, познакомившись с Мануэлой, он сразу отказался от первоначального намерения – позабавиться, никогда не смешивал ее с их предыдущими «открытиями»: с нелепой художницей Сибилой, жалким безумцем Жермано д'Анунсиасаном, провинциалом Ролином, мгновенно, за одну ночь, превращенным в литературного критика самой влиятельной газеты Рио, диктующего романистам и поэтам законы творчества. Он, Шопел, сразу же разглядел талант Мануэлы, ее призвание, не теряя времени принялся прокладывать ей дорогу; он делал это бескорыстно, не рассчитывая ни на какую награду с ее стороны, поскольку она была увлечена Пауло и даже не замечала преданности Шопела. Теперь он говорил об этом, уставившись на нее своими воловьими глазами и как бы намекая на то, что момент для благодарности наступил: ведь теперь она знает, кто только играл ее чувствами, а кто всегда был ей предан и верен… Однако Мануэлу нельзя было больше обмануть. Месяцы, прожитые в этой среде, превратили ее из наивной девушки предместья в много пережившую и поэтому недоверчивую женщину. Она без труда разгадала намерения Шопела еще до того, как он успел вступить в фазу высокопарных любовных признаний, и, почувствовав непреодолимое отвращение к поэту, стала, насколько возможно, его избегать. В течение нескольких дней до этого открытия она еще считала Шопела своим единственным другом, но теперь он представлялся ей подобием всех тех людей, с кем ей пришлось столкнуться за последнее время, – Пауло, Артур, Мариэта, комендадора, Коста-Вале, Эузебио Лима, композитор Сидаде, раздувшийся от амбиций и тщеславия, – воплощением всего, что думали, к чему стремились эти люди, для которых единственной ценностью в жизни являлись деньги, олицетворением мира, где было необходимо на каждом шагу «проституироваться», как однажды выразился Шопел. Мануэла решила целиком отдаться искусству, учиться, стать настоящей балериной, собственными усилиями добиться приема в труппу муниципального театра, с тем чтобы в один прекрасный день бросить выступления в варьете, съемки в музыкальных фильмах, перестать заниматься профанацией искусства, на которую ее толкали Пауло и Шопел. Но наряду с этим она почувствовала себя очень слабой, неспособной преодолеть препятствия и устоять перед соблазном легкого успеха. Ей казалось, что она не сможет примириться с тем, что ее фотографии больше не появятся на страницах газет и журналов. Хватит ли у нее решимости вступить на трудный, суровый путь борьбы, которая принесет плоды лишь в отдаленном будущем? В одну из ночей, когда она, вернувшись из варьете, никак не могла заснуть, терзаемая этими противоречивыми мыслями, она ощутила первые признаки беременности. Вначале она еще надеялась, что ошибается. «Но что делать, если это правда?» – в ужасе спрашивала она себя, разметавшись на постели, пряча лицо в подушку, совершенно убитая этим последним открытием. После того, как врач подтвердил правильность этих подозрений, все свои дни она проводила в скорби и слезах. Ребенок!.. Как она его хотела, как о нем мечтала в дни обманчивых надежд на брак с Пауло, на создание семейного очага, на счастливую супружескую жизнь. Но теперь эта долгожданная новость вызвала в Мануэле ужас: она оказалась страшнее всего. Сын, который не сможет носить имя своего отца, незаконнорожденный ребенок, которому на протяжении всей жизни придется расплачиваться за ошибку, совершенную его матерью… Она чувствовала себя настолько несчастной, настолько беспомощной, что даже помышляла о самоубийстве. Однако новая жизнь, это зародившееся в ней живое существо… – Нет, она не имела права его убить! Она обязана была бороться за него, должна была проявить мужество и добиться для своего ребенка имени его отца; обратиться к Пауло и… Обратиться к Пауло… Она больше не имела о нем никаких сведений. Шопел рассказывал о новых попойках молодого дипломата, о его скандальном романе с Мариэтой Вале; больше она о нем ничего не знала и не хотела знать. Пауло сохранился в ее памяти таким, что ей не хотелось видеть его; она была вполне искренна, когда указала ему на дверь. Но сейчас, думая о ребенке, который должен родиться, Мануэла решила обратиться к Пауло, сказать ему, что нет другого выхода, кроме брака: У ребенка должен быть отец! Нельзя допустить, чтобы всю жизнь ему пришлось нести позорное клеймо незаконнорожденного. Тем временем Лукас продолжал свой рассказ: он повествовал о ликвидации боевых групп интегралистов, о грузовиках, выезжавших сегодня рано утром из дворца Гуанабара, – они были доверху нагружены трупами. Мануэла слушала брата, но мысли ее были далеко; с момента, когда она воочию убедилась, что Лукас цел и невредим, она перестала беспокоиться о нем. Должна ли она сообщить брату о случившемся? Прервать его рассказ о выстрелах и убитых и сказать о своем несчастье, попросить у него совета? Но брат казался ей таким веселым и счастливым, рассказывая о важных заданиях, порученных ему за истекший день диктатором, о похвалах главы государства по его адресу, о знаках оказанного ему внимания, что Мануэла не находила в себе мужества испортить ему этот триумфальный вечер, поведав ему свое горе, свое отчаяние. Дела Лукаса идут хорошо, зачем отравлять ему радость этой печальной новостью? И чем он ей может помочь? Нет, она сама должна обратиться к Пауло, объяснить ему все, во имя ребенка потребовать, чтобы он на ней женился, если окажется необходимым, – настаивать на этом… Нет, Лукас здесь ничем не может помочь… Поэтому лучше ни во что его не посвящать. Ведь раньше, когда Пауло от нее ушел, она ничего не рассказала брату. Тогда она тоже хотела открыться ему; рассказать, как она была обманута, и в заключение рассмеяться, будто конец этого пошлого романа не особенно ее тревожил: обыкновенная история девушки до замужества… Казалось, и Лукас не был расположен выслушивать ее откровенные признания; он только поспешил ей сказать – когда она ему намекнула на свой разрыв с Пауло, – чтобы она не придавала этому значения, что рано или поздно явится жених, достойный ее, гораздо лучше Пауло. – В конце концов… – сказал он, прощаясь – …в конце концов он был тебе полезен, помог начать карьеру. Теперь тебе нужно только заниматься своим делом и не тосковать о Пауло; уверяю, он не единственный мужчина на земле. Твоя карьера – вот что важно. А в женихах недостатка не будет, и через некоторое время ты сможешь, Мануэла, выбрать, какого захочешь… У меня найдутся деньги, чтобы купить тебе мужа с куда более громким именем, чем у Паулиньо… Он ласково погладил ее по голове, как бы стараясь утешить, и вышел. В первую минуту Мануэла не могла понять Лукаса: он держал себя так, будто боялся подробного рассказа об ее отношениях с Пауло, старался избежать ее исповеди, боялся правды, Может быть, ему уже все известно или он просто не хочет окончательно в этом увериться? Точно он боится, чтобы сердечные неудачи сестры не помешали головокружительному развитию его карьеры. Мануэла почувствовала себя сначала уязвленной, но затем решила, что это – проявление деликатности Лукаса, желание избежать унизительных признаний с ее стороны. Ведь ему пришлось бы тогда выразить свое осуждение, а это противоречило его братским чувствам. «Разумеется, это именно так», – думала Мануэла, и в ней возрастало чувство восхищения братом. Лукас совсем не похож на нее: он сильный и решительный, умеет всего добиваться в жизни. И вот опять брат сидит с ней рядом, а она слушает его взволнованную речь, восхищается им; и опять у нее на сердце безысходная горечь. Где взять мужество, чтобы рассказать ему обо всем, вплоть до последней новости, такой чудесной и в то же время такой ужасной?.. Как нарушить восторженное возбуждение Лукаса, посвятив его в свои горести? Конечно, и на этот раз она ему ничего не скажет; она сама должна искать выход. Между тем Лукас кончил рассказывать, и Мануэла почувствовала, что она должна что-нибудь ответить, проявить какой-то интерес; нельзя больше молчать. Она спросила: – А как ты попал во дворец? – Разве я тебе не рассказывал? За мной в отель явился Эузебио Лима. Как только начался штурм, ему позвонили из дворца и велели собрать верных людей на помощь президенту. Вместе с ним и преданными доктору Жетулио людьми я направился во дворец. Но добраться до него оказалось нелегко. Двое из наших товарищей были ранены… – И умерли? – Один умер на месте, другого отвезли в госпиталь; я думаю, он не выживет: пуля попала ему в спинной хребет. Некоторое время я уже считал, что все погибло, что они убьют и президента и всех нас… – Какой ужас! Лукас закурил сигарету. – Однако все закончилось великолепно, и отныне, Мануэла, я вхож во дворец; президент меня хорошо знает. Теперь банки откроют мне кредит; все у меня пойдет прекрасно, и я начну загребать деньги по-настоящему. С протекцией президента куда только я ни проникну! Все эти коста-вале окажутся у меня в кармане, вот увидишь… – Он взял Мануэлу за руку, и на его смуглом лице засияла торжествующая улыбка. Бросив на сестру нежный взгляд, он продолжал: – Готовься к тому, что любое твое желание будет исполнено. Скоро наступит день, когда я смогу дать тебе все, что ты захочешь, даже то, что сейчас представляется тебе недостижимым. – В его голосе звучало то же беспредельное честолюбие, какое Мануэла замечала у него, еще когда он откровенно делился с ней своими планами там, в их бедном домике в предместье Сан-Пауло. Мануэла отвернулась, чтобы брат не заметил выступившие у нее на глазах слезы. На побережье и на море, на небоскребы, на патрулирующих по улицам солдат спускался тихий вечер. Продавцы газет выкрикивали заголовки экстренных вечерних выпусков. Услышав заглушенное рыданье сестры, Лукас очнулся от своих мыслей. – Ты плачешь? До сих пор не можешь забыть Пауло? Сдерживая слезы, Мануэла отрицательно покачала головой. – Тогда почему же ты плачешь? Что с тобой? Где взять мужество, чтобы рассказать ему, открыться перед ним, разделить с ним свое страдание? – Я так счастлива, что с тобой ничего не случилось… так счастлива… – И у нее снова вырвались рыдания, похожие на беспомощный плач покинутого ребенка. 12
Пронзительный голос истерически-возбужденной Энрикеты Алвес-Нето доносился до них через тяжелые бархатные портьеры, отделявшие соседнюю комнату от кабинета, где Коста-Вале беседовал с Артуром Карнейро-Маседо-да-Роша: – Они совсем, как коммунисты… Хотят отнять у нас собственность! – Не волнуйся, Энрикета. Ничего они не отнимут… – прозвучал голос Мариэты, утешавшей приятельницу. Коста-Вале провел рукой по лысине. – Идиоты!.. – В его словах звучало глубокое презрение. – Вот здесь, в этом самом кабинете, я предупреждал Алвес-Нето, старался предостеречь его против глупости, какую он собирался совершить. Он меня не послушался, и теперь ему придется расплачиваться за последствия. – Они забрали и газету, теперь она принадлежит правительству… – всё более возмущаясь кричала Энрикета. – Чем они отличаются от коммунистов? Веселый мужской смех сопровождал эти слова. Кто-то негромко проговорил: – Неплохо сказано… Артур Карнейро-Маседо-да-Роша, сидя в кабинете, тоже рассмеялся, услышав, что Энрикета обвиняла правительство Жетулио в коммунизме. Он заметил: – Бедняжка совсем потеряла голову. Знаешь ты что-нибудь о Тонико? – Он содержится в комфортабельном помещении при казарме военной полиции; ему не так уж плохо… – Ну, а газета? – Что ж… И у меня ведь немало ее акций. Потом займемся и этим. Ясно, придется хоть на время сменить руководство. А кто велел Тонико делать революцию? Помнишь, когда я вернулся из Европы, – вы тогда уже ввязались в эту авантюру, – что я тогда тебе советовал? – Ты был прав. Я вышел вовремя из игры. Теперь Жетулио утвердился, по меньшей мере, лет на десять. Он крепче скалы. На этот раз он ликвидировал все, что оставалось от оппозиции: интегралистов и группу Алвес-Нето… В соседней комнате Энрикета продолжала настаивать на своем: – Они ничуть не лучше коммунистов. Коста-Вале поудобнее уселся в кресле. – Вся оппозиция… Нет, Артурзиньо, к сожалению, это вовсе не так просто. Ты был вечером в центре города? – Нет, не был… А что? – Состоялась крупная рабочая демонстрация. – В поддержку Жетулио? – Да, формально это была демонстрация против интегрализма. Много народу, много плакатов, время от времени кто-нибудь на перекрестке произносил речь. На первый взгляд все выглядело очень хорошо, и я даже подумал, что это работа министерства труда. Но стоило только вглядеться повнимательнее… – И?.. – …и можно было сразу заметить руку коммунистов. Среди лозунгов против переворота были и другие лозунги, требовавшие свободы забастовок, собраний, печати… амнистию и многое в этом роде. А полиция ничего не могла поделать, ты понимаешь? Как нападать на рабочих, которые демонстрируют против попытки государственного переворота? – Они не дураки, эти коммунисты… – Вот все, чего добился Тонико своей нелепой затеей переворота: открыл ворота коммунистам… Они используют эти дни, когда у правительства буквально связаны руки и оно ничего не может против них предпринять. А эти идиоты, интегралисты, вместо того, чтобы помочь Жетулио ликвидировать коммунистическую заразу, решают напасть на дворец Гуанабара… Болваны!.. Артур Карнейро-Маседо-да-Роша своим холеным ногтем сбил пепел сигареты в хрустальную пепельницу. – Я думал, что коммунисты были ликвидированы после забастовки в Сантосе… – Ликвидированы? Они растут, как сорная трава. Я скажу тебе, Артурзиньо, то, чего до сих пор еще никому не говорил… Он понизил голос, на его бледном лице появилось озабоченное выражение. Заинтересованный Артур наклонил голову. – Временами мне становится страшно… – Страшно? Тебе? – Да. Это кажется невероятным, не правда ли? И, однако, это сущая правда. Нельзя ступить шагу, чтобы не обнаружить присутствия этих бандитов. Они дают о себе знать даже в банке, и могу ли я быть уверенным, что среди моих служащих нет коммунистов? На улицах, на стенах домов – всюду их лозунги. Рабочие с каждым днем все больше наглеют. И даже эти изголодавшиеся кабокло в долине, даже они – ты только подумай! – поджигают лагерь экспедиции специалистов… Куда бы ты ни пошел, повсюду они угрожают нам. И хочешь ты этого или нет, тебе приходится о них думать. – Он на минуту замолчал, лицо его стало еще более мрачным. – Необходимо покончить с этими людьми… Иначе нельзя жить в мире, нельзя спокойно заниматься своими делами. Невозможно. Артур потушил кончик сигареты, прижав ее к пепельнице, и задумчиво проговорил: – Иногда я задаю себе вопрос: не проиграна ли уже эта битва?.. Не к коммунизму ли идет мир, – хотим мы этого или нет? Иногда я думаю, что это неизбежно. Бледное лицо банкира снова оживилось, будто он превозмог боязнь: это был снова человек несгибаемой воли. – Почему? Ты предпочитаешь сидеть сложа руки? Нет, я так не думаю. Иногда мне бывает страшно: а что, если наступит такой день, когда они отнимут у меня все, что я завоевал? Но именно поэтому я прихожу к выводам, диаметрально противоположным твоим. Я думаю, мы можем покончить с ними и должны это сделать возможно скорее. – Но ты же сам говорил, что они растут, как сорная трава… – Необходимо вырвать ее с корнем. Не давать пробиться ни одному новому ростку… Корни коммунизма далеко от нас: они в России… – Экс-депутат сделал жест сомнения, но Коста-Вале не дал ему возразить: – Подожди. Не думай, что я говорю о деньгах Москвы и о прочих полицейских выдумках. Все это – для газетных писак, а не для нас. Когда я говорю, что корни коммунизма в России, я имею в виду, что само существование коммунистической России – наиболее страшная опасность. Это пример для коммунистов остальных стран; всюду можно сделать то, что осуществлено там. – Экс-депутат утвердительно кивнул головой, и Коста-Вале продолжал: – Необходимо покончить с коммунистической Россией. Покончить раз и навсегда. Это сделают Гитлер и Муссолини, но для этого им нужна помощь всех правительств… – Огонь разгорается из-за чехословацкой проблемы. Франция… – Выбрось это из головы. Если ты думаешь, что Франция и Англия начнут войну в защиту Чехословакии, значит, ты ничего не понимаешь в международной политике. Мы идем к объединению всех стран – включая Соединенные Штаты – вокруг Гитлера для войны против Советской России. Это так же верно, как дважды два четыре. – Воодушевляясь, он продолжал, подчеркивая свои слова энергическими жестами: – Тот же курс следует проводить и в нашей внутренней политике; мы все должны объединиться вокруг Жетулио для ликвидации коммунистической заразы. Понятна тебе теперь глупость Алвес-Нето? Его и этих интегралистов – бездарных политиков, не желающих понимать таких простых вещей… Кто выиграл от их идиотской затеи? Коммунисты… – Они и Жетулио… – добавил Артур. – Да, и Жетулио. Провал путча только укрепил его позиции. И, кроме того, воодушевил коммунистов. Они постараются использовать это событие, вот увидишь. – Он поднялся с места и встал напротив бывшего депутата. – После того, как я увидел манифестацию в центре города, я все время думаю об этом. Завтра утром я уезжаю в Рио, ты поедешь со мной… – С тобой, зачем? Не забывай, что я должен возвратиться в Мато-Гроссо на процесс о землях нашего акционерного общества. – Это – дело верное, и незачем терять на него время. В Рио я буду говорить с президентом. Ты понимаешь: чем дольше будут продолжаться эти волнения вокруг интегралистов и армандистов, чем больше людей они захватят, чем больше о них будут говорить, как о врагах правительства, тем лучше для коммунистов. «Пока палкой замахнулись на соседа, твоя спина отдыхает», – так гласит пословица. Надо возможно скорее замять это дело, стереть всякие следы попыток переворота и успеть сделать это до того, как коммунисты укрепятся. На них нужно натравить полицию, раз и навсегда покончить с ними. – Как бы там ни было, мой дорогой, но лица, захваченные с оружием в руках, и те, что возглавляли заговор, должны предстать перед судом. Иначе что скажет народ? А как говорят, каждый арестованный интегралист выдает еще пятьдесят… Поэтому в историю уже замешано очень много людей: начальник полиции, генералы, говорят, даже министры кабинета Жетулио… Каждый арестованный интегралист фонтаном извергает из себя целый список имен, одно другого важнее. – Я тоже об этом слышал. Многие вылетят из правительства, та же участь постигнет здешнего наместника; это ставленник доктора Армандо. Вряд ли удержится министр юстиции… – Он бросил косой взгляд на армандиста. – Тебе так хотелось стать министром юстиции. Как знать, может быть, теперь для этого представится подходящий случай. – Я? Министром у Жетулио? Ты шутишь… Я не понимаю даже, почему я до сих пор не в тюрьме… – Ты на свободе, потому что я вовремя вытащил тебя из этого дурацкого заговора. Помнишь? И тогда же я тебе сказал: имей терпение, и ты можешь стать министром, вне зависимости от того, будут ли выборы… – Но, Жозе… – Что? – Ведь, в конце концов, в избирательной кампании я был руководителем пропаганды в пользу кандидатуры Армандо Салеса… – Что из этого? Жетулио понадобится поддержка паулистских политиков, не принимавших участия в попытке переворота. Никто из них лучше тебя не подходит для министерства юстиции. Ты известный адвокат, влиятельный политик, представитель паулистского рода с четырехсотлетней родословной. Все это для Жетулио – клад. – Но… дело не только в этом… – А в чем же еще? – Ты знаешь… Ведь у меня, в конце концов, есть определенные моральные обязательства… – По отношению к кому? К какой партии, если партий больше не существует? К какой кандидатуре, если более не существует ни кандидатур, ни выборов? К какому другу, если твой друг – я? – По существу, ты прав… – Я всегда прав. Кроме того, если тебе нужно убедительное объяснение, достаточно сказать, что это жертва, которой требует от тебя родина. Это говорят все, кому приходится занимать такого рода посты… – В моем положении стать министром у Жетулио – это, конечно, жертва… Бог мой, что станут про меня говорить! Но если я нужен для умиротворения страстей… – Ты нужен мне. Необходимо вести дела «Акционерного общества долины реки Салгадо», а у меня на примете вырисовывается нечто еще более заманчивое… Затем, мой друг Артурзиньо, необходимо покончить с коммунистами; я завтра же буду говорить об этом с президентом. Нужно предать забвению историю с интегралистами и приверженцами доктора Армандо; как можно скорее пресечь всякие толки на этот счет. И по-настоящему взяться за коммунистов. – Он глубоко вздохнул и заключил: – Не в моем характере бояться кого бы и чего бы то ни было. Из соседней комнаты снова донесся возбужденный голос Энрикеты Алвес-Нето: – Еще найдется кто-нибудь, кто проучит этого бандита Жетулио! Коста-Вале улыбнулся и предложил Артуру: – Пройдем в гостиную, утешим бедную Энрикету. Скажем ей, что день страшного суда еще не наступил. Пока еще у власти Жетулио, а не коммунисты. Артур поднялся, оправил пиджак. Подойдя к бархатным портьерам, банкир проговорил тихим голосом, и в эту минуту улыбка погасла на его губах: – Иногда я даже вижу их во сне, этих негодяев! Я не выношу кошмаров. Необходимо раз и навсегда покончить с этим наваждением! 13
Сисеро д'Алмейда рассказывал новости и слухи, ставшие известными в течение дня: – Наместнику – конец. В этом нет никакого сомнения. Некоторые даже утверждают, что он арестован во дворце. Здесь предстоит много перемен: ведь в руках армандистов были важные посты. Несомненно, предстоит реорганизация министерств. Кажется, чуть не полсвета замешано в заговоре. Начиная с министра юстиции и кончая Сакилой… – Этим кретином… – заметил Карлос. Разговор с писателем происходил перед началом заседания секретариата, когда они дожидались Зе-Педро. Насмешливый взгляд Жоана скользнул по сюрреалистским картинам, развешанным на стенах комнаты. Новый, недавно приобретенный «шедевр» занимал почетное место над этажеркой, забитой книгами. Сисеро, стоя, возбужденно продолжал передавать известия и комментарии, слышанные им в политических кругах города: – Творится нечто невообразимое: все стараются свалить вину друг на друга. Интегралисты спешат выдать соучастников, еще не успев добраться до полиции – уже по дороге. Говорят, что даже полиция не ожидала такой подлости. Передают, что Плинио Салгадо обратился к правительству с письмом, в котором отмежевывается от всего происшедшего. С другой стороны, армандисты пытаются свалить всю вину на интегралистов; утверждают, что именно они ускорили ход событий, поспешили с переворотом, чтобы самим образовать новое правительство, а Армандо Салеса и его сторонников оставить не при чем… Темная история! И каждый сваливает вину на другого, выдает вся и всех, со слезами кается в полиции – сплошное безобразие! – Вот каково благородство господствующих классов! – засмеялся Карлос. – А вчерашняя демонстрация? Вы на ней присутствовали? – спросил Жоан. Сисеро видел, как она проходила по центральным улицам. Это было внушительное зрелище, и, судя по сообщениям газет, в Рио-де-Жанейро тоже огромная толпа рабочих собралась напротив дворца Катете – с антиинтегралистскими лозунгами. Самому Жетулио пришлось произнести с балкона речь, в которой он атаковал «экстремизм справа». – Я полагаю, что теперь нам дадут, по меньшей мере, несколько месяцев передышки. Хотят они этого или нет, но сейчас им придется заниматься интегралистами. Жоан скептически усмехнулся. – Дадут нам передышку? Не думаю, чтобы она длилась долго. Ясно, в первое время они будут вынуждены, чтобы удовлетворить народ, для видимости наказать интегралистов. Но не удивляйтесь, если все очень скоро будет забыто: это семейная ссора, и примирение не замедлит наступить. Нам нельзя строить каких-либо иллюзий только потому, что Жетулио, говоря об интегралистах, употребил по их адресу несколько крепких эпитетов. И не забывайте, – если вы читали отчет об его речи, – что он нападал «на всех экстремистов – и на правых, и на левых», а это доказывает, что он не собирается делать каких-либо уступок демократии. Конечно, мы должны воспользоваться днями замешательства – провести уличные выступления, потребовать демократических реформ и примерного наказания фашистов. Однако никаких иллюзий… Карлос сказал: – Я сегодня разговаривал с некоторыми товарищами, которые заявили, что теперь нам следует поддерживать Жетулио, ибо у него нет другого пути, как союз с нами против интегралистов. Наша позиция должна быть настолько ясна, чтобы массы ее поняли; тогда мы сможем добиться некоторых ощутимых результатов: и против интегралистов, и против «нового государства». Некоторые товарищи ошибочно принимают наше отрицательное отношение к интегралистскому выступлению как поддержку Жетулио. Я тоже не думаю, чтобы о нас позабыли надолго. Мы должны действовать быстро, пока они снова на нас не напали. Прозвонил дверной колокольчик, и Сисеро пошел открывать, Вошел Зе-Педро. Он пожал руку писателю и поздоровался с остальными. – Арестованы приверженцы Сакилы. Они были замешаны в заговоре. Один товарищ рассказал, что Камалеан водил полицию из дома в дом. – А Эйтор? Его тоже арестовали? – спросил Жоан. – Его, как будто бы, здесь нет. – Интересно… А Сакила? Ответил Сисеро: – Сакила бежал. Спрятался в доме одного из своих друзей, а сегодня утром его, кажется, переправили вглубь страны. Мне это известно, потому что его сторонники явились ко мне просить денег. – И вы дали? – Что мне оставалось делать? Нельзя же допустить, чтобы его арестовали, потому что нехватило нескольких милрейсов для побега… Сакила, несмотря на свои ошибки, неплохой малый. – Его группа – банда воров и полицейских агентов… – возразил Карлос. – Как бы там ни было, – заступился Сисеро, – нельзя приравнивать Сакилу к таким субъектам, как Камалеан и Эйтор. Он заблуждается, я не спорю. Но он порядочный человек. – Он худший из всех, – проговорил Жоан, – он хуже Камалеана, хуже Эйтора. По-моему, он мало чем от них отличается. Прямо невероятно, что такой умный человек, как вы, настолько наивен, чтобы верить в порядочность Сакилы… Он хуже всех остальных… И опаснее всех именно потому, что он до сих пор, в отличие от Камалеана и Эйтора, не разоблачен. Опасность, которую он собой представляет, выражается не в том, что он доносит полиции, как это делает Камалеан, или расхищает партийные средства, как это делал Эйтор. Прикрываясь маской заблуждающегося, но честного человека, он может проводить очень тонкую вредительскую работу против партии; может обмануть людей вроде вас и, в конечном итоге, принести нам вред гораздо больший, чем такие типы, как Эйтор или Камалеан. По своей сущности он так же опасен, как и остальные; подобно им, он продался врагу. Но так как он умнее других, ему предназначена более тонкая задача: вкрасться в доверие честных членов партии, внести в партию раскол, создать в ней группировки, вести кампанию против партии. Буржуазии нужны не одни только предатели и полицейские агенты. Ей нужны и такие замаскированные предатели, как Сакила. Он самый худший из всех, самый опасный. – Вы преувеличиваете… И буржуазные политики вовсе не так умны и тонки, и Сакила вовсе не такое чудовище. – Обратимся к фактам: разве он не был связан с Алвес-Нето и с интегралистами? Откуда, из какой типографии исходили его листовки и воззвания? На какие деньги он все это осуществлял? А, с другой стороны, разве он не был заодно с Эйтором и Камалеаном? Разве вместе с ними не распространял про нас клеветнические слухи? В чем же разница? – Хорошо… До какой-то степени вы правы. Но я хочу только сказать, что он не вор и не полицейский агент… – Бывают преступники хуже воров и полицейских агентов, но лучше замаскированные. – Дело заключается в том, – сказал Зе-Педро, как бы подытоживая спор, – что вы, товарищ Сисеро, будучи членом партии и, более того, – испытанным коммунистом, не можете поддерживать личных отношений с Сакилой. Простого факта, что вы с ним общаетесь, беседуете, что вас видят в его обществе, что вы помогаете ему деньгами, одного этого факта достаточно, чтобы придать Сакиле авторитет, помочь в его антипартийной деятельности. Вы должны с ним порвать. – Это что же – решение партии? – спросил Сисеро, несколько уязвленный словами руководителя. – Если вы хотите знать, носит ли это решение официальный характер, я вам отвечу: нет. Скажу только, что такое решение должны принять вы сами – совесть коммуниста должна вам его подсказать. Сисеро промолчал. Карлос, с легкой улыбкой наблюдавший за писателем, поднялся и подошел к нему. – Не надо обижаться, дорогой! Зе-Педро не собирался вас учить. Но то, что он сказал, – правильно, и только самолюбие мешает вам это признать. Однако я могу поручиться, что уже завтра, хорошенько все обдумав, вы с нами согласитесь. – Очень возможно, что вы и правы… – сказал Сисеро уже значительно спокойнее. – Честность – понятие весьма относительное. Никаких дружеских отношений с Сакилой у меня нет, и я не имею каких-либо особых причин впредь поддерживать с ним отношения. Зе-Педро улыбнулся. – В таком случае, все в порядке… Приступим к делу. Он дружески протянул руку Сисеро, но того зачем-то позвали, и писатель вышел из комнаты. После его ухода Жоан заметил: – Как трудно такому человеку, как Сисеро, научиться воспринимать критику по-партийному… Зе-Педро уже нетерпеливо стучал карандашом по столу. – Итак, давайте начинать, товарищи… 14
Как будто все, что ей пришлось выстрадать до сих пор, ничего не значило, и только теперь начиналось настоящее страдание. Подобно судну, лишенному мачт и парусов, предоставленному воле волн и ветров на охваченном бурей море, двигалась Мануэла по улицам Сан-Пауло, направляясь к дому, где жита ее семья. Она дрожала от холода, по лицу разлился лихорадочный румянец; она шла по оживленным улицам, среди толпы, ничего не видя и не слыша, не обращая внимания на комплименты встречных мужчин по ее адресу. Перед ее взором стоял лишь один образ, в ее ушах звучал лишь один нежный голос: это образ и голос крошечного ребенка, который протягивал к ней ручки и лепетал «мама», – ребенок, которого она так хотела. – Этот ребенок не может и не должен родиться! – крикнул ей Пауло в состоянии возбуждения и смятения, в каком она его раньше никогда не видела. Накануне их разговора она еще могла выносить взгляд тети Эрнестины – смесь любопытства и отвращения. Казалось, что глаза старухи видели насквозь: они осуждали ее, оскорбляли, издевались над ней. Ночью старая дева поднялась с постели и долго молилась перед образами святых, била себя в грудь высохшими руками, как бы каясь в том, что ей приходится жить под одной кровлей с «заблудшим созданием». Мануэла вынуждена была ночевать в одной комнате с теткой; она с головой накрылась простыней, чтобы не видеть немого презрения в глазах молящейся ханжи, застывшей в аскетической позе перед своими образами. В ту ночь Мануэле приснился ее ребенок; он уже начинал ходить и шел по огромному, покрытому цветами полю. Восхитительное маленькое существо: розовое личико, вьющиеся локоны, невинная улыбка. Он тянется пухленькими ручонками за разноцветными бабочками, приходит в восторг от красоты цветов, дивится изумрудной окраске жучка. Вдруг, откуда ни возьмись, появляется тетя Эрнестина – костлявая старая ведьма; в глазах у нее ханжеское возмущение, она вздымает руки, призывая проклятия на голову Мануэлы. Ребенок пытается убежать от нее на своих еще неустойчивых ножках. Он жалобно кричит, тянется ручонками к Мануэле, ищет защиты у матери. Но он не может до нее дотянуться: расстояние между ними не уменьшается, и какая-то странная сила приковывает Мануэлу к месту, не позволяет ей броситься на помощь своему сыну. А ребенок продолжает к ней взывать, исходит плачем, бежит к ней, спотыкаясь на каждом шагу. Над ребенком склоняется мстительная и угрожающая тень – это тетя Эрнестина. Мануэла падает на колени, с мольбой протягивает руки к разъяренной старухе, пытаясь убедить, умиротворить ее: – Бедняжка ни в чем не виноват, вина только на мне. За, что же его убивать? Богом заклинаю, не убивайте его! Тетя Эрнестина раскрывает жестокий рот и произносит неумолимые слова осуждения: – Он сын греха, бесчестие семьи… И она готовится убить его, чтобы смыть этим пятно позора с семейной чести; уничтожить это маленькое существо, у которого нет законного отца. Она видит, как старуха кидается на ребенка, но какая-то сверхчеловеческая сила сковывает все движения Мануэлы, она не может помочь своему ребенку, тщетно пытающемуся найти спасение в материнских объятиях. Мануэла проснулась, обливаясь холодным потом. Но едва она заснула снова, как страшный кошмар возобновился: смертный приговор ее ребенку произнесен. Злая ведьма – тетя Эрнестина протягивает свои когти к розовому существу с золотыми локонами, но Мануэла, прикованная к земле, не в силах ему помочь. Над полями раздается его предсмертный крик… Мануэла ушла из дома рано утром, сказав, что навестит Лукаса в гостинице, где он в то время жил. На самом деле ей хотелось уйти подальше от гнетущей обстановки родного дома, от старческого безучастного эгоизма дедушки и бабушки, от глупых вопросов зятя, расспрашивавшего ее, что нового в Рио-де-Жанейро, от осуждающих взглядов тети Эрнестины. Идти к Пауло было еще рано – раньше девяти часов молодой человек не просыпался. Ей не хотелось говорить с Лукасом до того, как она не выяснила всего с Пауло, не убедила его. Она без цели бродила по улицам, предоставляя утреннему солнцу развеять ночные видения, – страшный сон, ужасное воспоминание о котором ее мучило и наяву. Она старалась представить себе, как будет происходить ее разговор с Пауло. Разговор будет неприятный и тяжелый, но какой иной выход у нее оставался, что другое могла она сделать, чтобы защитить своего ребенка, дать ему имя, не заставить его страдать за последствия ее вины? Кошмар минувшей ночи имел зловещий смысл; ее сыну на протяжении всей его жизни угрожало бесчестие – позор внебрачного ребенка, судьба незаконнорожденного. Одного этого слова было достаточно, чтобы ее затрясло от озноба, и она с еще большей силой укрепилась в своем решении обратиться к Пауло. Когда она была маленькой, сколько раз приходилось ей выслушивать упреки и подвергаться наказанию за то, что она играла с одной девочкой, жившей неподалеку от их дома! И только много лет спустя, уже став взрослой, она поняла, за что ее бранили и наказывали: та девочка не имела законного отца – она была внебрачным ребенком одной молодой швеи и управляющего большой торговой фирмы. Еще находясь в Рио, Мануэла позвонила Пауло по телефону – на квартиру к Артуру. Ей никто не ответил. Тогда она обратилась в министерство, и там ей сказали, что Пауло находится в отпуску по состоянию здоровья и выехал в Сан-Пауло. Шопел, которого она случайно встретила на улице, объяснил, хотя она его ни о чем не спрашивала, что поездка Пауло вызвана предстоящим официальным объявлением помолвки с Розиньей да Toppe. Это событие предполагается ознаменовать грандиозным празднеством, к которому все гран-финос уже готовят бальные туалеты и смокинги. В высших сферах, рассказывал поэт, теперь только и разговоров, что о готовящемся празднике, и эта тема даже оттеснила на второй план толки о неудавшемся государственном перевороте. Мануэла решила немедленно поехать в Сан-Пауло. Сославшись на нездоровье, она добилась у дирекции варьете разрешения отдохнуть несколько дней. Она готова была пойти и на разрыв контракта, если бы ей отказали в отпуске, но получила его без затруднений. Приехав вечером, она сразу же позвонила Пауло, но не застала его. Лакей сообщил, что Пауло на обеде у комендадоры да Toppe и неизвестно, когда он возвратится. Самое верное – застать его утром, как только он проснется. Но как он ее примет, узнав, в каком она положении? Предстоящая встреча совсем не радовала Мануэлу. Она не испытывала к Пауло ни смертельной ненависти, ни даже раздражения. От всего пережитого у нее осталось лишь презрение, брезгливость к холодной и расчетливой натуре Пауло, даже к его физическому облику: его циничное лицо пресыщенного аристократа, которое раньше пленяло ее, теперь представлялось отталкивающе порочным. Было время, когда все ее желания сводились к браку с Пауло, к возможности соединиться с ним навсегда. Но теперь этот брак – необходимый в интересах будущего ребенка – представлялся ей огромной жертвой: перспектива жить вместе с Пауло, не любя его, испытывая к нему презрение и отвращение, повергала ее в печаль, вызывала горечь. Но что же делать? Она должна принести себя в жертву ребенку: от него получит она утешение в ожидавшей ее безрадостной жизни. Мануэла ни на минуту не допускала мысли, что Пауло может отказаться от женитьбы. Материнские чувства были в ней настолько сильны, что исключали возможность такого предположения. Пауло холост, его помолвка с Розиньей да Toppe еще официально не объявлена. А Мануэла носит под сердцем его ребенка, которому скоро предстоит появиться на свет. Перед таким фактом ничего не значат личные чувства: ни любовь, ни презрение, ни отвращение, ни тоска. Правда, один раз Пауло уже обманул ее: обещал жениться, чтобы овладеть ею, а потом только посмеялся над ее поруганными чувствами. Пусть в великосветском обществе, где он вращался, понятия о чести были иными, нежели в среде, где родилась и воспитывалась Мануэла, пусть некоторые вещи, священные для нравственных и благочестивых мещан, представлялись Пауло и окружавшим его людям – а теперь окружающим и Мануэлу – лишь достойными осмеяния предрассудками. Но ребенок – другое дело… Ребенок вносил нечто чрезвычайно серьезное во все это, совершенно изменял все соотношения. Тут уже речь шла не об обычной любовной интрижке наивной мещаночки из предместья, давшей себя увлечь воображаемому сказочному принцу: речь шла о новом существе, возникшем в результате ее ошибки, и эта новая жизнь была теперь поставлена на карту. Нет, она не думала, что Пауло может отказаться от женитьбы. Другие вопросы занимали ее, когда она направлялась к дому Артура Карнейро-Маседо-да-Роша, – будут ли они с Пауло, поженившись, жить вместе или каждый пойдет своей дорогой: он – по дипломатической стезе, она – по пути искусства? Или он потребует, чтобы она бросила артистическую карьеру, ушла со сцены? Разве он не говорил ей несколько раз, когда еще обещал жениться, что звание супруги Пауло Карнейро-Маседо-да-Роша – представителя славного паулистского рода – несовместимо с карьерой танцовщицы? Но как объяснить все это Лукасу? Где и чем ей жить, когда беременность зайдет настолько далеко, что она не сможет больше выступать? Впрочем, это уже вопрос второстепенный. Главное – ребенок. Надо защитить его от презрения и преследований тети Эрнестины, всего общества. Мануэла, еще более твердая в своем решении, нажала кнопку звонка у двери дома, в котором ей столько раз приходилось бывать в прежние счастливые времена. Она ждала в темноватой небольшой приемной; она хорошо помнит эту комнату. Здесь Пауло хранил свои книги и принимал тех лиц, чье посещение хотел скрыть от отца. Спустя несколько минут появился Пауло. Он даже и не подумал как следует одеться: вышел в халате, накинутом поверх пижамы. В глазах его светилось любопытство: что нужно от него Мануэле? Он был почти уверен, что девушка явилась к нему с раскаянием: будет умолять о любви, о возобновлении прежних отношений. Но если бы даже их роман и начался снова, он не дал бы ему теперь острого ощущения новизны. Впрочем, она красивая женщина, и время от времени можно бы… Его несколько озадачил серьезный вид Мануэлы; однако это не помешало ему приветствовать ее со смешком в манере Шопела: – Как поживает наша несравненная красавица? – Он протянул ей руку, на мгновение усомнившись, поцеловать ли ему свою бывшую любовницу. – У меня к тебе очень важное дело. Важнее не может быть… Он сел рядом с ней, нахмурил лоб. – Я к твоим услугам!.. Все последующее произошло быстро и грубо. Он издевательски рассмеялся, когда она, сообщив ему о своей беременности, заявила, что у них нет другого выхода, как возможно скорее пожениться, чтобы ребенок имел законного отца. – Ты все никак не можешь отказаться от своей мании брака. Мне никогда еще не приходилось сталкиваться с таким упрямством! Сколько времени тебе потребовалось, чтобы выдумать эту историю с беременностью? Она замерла, лишившись дара слова. А когда вновь обрела способность речи, заговорила голосом настолько изменившимся, настолько трагичным, что Пауло перестал смеяться. – Ты думаешь, что я лгу? Что это моя выдумка? Ты думаешь, что я добиваюсь брака? Нет ничего на свете, чего бы мне хотелось меньше! Брак с тобой сделает мою жизнь адом. Для ребенка, единственно для ребенка я заставила себя сюда явиться, заставляю себя пойти на брак с тобой. Пауло закурил сигарету; его наигранная веселость пропала. – Ты в самом деле беременна? Это скверно… – Нам нет необходимости жить вместе. Каждый пойдет своей дорогой. Мне от тебя ничего не нужно – я смогу прокормить себя сама. Но только маленький не может… не может родиться, не имея законного отца… – Этот ребенок вообще не может родиться. – Как? – Если тебя, дорогая, тревожит только это, то дело обстоит гораздо проще. Мне казалось, что ты разыгрываешь комедию, чтобы заставить меня жениться на тебе. И поскольку ты достаточно наивна, то я подумал… – Что ты подумал? – в ее голосе прозвучала надежда: может быть, оказавшись перед фактом, убедившись, что она не выдумывает, Пауло решит на ней жениться? – Но это же так просто, деточка… Есть врачи, которые только этим и существуют… – Чем? Я не понимаю. – Неужели ты еще глупее, чем я о тебе думал? Чем еще они могут существовать? Если всем детям позволять рождаться, скоро на земле нехватит места. Я знаю одного врача – специалиста этого дела. Два или три дня в больнице, и все будет сделано… Издержки оплачу я. – Что ты имеешь в виду? – Аборт. – Что? Пауло принялся объяснять, но она с возмущением прервала его: – Замолчи! Если ты думаешь, что я пойду на это, что я убью моего ребенка, – значит, ты меня плохо знаешь. Я скорее сама лишу себя жизни. После этого разразилась буря – смесь криков и ругательств. Пауло потерял всякое самообладание и поносил ее самыми грубыми словами. Она пригрозила ему, что покончит самоубийством и оставит после себя письмо, в котором расскажет все. После такой угрозы Пауло постарался себя сдержать: вышел бы ужасный скандал! Это означало бы конец его сватовства к Розинье да Toppe и фактически – конец его карьеры дипломата. Прощайте тогда миллионы комендадоры, прощай назначение в Париж, если ее найдут мертвой, а рядом с ней – письмо с изложением всей истории. Пауло уже мерещились огромные заголовки и клише в газетах. – Успокойся, Мануэла! Мы совсем, как помешанные, – оба потеряли голову. Давай поговорим как следует… – Выродок!.. – Воздержись от таких эпитетов. Поговорим без крика. Я, со своей стороны, прошу простить, что наговорил лишнего… Она замолчала и не могла больше сдержать слез. Пауло воспользовался этим и заговорил. Необходимо было ее убедить: он клялся ей в любви, говорил о своем раскаянии, умолял пожалеть его – появление на свет ребенка означало бы гибель его будущего и ее будущего – тоже. Ей пришлось бы надолго оставить сцену, а вернуться обратно, имея на руках ребенка, нелегко: это очень усложнило бы всю ее жизнь. Он, Пауло, готов не только принять на себя все расходы по оплате врача и больницы, но сверх того заплатить ей большую сумму деньгами за неудобства, создавшиеся для нее в результате этого неприятного инцидента… Мануэла поднялась с места. – Ты мразь!.. Она хотела уйти, но он грубо схватил ее за руку; лицо его перекосилось; казалось, он собирается ее ударить. – Этот ребенок не может и не должен родиться! – Он родится, и будет даже лучше, чтобы он не носил твоего имени. Лучше совсем не иметь отца, чем иметь такого, как ты. Она выбежала на улицу. Только потому, что Мануэла оказалась на свежем воздухе, она не упала тут же, за дверью. Она была, как безумная; дома, казалось, танцуют у нее перед глазами. Слуга, вышедший вслед, видя ее в таком состоянии, спросил: – Сеньоре дурно? Она ничего не ответила, с трудом побрела. Бросилась в первое попавшееся на пути такси, сказала шоферу адрес Лукаса. Теперь, после чудовищного предложения Пауло, она чувствовала себя еще более привязанной к ребенку, который должен был родиться. Ей придется быть для него и матерью и отцом. Нет, она не убьет своего ребенка и не убьет себя; она отречется от всего и посвятит себя всецело ребенку – пойдет стирать белье или мыть посуду на кухнях богачей; но зато у нее будет ребенок – ее радость и утешение. Лукас поймет, он поможет ей, простит ее вину и поддержит своего будущего племянника, как он поддерживает сирот – детей другой своей сестры. Лукас собирался уходить, когда она вошла к нему в комнату. – Ты – здесь? Когда ты приехала? Он тотчас же заметил смятенное состояние Мануэлы, слезы, бледность лица. – Что с тобой? Что случилось? – Лукас, брат мой, я погибаю… Он взял ее за руки, подвел к стулу, усадил, принес воды. – Выпей… Руки девушки, державшие стакан, дрожали; Лукас понял, что на этот раз ему не удастся избежать неприятного признания – исповеди обольщенной сестры; исповеди, которую он оттягивал и которая, он знал, доставит ему много горечи. И к чему все это, если он ничем не может помочь, не может заставить Пауло на ней жениться? То, что произошло с его сестрой, было ему неприятно, но в своей новой жизни он уже избавился от предрассудков, которые еще тяготели над Манузэлой. Он решил сделать так, чтобы эта неизбежная сцена вышла возможно короче. – Дело в Пауло, не так ли? Он тебя совратил… Я давно об этом догадывался. – Он сел рядом с ней, отер ей платком слезы. – Не придавай этому большого значения. Мы с тобой воспитывались в отсталой среде, где некоторым вещам придавали слишком много значения. Но, по существу, все это не так страшно… Днем раньше, днем позже явится хороший человек и женится на тебе, не обратив никакого внимания на случившееся. Вот увидишь… – Если бы только это… – А что же может быть еще? – Я беременна. Когда мы с ним порвали, я еще этого не знала. Мне это стало ясно только потом… – Беременна? – переспросил Лукас, понизив голос. – Я не хотела тебе говорить об этом раньше: у меня нехватало духу. Я надеялась, что Пауло, узнав об этом, женится на мне. Я и приехала в Сан-Пауло, чтобы переговорить с ним. – Ты у него была? – Я сейчас от него, Лукас… – Она снова разрыдалась и спрятала голову на груди у брата. – Рассказывай… – Вместо брака он предложил мне сделать аборт. Боже мой!.. В течение некоторого времени только были слышны ее всхлипывания. Лукас сжал кулаки. В один прекрасный день он покажет этому Пауло, изобьет этого избалованного барчука! Сейчас он этого сделать не мог, не мог необузданным порывом разрушить целый мир задуманных и осуществляемых им дел. Но в один прекрасный день… Он не мог этого сделать сейчас, но он не мог и допустить, чтобы у Мануэлы родился ребенок. Появление на свет незаконнорожденного младенца – позор не только для Мануэлы и угроза не только для Пауло. И над Лукасом, над его счастливо начатой коммерческой карьерой, такой многообещающей, но еще зависящей от тысячи различных случайностей, эта новость нависала как угроза, от которой следовало как можно скорее освободиться. – Что же ты думаешь делать? Перестань плакать – слезами не поможешь. Она, сдержав рыдания, спросила: – Ты меня прощаешь? – Глупенькая… Ты просто поступила неосмотрительно. Самое худшее – последствия… – Я знаю. Мне придется оставить работу и уроки танцев… Не знаю, смогу ли я все это возобновить потом. – Так ты хочешь иметь ребенка? Она посмотрела на него в испуге. А что же другое оставалось ей делать, если только не убить себя? Но ведь радость иметь ребенка возместит тяготы трудной жизни, возместит даже ее отказ от своего искусства. Лукас опустил глаза. – Я тоже считаю, что лучше сделать аборт. – Ты? Тоже? Он взял ее за руки; голос плохо ему повиновался, он не находил нужных слов, боялся, что они могут ранить ее, но нужно было во что бы то ни стало убедить Мануэлу. – Чего ты хочешь? Ты не можешь иметь этого ребенка. То, что ты была любовницей Пауло, – ошибка, но не больше… А ребенок – совсем другое дело… Он все усложнит… Мануэла покачала головой. – Нет, Лукас, ты не понимаешь. Ведь это – мой ребенок, пойми! Мое собственное дитя… Как же я могу его убить?.. – Но он ведь еще не живое существо, Мануэла. – Ты мужчина; только женщине понятно, что я испытываю с тех пор, как узнала о его существовании. Я вижу этого ребенка, словно он уже родился, словно это мой сын. Сделать то, что ты хочешь, хуже самоубийства. Воцарилось нестерпимо мучительное молчание. И когда она надеялась услышать, что он понял и готов ей помочь, Лукас пробормотал: – Ты должна это сделать для меня… Я начинаю жизнь, Мануэла… Передо мной огромное будущее. Твое решение иметь ребенка может разрушить, уничтожить это будущее. Понимаешь? – И он продолжал приводить свои доводы голосом почти смиренным, почти слезно умоляющим: – Я в твоих руках. Если ты хорошая сестра… Мануэла смотрела на него отсутствующим взглядом: она видела только свое дитя, слышала только его голос. Лукас взял ее за подбородок. – Наступит день, когда ты выйдешь замуж, и у тебя будут дети. В конце концов, этот выход не так уж страшен – десятки женщин к нему прибегают. Это необходимо, Мануэла. Ради меня… Взгляд Мануэлы ничего не выражал: она была, как помешанная. Лукас вздохнул: как это было тяжело! – Сделай для меня, – молил он, – скажи, что ты согласна… – Да… Он поцеловал ее в лоб. – Ты хорошая сестра. Я найду врача. Многие из них только этим и живут, и у них большая клиентура… – говорил он, как бы стараясь ее утешить. – Теперь возвращайся домой и жди меня там. Вечером я к тебе заеду. И никому об этом не говори. На улице они расстались. Мануэла не произнесла ни слова. Пошла одна, подавленная, с единственным образом перед глазами, с нежно звучащим голоском в ушах! Перед ней стоял образ крошечного ребенка с протянутыми ручками, с тонким детским голоском, лепетавшим: «мама»… Ребенок, которого ей так хотелось… 15
Мариана познакомилась с Мануэлей в больнице. В тот вечер врач позволил Мариане немного пройтись по коридору, и она увидела в соседней палате сидевшую на стуле девушку, о которой в то утро ей рассказывала дежурная няня: – Красавица, но такая грустная… Она артистка, я видела в одном журнале ее фотографию, она была разряжена в птичьи перья… Танцовщица… Но такая печальная, каких я в жизни не видывала… Она сидела на стуле, и на ее прекрасном, точно со старинной гравюры лице запечатлелось выражение безысходной печали. Она была так красива и так грустна, что вид ее тронул доброе сердце Марианы, и, остановившись в дверях палаты, она обратилась к ней с несколькими словами, чтобы завязать разговор. То были слова банальных любезностей, но с этого началось их знакомство. Танцовщица пригласила Мариану войти в палату и сесть, а потом никак не хотела отпустить, точно ей было страшно опять остаться одной, наедине со своими мыслями. Они поговорили обо всем понемногу: о наступающей холодной зиме, о все возрастающей дороговизне жизни, о кинофильмах; Мариана рискнула даже сказать несколько слов о трусости и подлости интегралистов, арестованных в связи с попыткой переворота, – трусости и подлости, о чем уже ходили анекдоты. Их первая беседа не пошла дальше этого, но тепло человеческого сочувствия, исходившее от слов Марианы, проникло в исстрадавшееся сердце Мануэлы, помогло ей пережить этот бесконечный вечер ожидания, похожий на последнюю ночь осужденного на смерть перед казнью; врач должен был приехать в десять часов. Мануэла не отпускала от себя Мариану до тех пор, пока няня не позвала ее ужинать. Мариана ушла под впечатлением скорби и отчаяния во всем облике этой женщины. Уходя, она спросила: – Вам предстоит операция? Мануэла утвердительно кивнула в ответ, но при этом постаралась отвести взгляд от Марианы. А та подумала: «Наверное, у нее очень тяжелая болезнь, если она так удручена». Ужиная, она продолжала думать о ней и о Жоане, который вот уже два дня не приходил ее навещать. Может быть, он выехал из города? У него было много работы – следовало использовать время, в течение которого правительство, занятое ликвидацией последствий интегралистского заговора, давало коммунистам нечто вроде передышки. В конце мая, недели две спустя после попытки государственного переворота, Мариана вдруг почувствовала острый приступ аппендицита, но так как у нее в то время было много партийных заданий, она старалась себя пересилить. Жоан очень встревожился, вспомнив о предшествовавшей неблагополучной беременности Марианы, и экстренно вызванный доктор Сабино нашел, что ей надо немедленно сделать операцию. Он сам выбрал для этого больницу и взялся устроить материальную сторону дела. Один его приятель, хирург, сделает операцию бесплатно – он тоже принадлежит к числу сочувствующих; в свое время снабжал деньгами Эйтора, не имея иных связей с партией. Болезнь Марианы, таким образом, имела и свою хорошую сторону: через Мариану партия установила контакт с большим кругом друзей партии, созданным Эйтором в среде врачей, которые до тех пор ничего не подозревали о подлости бывшего казначея. – Это самая легкая в мире операция, – смеялся доктор Сабино, стараясь подбодрить Мариану, когда ее везли в больницу. Действительно, операция прошла очень удачно, и на следующий день в палату явились Жоан и мать Марианы. В руках у Жоана был пакет с фруктами и букет цветов, который он неуклюже держал в руках. – Это тебе от товарищей… – пояснил он, неловко протягивая ей цветы. Жоан навестил ее еще раз и потом исчез. Мать, приходившая каждое утро, сказала, что уже два дня, как она его не видела: по-видимому, он был очень занят. Мариана все время продолжала думать о нем; ее губы полураскрывались в улыбке при воспоминании, как муж протягивал ей огромный букет цветов с робостью и неловкостью влюбленного юноши. Однако мысли о печальной красавице не давали ей сосредоточиться на Жоане. Она снова видела перед собой грустное и прекрасное лицо. Что за страшная болезнь должна была ее подтачивать, чтобы так внутренне ее опустошить, точно жизнь перестала представлять для нее малейший интерес? Мануэла произвела на нее впечатление совершенно одинокого, заброшенного человека – человека, для которого закрыты все пути, кроме дороги к смерти. Думая о Мануэле, Мариана невольно вспоминала и о Руйво – с легкими, изъеденными туберкулезом, о Руйво, харкающем кровью, горящем в жару, худом, как тростинка, – и, несмотря на все это, полном воодушевления, интереса к жизни, присылающем письмо за письмом из своего санатория, где только теперь в его здоровье появились первые и еще очень слабые признаки улучшения. Если бы Мариана могла рассказать этой девушке историю Руйво, как он отказывался ехать в санаторий, как пришлось почти силой заставить его это сделать, как он не хотел прерывать работу, выключаться из жизни… Досадно, что об этом нельзя говорить, – может быть, такой рассказ несколько смягчил бы страдальческое выражение на лице девушки. Мариана никогда не могла оставаться равнодушной к горю, кого бы оно ни затрагивало: близкого ей человека или совсем постороннего. Мать говорила про нее, что она родилась милосердной самаритянкой. Теперь Мариане очень хотелось помочь страдавшей девушке, и она спросила у няни, когда та пришла готовить постель: – Чем больна девушка в соседней палате? Что-нибудь серьезное? Это уже была не та молодая и веселая няня, что дежурила утром. Сейчас пришла пожилая, несколько грубоватая. – Серьезное? Не знаю… Но судя по врачу, который ее сюда доставил, ничего серьезного там нет… Эти дуры… – Что? – переспросила Мариана, ничего не понимая. Няня пожала плечами. – Обычное житейское дело… – сказала она и вышла. Мариана легла и принялась читать вечерние газеты. Ее кровать стояла у стены, смежной с соседней палатой, и скоро до слуха Марианы донесся звук шагов: это ее соседка ходила взад и вперед. «Она волнуется…» – подумала Мариана, стараясь сосредоточиться на чтении газеты, но, в конце концов, отложила ее и взялась за роман. Это был изданный несколько лет назад «Железный поток» Серафимовича, переведенный с русского. Мариана уже читала эту книгу до больницы; она была очарована эпическим повествованием: будто видела воочию, как зарождалась заря социализма в России. И как только врач разрешил ей читать, попросила мать принести ей эту книгу. Однако взволнованные шаги девушки в соседней палате, временами звук заглушенного рыдания помешали ей читать: она испытывала желание подняться, пойти в соседнюю палату, попытаться как-нибудь ободрить несчастную. Но какое она имела на это право? Мариана погасила свет, попыталась заснуть. Тысячи мыслей и образов возникали у нее в мозгу, но она не могла задержаться ни на одном из них; звук шагов печальной девушки отдавался у нее в мозгу. Что с ней происходит? Она производила впечатление такой симпатичной, славной и вместе с тем такой хрупкой, надломленной… Мариана не могла заснуть. Лежала и слушала, как ходит соседка. Потом до нее донесся шум: кто-то вошел в соседнюю палату – наверное, доктор. Спустя некоторое время она услышала, как в коридор выкатили койку – невидимому, больную отправили в операционную. «Пусть бы все прошло благополучно…» – пожелала Мариана, чувствуя глубокое сострадание к этой незнакомой девушке и сама не представляя себе, почему она принимает участие в ней: может быть, потому, что та казалась такой печальной и одинокой? На следующее утро опять дежурила молодая и веселая, словоохотливая няня. Мариана поинтересовалась: – Как соседка? Операция прошла благополучно? – Операция – пустяки. Врач сказал, что еще позавчера у нее в результате падения произошел выкидыш, а сюда она уже явилась для лечения. Кто знает, может, оно и так… Я не люблю никого осуждать без доказательств. Но одно несомненно: этот доктор Антенор не привозил сюда еще ни одной пациентки без осложнений после выкидыша… Ах, если бы на него напустить полицию!.. Но Мариана уже ее не слушала, всецело захваченная нежностью и жалостью к Мануэле; теперь вполне понятны и ее безысходная печаль, и заброшенность, и одиночество, и ее тревожные шаги вчера ночью. Ведь и она, Мариана, тоже всего лишь несколько месяцев тому назад потеряла так страстно желаемого ребенка, и ей было знакомо оставшееся после этого чувство опустошенности; она помнила, сколько слез пришлось ей пролить, как приходилось прятать от окружающих свое горе. У нее выкидыш тоже произошел в результате падения, и она вполне оправилась от потрясения лишь после того, как ощутила, что внутри опять шевелится новое существо, ее ребенок. Бедная девушка, такая молодая и такая красивая! Надо утешить ее, пробудить в ней вновь интерес к жизни; сказать ей, что беременность – чудесный факт зарождения жизни – повторится вновь, как это случилось с ней, Марианой… Няня, закончив уборку палаты, добавила: – Она даже отказалась от кофе… Все плачет… Мариана вышла в коридор. Дверь соседней палаты была закрыта. Потом пришла мать, принесла утренние газеты и новости о Жоане: ночь он ночевал дома; если успеет, к вечеру зайдет ее навестить, если же нет, – придет завтра. – Он очень устал? – Как обычно. Если он не будет отдыхать, скоро придется отправить в больницу и его… – Ох, не накликай беды, мама!.. – улыбнулась Мариана. – Не накликай беды… Не накликай беды… То же самое говорил твой отец, когда я его предостерегала. Ну, и кончилось тем, что первая же болезнь унесла его жизнь. Хорошо еще, что ему довелось умереть дома, а не в тюрьме… После ухода матери Мариана больше не могла ждать – пошла и постучала в дверь соседней палаты. – Войдите… – отозвался слабый голос. Девушка лежала на кровати. Она была еще бледнее, чем накануне, еще глубже погружена в свое страдание. – Я не помешаю? – спросила Мариана. Мануэла отрицательно покачала головой. Ее белокурые волосы рассыпались по подушке, в глазах стояли слезы. Мариана подошла к кровати, провела ласковой рукой по волосам, на которых играли солнечные лучи. Грудь Мануэлы сотрясалась от рыданий. – Моя бедная подруга… Няня мне все рассказала… – Все рассказала?.. – Со мною случилось то же самое. Точь-в-точь. У меня тоже в результате падения был выкидыш. Я упала с трамвая, понимаете? Потому я знаю, что вы должны испытывать, как вам трудно с этим мириться… Когда это со мною произошло, муж находился в отъезде – он коммивояжер… Но надо быть сильной, нельзя падать духом. Мануэла повернулась к Мариане лицом. Она не пыталась скрыть своих слез. Слушала первые ласковые слова после того, как все это началось, и чувствовала себя благодарной чужой для нее женщине, которую до больницы она никогда не видела, о которой ничего не знала; эта женщина не походила на знакомых ей людей: бедная, но без приниженности бедняков предместья, где выросла Мануэла; уверенная в себе; участливая, как старый друг. – Простите, что я вмешиваюсь, – я делаю это не из дурных побуждений. Но вы, сеньора, так красивы, что не имеете права быть печальной. И когда няня мне про вас рассказала, я все сразу поняла, потому что мне самой пришлось испытать то же самое. Вы должны, сеньора, сопротивляться, не давать горю овладеть вами… Мариана улыбалась, гладя Мануэлу по волосам. Здесь в первый раз после всего случившегося Мануэле пришла в голову мысль, что для нее, может быть, еще и не все потеряно. Накануне, до прихода врача, и еще острее – после возвращения из операционной – она чувствовала себя какой-то тряпкой, бесполезной, лишенной всякого смысла вещью; жизнь, думалось ей, кончена. Она пошла на такой шаг ради Лукаса, из-за любви к брату, которого она всегда считала воплощением лучших качеств, какими только может обладать мужчина. Но вернувшись после операции, она почувствовала, что даже любовь к Лукасу пропала: перед ее взором стоял мертвый ребенок, в ушах звучал его последний крик; тот самый ребенок, что в снах являлся ей живым и радостным, называл ее «мама». Зачем брат потребовал от нее такой жертвы? Для него существовали только дела, деньги, беспредельное честолюбие. В жертву своему честолюбию он принес и ее, и ее будущего ребенка. И как некогда вышло с Пауло, так получилось сейчас с Лукасом: новый образ заменил прежний, идеализированный, и от этого одиночество Мануэлы возрастало, грозило ее задушить. Больше ничего у нее не было, никого не осталось. Теперь ее не утешало даже последнее прибежище – искусство. Ей казалось, что ноги навсегда утратили стремление скользить по сцене, выражать в танце владеющие ею чувства. Может быть, такое ощущение возникло в ней оттого, что жизнь для Мануэлы утратила всякую ценность, – а ведь танцы были ее жизнью, ее грезами, желаниями, волнениями. Теперь она была как мертвая, и мысль о танцах не могла ее оживить. Она потеряла жениха и брата, семью и честь; она потеряла своего ребенка, еще прежде чем он успел появиться на свет. Лежа на больничной койке после ночи, проведенной без сна, она впала в какую-то тяжелую апатию, словно все для нее отныне было кончено. Вот в такую минуту перед ней и появилась Мариана. Мануэла усилием воли взяла себя в руки, ответила на дружескую улыбку Марианы и пригласила ее: – Садитесь… Мариана придвинула к кровати стул и продолжала говорить. Она говорила очень простые слова; но эти простые слова были для Мануэлы хлебом насущным. – Я уже поправилась, но врач хочет, чтобы я еще дня на три-четыре осталась в больнице. Могу составить вам компанию, мне нечего делать… Я знаю, что в вашем положении тяжело быть одной. Мануэла больше не смогла сдерживаться. Сильнее, чем стыд, было в ней желание с кем-нибудь поделиться своим горем. И она обо всем рассказала почти безучастным от долгих страданий голосом. Мариана слушала, не перебивая, все понимая. Мануэла представилась ей беззащитной жертвой; все с ней случившееся явилось результатом существующего общественного строя – несправедливого и циничного. Эти люди, поклоняющиеся деньгам, разрушили все иллюзии девушки, сделали из нее одинокое, исполненное горечи существо. Мариана сумела оценить ее стойкость перед соблазном дешевого успеха; но в то же время поняла, что Мануэла не могла освободиться от предрассудков своей среды. Поэтому Мариана поверила ей, как поверила бы самой себе. Когда Мануэла закончила свой рассказ робкими словами: «Теперь вы все обо мне знаете, и я боюсь, что перестанете называть меня своей подругой», – тогда заговорила Мариана. Она сказала, что многое из того, чем мучилась Мануэла, не имело большой важности: это – следствие ее воспитания, во многом неправильного, мешавшего ей понять искусственность ряда предрассудков. Однако многое другое было жизненно важно, как, например, то, что привело Мануэлу в больницу. Будь Мариана с ней знакома раньше, она удержала бы ее от этого шага. Но теперь они должны говорить о другом: то, чего нельзя исправить, надо считать исправленным. Что касается искусства, то поэт Шопел говорил неправду: искусство – это нечто великое, светлое, и только люди из высшего общества, безвозвратно для всего потерянные, могли считать искусство проституцией. Мариана заговорила о поэтах, которых она любила перечитывать; о поэтах, писавших для народа; заговорила о романе, находившемся у нее в палате; заговорила о жизни и о любви; сказала ей такое, чего Мануэля ни от кого никогда не думала услышать. Мануэла слушала, и интерес ее возрастал, слезы на глазах высохли. Она уже не чувствовала себя такой одинокой, и когда Лукас пришел ее навестить, он был очень удивлен, услышав, что она разговаривает с другой больной о танцах. При появлении Лукаса Мариана ушла в свою палату. В течение трех дней беседовали они между собой, и им казалось, что они знакомы уже много лет. Иногда Мариане бывало трудно понять Мануэлу. Некоторые мысли ускользали от нее: все, что было порождено затхлой атмосферой домика в предместье или кратковременной радостью любви Пауло в маленькой квартирке в Рио. Но она понимала все, что было в Мануэле самобытного и естественного: ее мечты, ее поруганное стремление к любви и счастью. Она, в свою очередь, рассказала Мануэле немного и про себя, умолчав о своей политической работе. Однажды заговорила с ней о России. Этой темы Мариана коснулась в связи с танцами: она спросила, известно ли Мануэле, на какую высоту поднято искусство балета в Советском Союзе и как оно ценится народом? Нет, Мануэла не знала этого, и тогда Мариана сообщила ей то немногое, что ей было известно. – Что вы говорите!.. – удивилась Мануэла. – А мне постоянно приходилось слышать, что в России – ад; не могу даже себе представить, чтобы там были возможны балетные представления. Мариана улыбнулась. – Есть много людей, заинтересованных в том, чтобы клеветать на Россию. Это все те, кто хочет проституировать искусство и эксплуатировать людей… Мануэла с любопытством посмотрела в лицо собеседницы. – Вы мне не сказали, что вы коммунистка. – А что такое коммунисты? – спросила Мариана улыбаясь. – Может быть, это какие-нибудь свирепые чудовища? – Мне не приходилось с ними встречаться… Но я всегда слышала про них всякие ужасы. – Вы потеряли ребенка еще до его рождения. Я тоже. Я знаю еще одну женщину: она тоже потеряла ребенка, которого ждала, а вместе с тем лишилась и собственной жизни. Хотите узнать ее историю? Я слышала ее из верных источников. Все это – правда. – Расскажите… И Мариана рассказала ей про Инасию. Мануэла знала о забастовке в порту Сантоса: в то время Пауло развлекался там на модных пляжах; это было в конце их романа. Точно так же Лукас имел отношение к грузу кофе, который послужил причиной событий. Она недостаточно ясно представляла себе, в чем, собственно, дело, но слышала раз, как брат разговаривал с Эузебио Лимой о кофе и о забастовке. Она выслушала рассказ Марианы и содрогнулась, когда та нарисовала картину, как лошади топтали тело беременной негритянки. – Но зачем она вмешалась в такое дело, когда ожидала ребенка? Ведь это же безумие… – Затем, чтобы в будущем ни одной женщине не пришлось делать абортов. Чтобы мир сделался лучше, чем он есть теперь. Мануэла промолчала, задумалась. Мало-помалу она возвращалась к жизни, только не знала еще, как она будет себя чувствовать после того, как Мариана выпишется из больницы и им придется расстаться. – А когда выйдем из больницы, сможем мы с вами встречаться? Я так к вам привязалась… – Это будет трудновато. У нас разная жизнь… Я целый день работаю, вечером обычно тоже занята. У меня семья: муж, мать. Живу очень далеко, в предместье. Мануэла опечалилась. Разговор происходил накануне ее выписки из больницы; через день должна была выписаться и Мариана. Мануэле было страшно снова оказаться одной в Сан-Пауло или в Рио-де-Жанейро. Лукас телефонировал в Рио режиссеру варьете, объяснил ему, что Мануэла находится в больнице, и добился для нее продления отпуска еще на две недели. Режиссер разговаривал с ним чрезвычайно любезно, с большой похвалой отозвался о танцах Мануэлы, заверил, что возобновление с ней контракта – дело решенное. Лукас советовал сестре эти две недели отдохнуть на курорте. Мануэла не знала, что предпринять. После того как Мариана сказала ей, что им трудно будет встречаться, Мануэлей вновь овладело уныние. Их разговор был прерван няней: она сообщила Мариане, что к ней пришли. «Какая она хорошая, – подумала Мануэла про Мариану, – лучше нее я еще никого не встречала». Спустя минуту Мариана вновь появилась в ее палате. – Я хочу представить вам одного моего друга. Может быть, вы даже знаете его имя – очень известное имя. Мне почему-то кажется, что вы должны подружиться, и мне хотелось бы, чтобы он за вами присматривал, когда мы расстанемся и будем встречаться только случайно. Это человек вашего круга, интеллигент. – А вы как с ним познакомились? – поинтересовалась Мануэла. Мариана рассмеялась. – Я знаю его с детства. Сейчас я его приведу. Можете быть спокойны: он не станет вам делать нескромных предложений… Это был Маркос де Соуза. Он только сегодня узнал об операции Марианы; купил самую большую коробку конфет и явился в больницу. – Как хорошо, что вы пришли. Вы как раз тот человек, в ком нуждается Мануэла, вы сможете ей помочь. – Мануэла? Кто это? Кто-нибудь из товарищей по партии? Вот каким образом Мануэла познакомилась с коммунистами. Это случилось в больничной палате, когда она себя чувствовала особенно одинокой, когда жизнь представлялась ей невыносимым грузом, когда она даже забыла о своем искусстве. 16
Сообщения о попытке государственного переворота не замедлили исчезнуть со столбцов газет. Теперь газеты были полны телеграммами о событиях в Европе; Чемберлену, Гитлеру и Муссолини были посвящены заголовки во всю газетную полосу, напечатанные огромными буквами. Чемберлен преподносился читателям как поборник мира. Набранные жирным шрифтом телеграммы сообщали о его поездках для переговоров с Гитлером, которые решали судьбу Чехословакии. Газеты приветствовали военные успехи Франко в Испании, где германское и итальянское оружие «преграждало дорогу коммунизму». О попытке переворота проскальзывали временами лишь краткие известия: возбужден судебный процесс против офицеров, замешанных в заговоре, и против штатских, арестованных при нападении на дворец Гуанабара. К процессу был также привлечен бывший кандидат на пост президента республики Армандо Салес вместе с некоторыми своими политическими соратниками, в том числе – Антонио Алвес-Нето. Но как эти лица, так и «национальный шеф» интегралистов получили от правительства разрешение до суда покинуть пределы страны. Они отправились кто – в Европу, кто – в Аргентину, в удобную, почетную ссылку; газета «А нотисиа» снова начала выходить, но под другой редакцией; правительство ограничилось конфискацией акций Антонио Алвес-Нето. Адвокат выехал в Европу вместе с Энрикетой. На том же пароходе плыл социолог Эрмес Резенде. Он не был выслан – последствия путча никак его не коснулись. Напротив, он получил от правительства субсидию для своего путешествия. Он отправился, как сообщалось в интервью, напечатанном в литературном приложении к одной крупной газете, изучать в библиотеках, архивах и музеях Португалии исторические документы, необходимые ему для будущей книги об эпохе вице-королевства в Бразилии. Казалось, что вскоре после путча в стране воцарилось спокойствие. Даже о коммунистах было мало разговоров. С некоторого времени в газетах перестали появляться привлекавшие всеобщее внимание снятые в тюрьмах фотографии коммунистов – «этих подрывных элементов» – захваченных или когда они писали лозунги на стенах, или во время полицейских облав, когда они распространяли пропагандистские материалы и номера нелегальной газеты «Классе операриа». Полиция была вынуждена заняться деятельностью интегралистов и армандистов; арестованные участники заговора открыли все, что они знали, а знали они многое. Выяснилось, что правительству Жетулио угрожает целый ряд новых заговоров. Надо было распутать нити этого клубка до того, как они приведут к вооруженным выступлениям. Полиция следила за оппозиционерами, армейских офицеров перемещали из части в часть, а диктатор в своих выступлениях запугивал «растленных политиканов» репрессиями. Он угрожал им в своих официальных речах и одновременно вовлекал в свои политические комбинации. Министерства были реорганизованы – на некоторых прежних министров арестованные заговорщики указали как на лиц, посвященных в заговор. В то же время многие вычеркнутые из политической жизни 10 ноября – при установлении режима «нового государства» – теперь приблизились к Варгасу. Среди них находился и Артур Карнейро-Маседо-да-Роша, которому во вновь сформированном кабинете достался портфель министра юстиции и внутренних дел. Его назначение удивило паулистские круги, но речь, произнесенная им при вступлении в должность, была принята с единодушным одобрением. В этой речи Артур Карнейро-Маседо-да-Роша не поскупился на такие выражения, как «патриотизм», «гражданский дух», «сложное международное положение». Наступил час, утверждал он, когда превыше всех личных соображений, превыше всех политических разногласий должны быть поставлены интересы родины. При серьезности международного положения, при угрозе военного конфликта находиться в непримиримой оппозиции к правительству равносильно преступлению против Бразилии. Долг патриотов – «избранников, ответственных за судьбу страны», – встать рядом с главой правительства, помочь ему в его «деле национального возрождения» и не вспоминать прошлое. Одна из характерных черт благородной личности главы государства, – сказал Артур в своей речи, – это отсутствие злопамятности. Вот почему он призывал всех «добрых бразильцев» позабыть о прежних разногласиях и предлагал им «сотрудничать в созидании возрожденной Бразилии, начатом 10 ноября при провозглашении Нового государства». По словам министра юстиции, новая конституция – это «форма демократического правления, наиболее подходящая для такой молодой страны, как Бразилия; форма, одинаково приемлемая как для крайне правых, так и для крайне левых партий». С новым министром юстиции было связано много влиятельных, выдающихся лиц; пресса публиковала длинный перечень имен, среди которых можно было прочесть имя «крупного промышленника и банкира Жозе Коста-Вале, влиятельного лидера консервативных классов», и имя «вдохновенного поэта Сезара Гильерме Шопела». Кабинетом нового министра, сообщали газеты, будет руководить «культурный и блестящий дипломат Пауло Карнейро-Маседо-да-Роша», откомандированный Итамарати в распоряжение министра. Это были те же самые газеты, которые – меньше чем год назад – называли Пауло «пьяницей» и «позором для нашей дипломатии». Много воды утекло со времени пьяного дебоша Пауло в Боготе – дебоша, так усердно использованного против армандистов в предвыборной кампании. И эта вода, унося с собой столько событий, омыла репутацию молодого человека: какой журналист осмелился бы теперь критиковать поступки будущего зятя комендадоры да Toppe, сына министра юстиции? Не так давно Пауло снова напился в одном из баров Копакабаны, крушил столы и бил посуду, поносил бога и весь свет – и все это только потому, что ему показалось, будто лакей над ним смеется. В бар явилась полиция, но, узнав, с кем имеет дело, не приняла никаких мер, и агенты даже пригрозили хозяину, пожелавшему получить возмещение своих убытков. В эти дни портрет Пауло красовался в великосветской хронике всех газет. Не скупясь на французские выражения, хроникеры описывали празднество, которым комендадора да Toppe ознаменовала помолвку своей старшей племянницы с «последним фйдалго[138] Сан-Пауло», как выразился, в пылу вдохновения, знаменитый Паскоал де Тормес. Один иллюстрированный журнал опубликовал фоторепортаж, имевший огромный успех у всех юных мещаночек; снимки показывали помолвленных на пляже, на улицах города, в саду дворца комендадоры, в библиотеке, сидящих рядом на диване (его – с томиком стихов в руке, ее – восхищенно внимающей чтению жениха), и, наконец, около своего роскошного автомобиля. Эти фотографии увидела и Мануэле; о помолвке Пауло было объявлено в то время, когда она с трудом возвращалась к жизни. С отвращением отбросила она журнал. Когда Артур был назначен министром, она с полным равнодушием прочла в газетных сообщениях то, что относилось к его сыну, как будто речь шла о совершенно чужом ей человеке, которого она никогда не знала. Она еще продолжала танцевать в варьете, но уже решила больше не возобновлять контракта; хотела принять участие в конкурсе для поступления в муниципальный театр. Она чувствовала себя теперь гораздо увереннее в своем искусстве. Маркос де Соуза посещал ее всякий раз, как приезжал в Рио. После того как они познакомились в больнице, архитектор – благожелательный и артистически непосредственный – очень подружился с Мануэлой. Маркос страстно любил музыку и балет, у него было много книг на эту тему, и Мануэла, выписавшись из больницы, погрузилась в чтение этих книг. С Марианой она увиделась только один раз: Мануэле хотелось попрощаться с ней перед отъездом в Рио, и они встретились в конторе Маркоса. – Не могу выразить, насколько я вам благодарна… Они долго беседовали, Мариана обещала навестить ее, если придется побывать в Рио. Когда они обнялись на прощание, Мануэла сказала: – Теперь я уже не представляю себе коммунистов в виде каких-то чудовищ. Я прочла в библиотеке Маркоса книгу о театре и балете в России. Это – нечто замечательное… Маркос де Соуза постоянно приезжал в Рио, где он руководил сооружением целого ансамбля небоскребов. Он звонил Мануэле по телефону, и они вместе посещали рестораны, кино, выставки, концерты. Впервые в жизни Мануэла ощутила тепло истинной дружбы. Архитектор всегда передавал ей дружеские приветы от Марианы, и Мануэла посылала ей с ним какие-нибудь подарки: шаль, книги, а раз даже – детские башмачки. Через Маркоса она познакомилась и с другими представителями левой интеллигенции. Некоторые из них мало чем отличались от Шопела – такие же фигляры, как и он; но были и очень серьезные люди, преданные своей работе, стремящиеся, как и она, осуществить что-то новое. Так она сблизилась с несколькими молодыми артистами, собиравшимися создать труппу для постановки хороших отечественных и иностранных пьес. Эта идея захватила Мануэлу. Маркос поощрял ее, говоря: – Самое важное – честно делать свое дело. Деятели «нового государства» снижают уровень нашей экономики, и этому необходимо противодействовать. Они также снижают уровень литературы и искусства, и в этой области тоже надо что-то предпринять, чтобы спасти нашу культуру от полного загнивания… Маркос с возмущением показывал ей литературные журналы, в которых критик Армандо Ролин печатал огромные статьи с нападками на социальный роман и утверждал, что форма является главным в художественных и в литературных произведениях; в этих журналах длинные восторженные статьи посвящались новой выставке художницы Сибилы; сообщалось об ассигновании крупной государственной субсидии театральной труппе «Ангелов», состоявшей из великосветских любителей и возглавлявшейся «самым гнилым представителем гнилой бразильской буржуазии», как гневно определил Маркос женоподобного Бертиньо Соареса. Лукас Пуччини не присутствовал на торжестве по случаю назначения нового министра юстиции, хотя и находился в это время в Рио и хотя Эузебио Лима очень настойчиво приглашал его на эту церемонию. Лукасу не хотелось встречаться с Пауло; он был очень зол на него и переходил на другую сторону, если замечал его на улице. Тем не менее он отправил Артуру поздравительную телеграмму. Дело с хлопком шло хорошо, завязывались еще и другие коммерческие операции. С той памятной ночи неудавшегося путча Лукас пользовался расположением президента, и – как он это и предвидел – ничто теперь не мешало осуществлению всех его планов. Он действительно начал загребать много денег, и банки, прежде такие скупые на предоставление кредитов, теперь ему предлагали их сами. Он приобрел приходившую в упадок фабрику по выработке красок и теперь энергично ее восстанавливал. Его имя уже приобрело широкую известность, и шла молва, что у него «блестящее будущее». Приезжая по делам в Рио, он навещал Мануэлу. Однако чувствовал, что с того утра, когда он вырвал у нее обещание сделать аборт, в отношениях с сестрой что-то изменилось. Внешне как будто ничего не произошло: они встречались, разговаривали, беседовали о погоде и жизни. Но куда делась горячая нежность Мануэлы, ее пылкий восторг, ее интерес к тому, как развертывались его дела? Они говорили обо всем, но только не о самих себе, а между тем раньше Мануэла была единственным человеком, от кого Лукас не имел никаких тайн. Но как рассказывать ей теперь о своих делах, если она не проявляет к ним никакого интереса, держится отчужденно, чуть любезно, как с не очень близким знакомым? Перед Лукасом была совсем новая Мануэла: полная уверенности в себе, поступающая по-своему, не спрашивая его мнения, решительно отказывающаяся от его материальной поддержки, отвергающая его советы. – Глупо не возобновлять контракта с варьете. Особенно сейчас, когда они обещают повысить тебе гонорар. Ты становишься безрассудной… – наставлял ее Лукас. Она лишь смеялась, ничего не отвечая, не придавая никакого значения его словам. И это задевало Лукаса – после каждой встречи с сестрой у него портилось настроение, будто для счастливого хода его дел необходимо было безусловное восхищение Мануэлы. Он решил, что существует какая-то связь между ней и Маркосом де Соузой, которого он два или три раза у нее встретил. В одном из разговоров он нечаянно высказал ей эту догадку и был очень удивлен бурной реакцией со стороны Мануэлы. – За кого ты меня принимаешь? Маркос – настоящий друг! Наконец-то у меня есть хорошие друзья… Поэт Шопел, которого Лукас иногда посещал (ему удалось заинтересовать Шопела в одном из своих предприятий), жаловался ему на Мануэлу: – Она просто-напросто захлопнула передо мной дверь. Чем я виноват в ее неудаче с Пауло? Когда Пауло с ней порвал, именно я старался помочь ей, поддержать ее… Она сейчас водит компанию с подозрительными людьми… – Подозрительными? – Да. Подозреваемыми в коммунизме. Например, Маркос де Соуза. Я не отрицаю его таланта, он замечательный архитектор. Но говорят, что он коммунист. Все люди, окружающие в настоящее время Мануэлу, – левые. Это опасно… – И разведя руками с видом скорбящего пророка, поэт изрек: – Ах, эти коммунисты!.. Они – бедствие мира. Где меньше всего ждешь их встретить, там на них и натыкаешься. Достаточно, чтобы у человека обнаружился к чему-либо талант, как они уже тут как тут: стараются погубить его, обезличить, превратить в автомат, выполняющий их распоряжения. С некоторого времени о коммунистах ничего не сообщалось в газетах. Антисоветские статьи продолжали заполнять множество столбцов, но газеты обходили молчанием бразильскую коммунистическую партию. Полиция была занята другими делами. Коммунисты тоже не подавали никаких признаков жизни, точно земля разверзлась и поглотила их. А между тем редко партия проявляла столько активности по всей стране, как именно в этот период. После рабочих манифестаций в дни, последовавшие за попыткой интегралистского переворота, партия принялась за укрепление своих организаций, несколько расшатанных преследованиями со стороны реакции, не прекращавшимися с момента крушения восстания 1935 года. Воспользовавшись нынешней передышкой, партия подготовляла условия для усиления борьбы против «нового государства». Неожиданно по ряду штатов прокатилась волна коллективных выступлений протеста профсоюзных организаций против назначения министерством труда нового профсоюзного руководства вместо избранного профсоюзами[139], вспыхнуло даже несколько забастовок. На первых порах все это не привлекло особого внимания властей. Но когда забастовки участились, газеты вновь принялись трубить о «коммунистической опасности». Крупная забастовка началась среди текстильщиков Рио и затем перекинулась в Сан-Пауло. И тут и там были произведены аресты рабочих. Забастовки вспыхнули и в Баии, в Пара, в Рио-Гранде-до-Сул. Одна столичная газета опубликовала сенсационное сообщение: в коммунистической партии создано новое руководство, образованное из местных лидеров и агитаторов, прибывших из-за границы; это руководство ведет активную деятельность среди рабочих; волна забастовок, коллективные выступления на предприятиях, недовольство трудящихся условиями жизни – все это дело его рук. Автор сообщения использовал материалы, выпущенные несколько месяцев назад группой Сакилы в Сан-Пауло. Сообщение заканчивалось призывом к начальнику федеральной полиции принять энергичные меры против «московской угрозы». На следующий день департамент печати и пропаганды разослал газетам заявление начальника полиции, в котором говорилось, что полиция не сидит сложа руки, а пристально наблюдает за новой волной коммунистической пропаганды и готовится нанести решительный удар по «врагам отечества и общественного строя». На самом же деле полиция находилась в смятении: она не могла обнаружить даже следов партии. За исключением нескольких коммунистов, арестованных в Белеме до Пара, за последнее время никто не попадался к ней в лапы. В Сан-Пауло у Барроса снова произошел бурный разговор с комендадорой да Toppe. На одной из фабрик комендадоры – той самой, где раньше работала Мариана, – началась забастовка. Старуха потребовала от инспектора охраны политического и социального порядка быстрой и полной ликвидации «красных». – Вы теряете время на преследование друзей доктора Армандо, а коммунисты, между тем, делают все, что им заблагорассудится. Вмешайтесь же, ради бога, предпримите что-нибудь, арестуйте этих людей… Докажите, что вы на что-то годитесь! В полицейских застенках содержалось много арестованных рабочих. Но какой в этом был толк? Все они – рядовые забастовщики, ни от одного не удалось получить никаких сведений, которые навели бы на след партии, хотя при допросах и применялись испытанные методы «убеждения». Что же оставалось делать, чтобы совсем не уронить себя в глазах комендадоры, исполнить ее требование? Кроме всех других дел, Барросу предстояло позаботиться о сохранении в городе полнейшего порядка, так как в ближайшие дни глава государства должен был проследовать через Сан-Пауло, направляясь в долину реки Салгадо, где ему предстояло заложить первый камень грандиозных промышленных сооружений. Вторая экспедиция специалистов уже находилась в долине. Ее охранял сильный отряд солдат военной полиции штата Мато-Гроссо и охранники Венансио Флоривала. На этот раз кабокло не отважились показаться; они не покидали своих поселков. Из всего населения долины инженеры встретились лишь с сирийцем Шафиком. Судебный процесс о владении землями был проведен в Куиабе. Акционерное общество выиграло дело, и теперь оставалось только послать солдат и силой прогнать кабокло. После их выселения можно будет приступать к работам. В Рио, в Саи-Пауло, в городах глубинных районов страны уже вербовались рабочие для будущих предприятий в долине Салгадо. Проектировалось также создание там колонии японских иммигрантов. Спокойствие, сопровождавшее прибытие второй экспедиции специалистов в долину, объяснялось указаниями руководства партии, полученными Гонсало через негра Доротеу: не форсировать событий, подождать, когда угроза против кабокло примет совершенно конкретные формы, подготовить окрестное крестьянство. Работу среди крестьян взял на себя Доротеу: он ходил от фазенды к фазенде иногда с Нестором, иногда с Клаудионором. Гонсало скрывался в селве, по ночам выходил оттуда и, как привидение, появлялся в хижинах кабокло. Коста-Вале закончил сложные переговоры с американцами. Он уступил им большую часть акций; огромные капиталы в долларах ассигновались на работы по добыче марганца в долине. Банкир срочно вылетел в Соединенные Штаты. Его сопровождал Шопел, который теперь в одной утренней газете Рио печатал свои впечатления о «колоссе янки». По возвращении из поездки, как-то завтракая вместе с Артуром во дворце, Коста-Вале пригласил диктатора заложить первый камень на торжестве открытия работ акционерного общества. На берегу реки был уже выстроен аэродром – президент мог бы прибыть туда самолетом непосредственно из Сан-Пауло. Глава государства в тот же день сможет возвратиться в Сан-Пауло. Варгас принял приглашение. Была даже назначена дата его прибытия в долину. Венансио Флоривал обещал приготовить грандиозное «шурраско» – жаркое на углях – для президента и его свиты. А в это время начались забастовки и коллективные протесты рабочих. Баррос не хотел и думать о том, чтобы пребывание диктатора в Сан-Пауло было и на этот раз омрачено рабочей демонстрацией, как это случилось год назад, когда Баррос еще не был инспектором. Комендадора права: надо разделаться с коммунистами. Баррос пришел в полицейское управление в отвратительном настроении. В дверь его кабинета просунул голову Камалеан, спрашивая, может ли он с ним поговорить. Баррос встретил его грубо: – Что надо? Я занят! Камалеан смутился, сжался, как испуганный щенок перед хозяином. – Говорите сразу, если есть что сказать! – Сеньор помнит Луиса? – Какого Луиса? – Эйтора Магальяэнса, того самого, что был казначеем коммунистической партии и позже вошел в группу Сакилы? – Да, помню. А в чем дело? – Он в Сан-Пауло. Приехал всего несколько дней назад. Я с ним встретился, мы беседовали, сегодня увижу его снова. – Ну и что? – Он отсиживался все это время в штате Гойаз. Боялся возвратиться, так как был связан с доктором Алвес-Нето. Сеньор помнит? Баррос заинтересовался. – Продолжайте… – Ну, так вот… Теперь, когда все успокоилось, он вернулся. Будучи в Гойазе, он написал разные заметки о партии. Нечто вроде книги, в которой он рассказывает все, что ему известно. Говорит, хочет продать это одной газете. Я счел необходимым сообщить об этом сеньору. – Он написал книгу о партии? Собирается продать ее газете? – Именно так, сеньор. Баррос немного помолчал. Он уже и раньше думал об Эйторе как человеке, с которым полиция сможет договориться. У Барроса даже был план на некоторое время арестовать Эйтора, чтобы иметь возможность по душам с ним поговорить, сделать ему некоторые предложения и посмотреть, что из этого выйдет. Однако врач исчез из Сан-Пауло, прежде чем инспектор успел привести свой план в исполнение. А потом разразился интегралистский путч, и Барросу больше некогда было думать об Эйторе. – Где он живет? – В гостинице на улице Рио-Бранко. Я знаю, где это, – он меня к себе водил. – Поезжайте к нему тотчас же. Захватите с собой еще одного человека на тот случай, если он вздумает сопротивляться. Если не застанете его дома, подождите, пока вернется. – Слушаюсь. Камалеан откланялся, собираясь выйти, но не успел он покинуть кабинет, как Баррос изменил решение: – Нет, нет! Лучше я поеду с вами сам. Тогда я могу быть уверенным, что все сойдет хорошо. Я хочу ознакомиться с его записками. Несколько дней спустя газета «А нотиоиа» возвестила, что в ближайших номерах начнется публикация серии сенсационных статей бывшего коммунистического лидера о жизни и деятельности партии в Бразилии. В течение двадцати четырех часов улицы Сан-Пауло были заклеены рекламными объявлениями, призывавшими граждан читать «разоблачения одного из лидеров коммунистической партии – самую крупную газетную сенсацию текущего года». В радиопередачах, в промежутки между музыкальными номерами, дикторы спрашивали: «Хотите знать, как функционирует коммунистическая партия? Как она получает деньги из Москвы? Каких клятв требуют коммунисты при вступлении в партию? Каким они предаются оргиям? Какие совершают преступления? Какие у них планы уничтожения церквей и священников? Читайте начиная с воскресенья газету «А нотисиа», которая будет печатать секретные мемуары одного бывшего коммунистического лидера». Статья, открывавшая собой серию очерков, была напечатана на первой полосе газеты с заголовком во всю страницу: «Преступная деятельность коммунистической партии». Это была книга, задуманная Эйтором Магальяэнсом. Однако ему не удалось написать всю книгу: он записывал в тетрадь все, что приходило в голову, но воображение плохо помогало ему, и Барросу пришлось пригласить в полицию одного журналиста, своего друга, и поручить ему приложить руку к этому делу. Целые главы книги Эйтора и были написаны этим журналистом. Барросу не стоило большого труда договориться с Эйтором. Но книга Эйтора не представляла для инспектора того значения, которое он ей придавал вначале, сразу же после сообщений Камалеана. Конечно, эта книга хороша для широкой публики: в ней приводились нелепые описания того, как коммунисты по ночам сжигали изображения святых, как они требовали от вновь вступающих членов, чтобы те собственной кровью расписывались под клятвой в том, что будут слепо выполнять все приказы партии и убивать без малейшей жалости всякого, кто попытается противиться решениям руководства. Эйтор позаимствовал несколько мыслей у Яна Валтина, остальные взял из американских детективных романов. Зато другие вещи, не фигурировавшие в книге, глубоко заинтересовали инспектора охраны политического и социального порядка: адреса, фамилии, места явок и особенно известие о том, что знаменитый Жозе Гонсало, столько лет разыскиваемый полицией, находится в долине реки Салгадо и что он ответственен за пожар лагеря североамериканских специалистов. Это известие было настолько важно, что Баррос решил лично отправиться в Рио для совещания с начальником полиции, а не прибегать к помощи междугородного телефона. В то же время в Мато-Гроссо выехали сыщики. Как-то утром, в самом конце сентября, два сообщения привлекли к себе внимание читателей газет. Одно из них касалось международной политики и говорило о том, что в Мюнхене главы правительств Великобритании, Франции, Германии и Италии – Чемберлен, Даладье, Гитлер и Муссолини – пришли к соглашению относительно Чехословакии. «Мир спасен!» – ликующе возвещали заголовки над телеграммами, фотографиями Чемберлена с зонтиком подмышкой и Гитлера, поднявшего руку в знак нацистского приветствия. Второе сообщение исходило от управления полиции. Благодаря «настойчивой, методической и образцовой работе» полиции Сан-Пауло удалось раскрыть всю коммунистическую организацию штата, а полиции Рио – благодаря «не менее методической, настойчивой и образцовой работе» – удалось арестовать некоторых видных вождей партии. Начальник федеральной полиции, давая интервью журналистам, утверждал, показав на разложенные у него на столе захваченные при обысках материалы: – Я могу гарантировать, что в шесть месяцев мы вырежем эту злокачественную опухоль, разъедающую сердце Бразилии, – коммунистическую партию. Произведенными ныне арестами мы обезглавили эту организацию агентов Москвы. Нам остается только ликвидировать ее остатки, сохранившиеся здесь и в штатах. И мы это сделаем. Он уже вторично обещал ликвидировать партию в шесть месяцев; в первый раз он это сделал при установлении режима «нового государства». Но теперь на журналистов произвели очень внушительное впечатление и захваченные материалы и фотографии арестованных в Рио и Сан-Пауло. Фотографии эти были воспроизведены на первой полосе одной столичной газеты, и Маркос де Соуза, уже неделю как находившийся в Рио, при взгляде на них воскликнул: – Боже мой! Это происходило на улице, он был с Мануэлой. Они только что вышли из кино; Маркос купил газету. Он остановился, вгляделся в снимки и внезапно глубокая тень легла на его лицо. – Зе-Педро и Карлос… – Что с ними? – тревожно спросила Мануэла. Архитектор оторвал взгляд от газеты и посмотрел на Мануэлу. В первый раз она видела его печальным. – Что случилось? Какое-нибудь неприятное известие? Маркос показал на фотографии в газете и мрачно проговорил: – Аресты в Сан-Пауло. И здесь. Очень серьезно. – Вы знали кого-нибудь из них? – Только двоих… – Вам не угрожает опасность? – Мне? Нет. Полиции обо мне ничего не известно. Этих двоих, что арестованы, я хорошо знаю – они никого не выдадут. Маркос продолжал читать газету, Мануэла с тревогой следила за выражением его лица. – Этот подлец начальник полиции заявляет, что в шесть месяцев покончит с партией… – Маркос снова посмотрел на фотографии. – А Жоан? По-видимому, им не удалось его арестовать. Ну, пока Жоан на свободе, им не только в шесть месяцев, но и в шесть лет не ликвидировать партию! – Кто это Жоан? – Муж Марианы… – Марианы? Его не арестовали? Какое счастье!.. – И Мануэла сразу повеселела, уже почти не разделяя печаль Маркоса. Они медленно продолжали путь. Маркос шел подавленный, с поникшей головой, нахмуренным лбом. Мануэла взяла его за руку, сочувственно спросила: – Вы опасаетесь, как бы полиции не удалось арестовать их всех и этим покончить с партией? – Нет, Мануэла. Но я думаю о том, как они должны страдать, сколько они уже перестрадали за эти дни. Вы не можете себе представить жестокость полиции: они бросаются на этих людей, как псы… Карлос рассказывал мне, что с ним делали здесь, в Рио, когда арестовали в прошлый раз. – Он сжал руку девушки, покоившуюся в его руке. – Но я не боюсь, что полиция покончит с партией, – это невозможно… – Он показал ей на другое сообщение в газете: – Видите? Они предали Чехословакию. Они поддерживают Гитлера, чтобы дать ему возможность напасть на Советский Союз. Но, Мануэла, с коммунизмом покончить так же невозможно, как покончить с морем или небом, как покончить с человеком… Не случалось ли вам когда-нибудь желать, чтобы завтрашний день не наступал? – Да, случалось… однажды… – А между тем завтрашний день все-таки наступил, не так ли? Никто не может помешать ему наступить: ни полиция, ни Гитлер, никто на свете… Меня тревожит только, что они сделают с Карлосом, Зе-Педро, с остальными… Мануэла сказала: – Я почти ничего не понимаю в политике. Полная невежда, никогда этим раньше не интересовалась. Единственно могу сказать, что знаю и тех и других: и богачей и коммунистов. Узнала и тех и других… – повторила она, как бы сравнивая их и вынося свое суждение. – Она взглянула на Маркоса синими, бесконечно прекрасными глазами. – Знаете, мне хочется что-нибудь сделать, чтобы им помочь… Но я не знаю, что я могу сделать. Мальчишки выкрикивали сенсационные заголовки газет. – Что я могу сделать, Маркос? КНИГА ВТОРАЯ. СВЕТ В ТУННЕЛЕ В моей душе печаль и гнев [140] Глава шестая  1
Сидя в автомобиле между двумя полицейскими, Карлос смотрел на улицу, как бы прощаясь с ней. На этой улице он жил ребенком, и внезапно воспоминания детства нахлынули на него. Отец пел отрывки из итальянских опер – у них был старый граммофон с пластинками Карузо. Как-то раз Карлос в озорной мальчишеской возне уронил и расколол одну из этих пластинок. Отец пришел в ярость, и Карлосу, чтобы избежать наказания, пришлось спрятаться за широким подолом материнского платья. Мать его была негритянка, преисполненная ласки и радости, толстая и спокойная, в противоположность мужу – худощавому нервному итальянцу; даже своими музыкальными вкусами и песенками, что они напевали, его родители резко отличались друг от друга: мать решительно отдавала предпочтение «коко» и «катеретэ»[141], круговой самбе, а отец был сторонником итальянской музыки. Она хотела продать устаревший граммофон и купить вместо него небольшой радиоприемник, но отец воспротивился этому: как же он тогда будет слушать свои любимые пластинки Карузо? Мать не настаивала. Она жила в блаженном созерцании своего мужа и сына; ведь сын – великолепное сочетание их обоих: нервный и предприимчивый как отец, приветливый и веселый как мать. По воскресеньям приходил старый Орестес потолковать за завтраком о политике. Отец был великий мастер готовить макароны, однако бывший анархист, – может быть, чтобы посмеяться над ним, – отдавал предпочтение африкано-бразильской кухне и восхвалял пряные блюда, изготовлявшиеся матерью. Старый Орестес направлял первые шаги Карлоса по пути революционной борьбы. – Кто мог меня предать? – спрашивал себя Карлос, отвлекаясь от воспоминаний детства, пробужденных видом знакомой улицы. Его знали многие, это естественно: он был одним из руководителей районного комитета, наиболее тесно связанным с партийными ячейками, однако лишь очень немногие были осведомлены о его местожительстве. И тем не менее полиция его нашла, нагрянула, оцепила улицу, переполошила всю округу. Сыщики оказались превосходно информированными обо всем: не только о его доме, но даже о его привычках. Быть может, они следили за ним уже давно, а он этого не замечал? Нет, он был чрезвычайно осторожен и за последние дни не наблюдал ничего подозрительного. Кто-то его выдал. Но кто? Он перебирал в памяти товарищей, которым было известно, где он живет. Члены секретариата, Мариана, еще несколько человек – все верные, надежные люди. Он не находил среди них ни одного, кто способен на предательство. Кроме всего прочего, за последнее время не было никаких арестов; еще накануне он проводил с товарищами собрание, все было в порядке; забастовки продолжались. А ранее арестованным забастовщикам даже не было известно о его существовании. Кто же мог его предать? Выданы ли и остальные, или взят только он один? В этом заключалось главное: разгром руководства и арест ответственных товарищей – это катастрофа. И именно сейчас, когда напряженная деятельность, развернувшаяся за последние месяцы, начала приносить свои плоды… Именно сейчас, когда в политической жизни рабочего класса началось оживление после длительного периода затишья, наступившего за кровавым подавлением забастовки в Сантосе, движения солидарности и срывом в самом же начале стачки на Сан-Пауловской железной дороге. А ведь каких усилий стоило в процессе повседневной подпольной работы вновь поднять боевой дух масс, суметь должным образом использовать последствия неудавшегося интегралистского путча… Престиж партии на предприятиях вырос. В партию влились новые кадры, открывались перспективы на будущее… И вот теперь все это оказалось под угрозой… Если выдан лишь он, тогда это еще не так серьезно: другой займет его место, и все пойдет своим чередом. Тогда перед Карлосом остается только одна задача: хранить молчание, перенести все, чему бы его ни подвергли. Но если арестованы Жоан, Зе-Педро и другие ответственные товарищи из районного и национального руководства, тогда дело обстоит значительно хуже, тогда это настоящая катастрофа… Может оказаться сведенной на нет вся работа, сорвется все забастовочное движение. Как же, чорт возьми, сумела полиция напасть на его след? Что она узнала о нем, об организации? Да, лучше всего – хранить полнейшее молчание. По поведению арестовавших его сыщиков, по количеству автомашин и полицейских, сосредоточенных на улице, по обрывкам фраз агентов он понял, что полиция хорошо осведомлена о нем, о его партийной деятельности. Это совсем не так, как было в прошлый раз, когда его случайно арестовали в Рио. Тогда он смог придумать запутанную историю, более или менее правдоподобную, и, придерживаясь ее до конца, ему удалось убедить в своей правоте полицейского инспектора. При аресте его сильно избили, но так как он твердо держался своей версии, а полиция не имела против него никаких конкретных улик, его, в конце концов, освободили. Но теперь совсем иное дело. Теперь надо будет молчать, отказываться отвечать на вопросы и приготовиться пережить тяжелые минуты. Пережить все, храня полное молчание. Автомобиль остановился перед зданием управления полиции. Агент открыл дверцу, выскочил и остановился на тротуаре. Другой полицейский подтолкнул Карлоса. – Пошли… Из окна авто Карлос бросил взгляд на площадь. Некоторые прохожие с любопытством смотрели на полицейский автомобиль. Карлос выпрыгнул из машины и крикнул: – Они арестовали меня потому, что я борюсь за народ, против этого правительства… Прохожие смотрели на него с удивлением, но конца фразы они не услышали: сыщики подхватили Карлоса под руки, он сопротивлялся, пытался вырваться; подоспели другие агенты, один из них ударил Карлоса по голове, и его буквально втащили в дверь. Он слышал, как снаружи полицейский кричал прохожим: – Проходите! Один из сыщиков еще на улице скрутил Карлосу руку. Боль была страшная, но Карлос молчал. Так дотащили его до лифта. Второй сыщик пригрозил: – Там, наверху, мы тебя научим, как разговаривать!.. Наверху оказался длинный коридор, наполненный полицейскими, которые курили, беседовали, смеялись. Тот, что скрутил ему руку, отпустил ее и, толкнув Карлоса в толпу полицейских, сказал: – Вот он, Карлос. У входа пытался произнести речь… Этакий пес… И на Карлоса со всех сторон посыпались удары: его били по лицу, в грудь, в бока, он получил страшный удар ногой по бедру. Так, под градом ударов, он прошел коридор и очутился перед дверью кабинета Барроса. Его втолкнули в переднюю. Сыщик, скрутивший ему руку, смеялся: – Это тебе только задаток… «Садист», – подумал Карлос. Один из ударов рассек ему губу. Да, предстоят тяжелые испытания. На этот раз ему не удастся придумать какую-нибудь историю, это бесполезно. Только молчать, пока они не отстанут или не убьют его. В дверях показался Баррос. Он улыбался. В уголке рта неизменный окурок. – Войдите, сеньор Карлос… Поговорим… Шпик толкнул Карлоса. – Живее! Двое сыщиков вошли вместе с ним. Один из них выложил на стол инспектора материалы, взятые у Карлоса дома, листовки, номера коммунистической газеты «Классе операриа», рукопись статьи о забастовочном движении, которую он писал. Второй остался стоять, прислонившись к двери и слегка насвистывая. Баррос развернул материалы и молча показал Карлосу на стул. Взглянул на листовки и углубился в чтение статьи. Время от времени он покачивал головой, будто одобряя мысли, изложенные Карлосом относительно проведения забастовок. – Вы, молодой человек, теоретик. Очень хорошо… Он отложил бумаги, сел. Полицейский, принесший документы, отошел к окну. Баррос пристально посмотрел на арестованного и положил руки на стол. – Ну, послушаем, что вы нам расскажете, сеньор Карлос… – Мне не о чем рассказывать… – Не о чем? Посмотрим… – Баррос постарался проговорить это иронически. – Я дал себе труд выяснить, кто скрывался под именем «Карлоса», сеньор Дарио Мальфати… Так всегда бывает: в конце концов Баррос разгадывает все ваши секреты… Поэтому лучше раскрыть перед Барросом душу, рассказать все, ничего не утаивать. Согласны? Баррос был в хорошем настроении. Он подмигнул глазом шпику у окна, и тот улыбнулся, как бы оценив иронию своего начальника. Полицейский, стоявший у двери, казался совершенно равнодушным к происходившему, он только перестал насвистывать. – Что предпочтете: продиктовать свои показания или отвечать на вопросы? – Продиктовать. – Очень хорошо. Секретаря!.. – приказал он полицейскому, стоявшему у дверей. Сыщик вышел и через минуту возвратился в сопровождении одетого в черное маленького худого человечка, напоминавшего голодную крысу. Он подошел к столику, на котором стояла пишущая машинка, сел, вложил лист бумаги. – Готово. – Можете начинать, – обратился Баррос к Карлосу. – Но помните, что вы здесь не для того, чтобы выдумывать всякие истории, как вы это делали в Рио. Мои коллеги тогда вам поверили, но предупреждаю с самого начала, что я очень недоверчив… – И Баррос снова засмеялся, и снова сыщик, доставивший материалы, одобрительно улыбнулся. Карлос повернулся к столику. – Я был арестован полицией Рио 14 января 1936 года. Был освобожден 25 февраля того же года. Был вновь арестован полицией Сан-Пауло сегодня… Он замолчал, как бы давая время худенькому человечку напечатать продиктованные фразы. Стук машинки прекратился, а Карлос все продолжал молчать. Баррос его подбодрил: – Теперь о том, что вы делали в этот промежуток времени… Полный отчетик с именами и адресами. – То, что я делал в этот промежуток времени, надлежит выяснить самим сеньорам. Полицию представляете вы, сеньор, а не я… Я не добавлю больше ни слова к сказанному. Баррос поднял руку и сшиб Карлоса со стула ударом кулака. – Это что еще, негодяй? Вздумал разыгрывать из себя героя? Баррос встал, обошел вокруг письменного стола, схватил Карлоса за пиджак, приподнял его с пола, притянул к себе, еще раз ударил по лицу и выпустил. Карлос потерял равновесие; он ударился о стену, губа его кровоточила. Худой человечек, сидевший за машинкой, стер неправильно напечатанную букву и затем поставил нужную, как будто в комнате ничего особенного не происходило. Баррос и оба сыщика подошли к Карлосу. – Думаешь, я не заставлю тебя говорить? Пропоешь все, что тебе известно, если не хочешь оставить здесь свою шкуру. – Баррос ударил кулаком по столу. – Мне уже приходилось укрощать таких храбрецов… Зазвонил телефон. Человечек с крысиной мордочкой взял трубку. – Он сейчас занят… – У другого конца провода, по-видимому, настаивали. – Да, очень занят. – Человечек еще немного послушал. – Подождите… – Он обратился к Барросу: – Вас просят, начальник. Роберто привез еще других. Спрашивает, что с ними делать… Баррос улыбнулся. Улыбка торжества была адресована Карлосу. – На этот раз вы, господа, ликвидированы. Никакое мужество не поможет. Я не оставлю даже следа партии в Сан-Пауло. Он подошел к телефону. «Кто мог предать партию?» – спрашивал себя Карлос. Рассеченная губа болела; он достал платок, чтобы отереть кровь. Если верить Барросу, полиция арестовала все руководство. Что теперь будет с забастовочным движением? Баррос отдавал по телефону распоряжения. Один из сыщиков снова принялся тихонько насвистывать, секретарь чистил щеточкой ногти. У Карлоса, не переставая, сочилась из рассеченной губы кровь. – Приведите их в приемную, я хочу на них посмотреть, – сказал Баррос в трубку, заканчивая разговор. Затем снова обратился к Карлосу: – Я дам тебе время подумать. Но предупреждаю об одном: если не станешь говорить по-хорошему, заговоришь по-плохому. Вечером опять пришлю за тобой… Если дорожишь своей шкурой, постарайся до вечера освежить память. После этого он обратился к полицейским: – Уведите отсюда этого паяца. Но нельзя помещать его вместе с остальными. Это – вожак, вы знаете… Мы должны обращаться с ним, как он того заслуживает. Поместить его вниз, в одиночку… – Он еще раз взглянул на Карлоса, как бы проверяя его способность к сопротивлению, и отдал новое распоряжение: – А лучше всего сейчас заполнить все анкеты на него и сфотографировать. Может случиться, что сегодня вечером нам придется произвести над ним кое-какие операции… сделать ему косметический массаж лица… А мне нужны фотографии для газет еще до того, как он будет разукрашен. – Слушаю, начальник. Карлоса увели. Проходя через переднюю, он увидел только что привезенную группу арестованных. Это были три товарища из Санто-Андре, один из них – ответственный работник. Карлос прошел мимо, сделав вид, что не знает их, – сыщики не спускали с него глаз, чтобы видеть, как он будет реагировать. Баррос тоже следил через оставленную открытой дверь и увидел, как один из трех арестованных – пожилой, почти совершенно лысый человек – содрогнулся при виде окровавленных губ Карлоса и следов от ударов у него на лице. 2
Когда Зе-Педро проснулся от сильного стука в дверь, ребенок уже, не спал и плакал. Зе-Педро дотронулся до плеча Жозефы, прошептал ей на ухо: – Зефа! Зефа! Она потянулась, еще в полусне. – Что такое? Но тут же, услышав плач сына, сбросила с себя одеяло, собираясь вскочить. Зе-Педро удержал ее руку, прошептал: – Это полиция. Слушай… Тяжелая рука изо всей силы колотила во входную дверь. Жозефа вскрикнула, прикрывая рот ладонью: – Боже мой! – Слушай… – сказал Зе-Педро, – может статься, что они возьмут и тебя, а может быть, и нет. Скорее всего нет: из-за ребенка и для того, чтобы через тебя напасть на след других. Никто не должен сюда приходить в эти дни. У меня на завтра назначена встреча, далеко отсюда. Поскольку я не явлюсь, товарищи догадаются, что со мной что-то случилось. Самое лучшее, чтобы ты никого не предупреждала. Если тебя не арестуют, оставайся дома, сразу не выходи. Потом возьми мальчика и отправляйся к своей матери. Оставайся у нее. А к товарищам не ходи, чтобы не дать полиции напасть на след. Теперь поди в мою комнату, возьми там пачку бумаг и брось ее в колодец, а я тем временем займу шпиков. Иди скорее! Жозефа спрыгнула с кровати и босая, чтобы не производить шума, выбежала из комнаты. Спустя несколько минут поднялся и Зе-Педро. Удары в дверь достигли такой силы, что грозили сокрушить ее; наверное, все соседи уже проснулись. Зе-Педро услышал шага Жозефы, возвращавшейся со двора. Сущее счастье – этот глубокий старый колодец у них во дворе, оставшийся еще от тех времен, когда не было водопровода! Зе-Педро всегда имел его в виду для того, чтобы спрятать компрометирующие материалы, в случае если полиции удастся обнаружить его местожительство. Он дождался возвращения Жозефы. – Теперь крепись! Позаботься о мальчике. – И он пошел открывать дверь, в которую сейчас ударяли каким-то тяжелым железным предметом. Свет раннего утра проник через распахнувшуюся дверь. Жозефа, с ребенком на руках, стояла в коридоре. Сыщики ворвались с револьверами наготове. – Сдавайтесь или будем стрелять! Баррос вышел из авто, где он до сих пор оставался, прошел между сыщиками, в скудном утреннем свете узнал Зе-Педро. – Этот самый! – И приказал сыщикам: – Обыщите дом, здесь должно находиться многое. Он, наверное, успел все спрятать, потому так долго и не отворял… Полицейские приступили к обыску. Один из них грубо оттолкнул Жозефу с дороги, ребенок разразился плачем. Баррос обратился к женщине: – Сыночек, да? – Затем повернулся к Зе-Педро. – Кто произвел на свет этого ребенка? Вы или какой другой товарищ? Ведь у вас все общее; в этом ведь и заключается коммунизм, не так ли? И жены тоже должны быть общие… Зе-Педро ничего не ответил. Баррос рассмеялся своей грязной шутке, полицейские ему вторили. Один из них заметил: – Эта корова даже не находила времени навестить родную мать. Сколько раз я проходил по вечерам у дома, где живут ее родные, чтобы посмотреть, не заявится ли она туда… И вот уже больше года, как ее там не было. Баррос ответил: – Это оттого, что ей нужно было оставаться со своим «товарищем». Не так ли, красотка? Или чтобы не навести нас на след? Какой был в этом смысл? Баррос все равно напал на след… – Затем он обратился к Зе-Педро: – Одевайтесь, да поживее! Разговор продолжим в полиции. У нас есть многое, о чем поговорить. – Он велел одному из сыщиков: – Ступайте с ним, обыщите комнату. Жозефа, прижимая ребенка к груди, посторонилась, чтобы пропустить Зе-Педро, и хотела пойти вслед за ним. Баррос ее предупредил: – Вы тоже поедете с нами. Она спросила: – А ребенок? Я не могу оставить его одного. Зе-Педро обернулся на ходу. – Она ко всему этому не имеет никакого отношения. Когда выходила за меня замуж, даже не знала, кто я. Никогда ни во что не вмешивалась… – Собирайтесь поживее! Я явился сюда не затем, чтобы спрашивать у вас, что мне делать… Сыщик пошел вместе с ними и перерыл все в комнате, пока Зе-Педро одевался, а Жозефа собирала белье ребенка. Матрац был сброшен с кровати, самодельная колыбель (Зе-Педро сам ее смастерил из досок ящика) разломана. – Я ничего там не нашел, – проворчал сыщик, вернувшись к Барросу. – Слушай! – сказал Зе-Педро жене, улучив удобный момент. – Тебе ничего неизвестно, никто здесь не бывал, а я сам ежедневно уходил из дома. Никто не бывал, понимаешь? Пусть даже тебя убьют… – А ребенок? – спросила она, содрогнувшись. – С ним они ничего не сделают. Но… – Он отвел глаза, чтобы скрыть отразившуюся в них боль. – Но если бы даже они вздумали убить ребенка, все равно, ты ничего не знаешь. Мужайся, Зефа! В это время возвратился сыщик. – Пошли! Столько времени потратить, чтобы надеть пиджак, – точно гран-финос с паулистской авениды… Дожидались в коридоре возвращения Барроса, который руководил обыском; инспектору казалось странным, что его люди не нашли ничего предосудительного, кроме нескольких книг, сложенных в ящичке. Он пошел и во двор – крошечное пространство, где тянулось несколько ростков мамана и рахитичной гойя-бейры[142]. Отдал распоряжение нескольким из сопровождавших его полицейских: – Вы останетесь в доме. Хватайте всякого, кто сюда явится. И еще раз все тщательно обыщите: это очень опасный тип, он, должно быть, хорошо запрятал свои материалы. Позже я пришлю вам смену. Ребенок перестал плакать; он жевал кусок сухого хлеба, который дала ему Жозефа. Сыщики не позволили ей приготовить для ребенка кашу. – Он поедет со мной, – сказал Баррос, указывая на Зе-Педро. В полураскрытых окнах домов виднелись лица любопытных соседей. Некоторые из полицейских так и не выпускали из рук револьверов. Ребенок вновь разразился бурным плачем, кусок хлеба упал в уличную грязь. Жозефа попросила: – Позвольте, по крайней мере, подогреть чего-нибудь для маленького. Уже прошел час его кормления. – Детям коммунистов есть не обязательно… – огрызнулся один из полицейских. Другой ткнул ногой в упавший кусок хлеба. – Что еще за нежности? Дайте ему этот хлеб! В окне соседнего дома показалась растрепанная голова пожилой женщины. – Я могу вам дать немного молока, соседка. – Затем она обратилась к полицейским: – Это бесчеловечно везти ребенка голодным… Внутри дома кто-то старался оттащить ее от окна, женщина возмутилась: – Оставь меня! Какое мне дело, что они коммунисты? Пусть они хоть самые страшные преступники в мире, – где это видано, чтобы маленького ребеночка волокли в тюрьму? Да еще голодного, – где это видано?.. – Она снова высунулась из окна. – Подождите минутку, я сейчас вынесу молоко… – И исчезла в глубине дома. Вскоре она появилась в дверях – в платье, наскоро надетом поверх ночной рубашки, с чашкой молока в руках. Подала чашку Жозефе, погладила ребенка по головке. Из автомобиля, куда втолкнули Зе-Педро, слышался сердитый голос Барроса: он торопил. Один из полицейских, еще стоявших на тротуаре, обратился к женщине: – Скоро вы узнаете, как помогать коммунистам!.. Когда они отнимут у вас все, что вы имеете… Женщина подбоченилась, подняла голову, в ее голосе прозвучал вызов: – Что отнимут? Будто у нас есть что-нибудь, будто в нашей стране народ живет в достатке!.. Хуже того, как мы живем, и быть не может!.. Жозефа возвратила ей чашку, поблагодарила: – Большое вам спасибо… Сыщик подтолкнул Жозефу к автомобилю и крикнул женщине: – Убирайся, толстая ослица! Из дома ее звали испуганные голоса, но она оставалась на тротуаре, пока машины не уехали. – Негодяи!.. Мерзавцы… 3
Его отвели прямо в комнату пыток. Зловещий полицейский юмор окрестил это помещение «комнатой спиритических сеансов». Находясь в сырой подвальной камере весь остаток этого вечера, Карлос, тело которого болело и ныло от ударов и пинков ногами, думал над двумя вопросами: кто его выдал и много ли товарищей арестовано? Ему все время приходилось придерживать на себе брюки: у него отобрали пояс и галстук, чтобы он не смог покончить с собой. И так как брюки были ему слишком широки – они достались ему от другого человека, – то грозили ежеминутно свалиться. В конце концов, ему пришлось сесть на мокрый пол камеры – прежде чем его здесь запереть, на пол вылили несколько ведер воды. Он не мог составить себе никакого представления о том, скольких товарищей и кого именно удалось арестовать полиции. Зато у него постепенно начала возникать догадка, откуда могло идти предательство: от группы Сакилы. Журналист после провала армандистско-интегралистского путча бежал за границу. Карлос слышал, что он находится или в Аргентине, или в Уругвае – точно не помнил. Но не одному Сакиле было известно про Карлоса. Его местопребывание, его настоящее имя, его функции в партии были также известны «Луису» (он же – Эйтор Магальяэнс) – бывшему казначею районного комитета партии, выгнанному за воровство. Это он мог донести… А может быть, проговорился какой-нибудь случайно арестованный товарищ? Он снова и снова перебирал в памяти имена друзей, которым были известны его местожительство, его имя, его партийные функции; но таких было немного, и ни один из них не казался ему способным проговориться полиции. В полночь в камеру за ним явилось двое полицейских. Он пошел между ними, придерживая руками брюки. У него не было никаких иллюзий по поводу того, что его ожидало. У себя в кабинете Баррос еще раз попытается убедить его признаться во всем, а затем там же, в кабинете, или в другом помещении прибегнет к пыткам. Что произошло с товарищами из Санто-Андре? В одном из них Карлос был настолько уверен, что поручился бы за него головой: это был испытанный и твердый человек, от которого им ничего не добиться. Двух других он знал лишь поверхностно – выдержат ли они жестокий нажим полиции? И до какой степени их арест отразится на организации забастовки на фабриках в Санто-Андре? На этот раз Карлоса ввели не в кабинет Барроса, а в комнату, где он сразу заметил на полу следы крови. Значит, здесь кто-то уже был до него. Его дожидались два сыщика: один тот самый садист, который утром выворачивал ему руку, – позже он узнал, что его зовут Перейринья, – и второй – смуглый человек с приплюснутым носом, атлетического сложения, в котором Карлос сразу же узнал знаменитого истязателя, по прозвищу «Демпсей», потому что он некогда был боксером[143]. За ним установилась репутация преступного палача; раньше он работал в полиции Рио, но молва о его варварстве привела в смущение даже парламент (это было еще до установления «нового государства»), и, по настоянию нескольких депутатов, он официально был как будто уволен. На самом же деле его только перевели из Рио в Сан-Пауло. Сейчас Демпсей был без пиджака и держал в руке резиновую дубинку. Тот, которого звали Перейринья, следя злыми глазами за каждым движением Карлоса, положил на стул хлыст из проволоки. В комнате был включен радиоприемник и звучала приглушенная музыка танго. Вскоре появился и Баррос, тоже без пиджака, и на этот раз вместо традиционного окурка у него во рту была целая сигара. Один из полицейских, приведших Карлоса из камеры, плотно закрыл дверь. Все молчали. Баррос улыбался, будто ему показалась смешной фигура узника, придерживавшего на себе брюки. Затем Баррос шагнул к стулу, сел. – Послушайте, вы! У меня есть предложение. Дружеское предложение. На этот раз с вами, коммунистами, все покончено, и здесь и повсюду. Почти все руководство вашей партии, начиная с вожаков, сидит сейчас у меня в камерах. В Рио арестовано национальное руководство в полном составе. В других штатах – то же самое. И в Мато-Гроссо никого не осталось. «Это Эйтор… нет никакого сомнения…» – подумал Карлос. Арест районного руководства в Мато-Гроссо достаточно ясно указывал на то, кто был предателем. Что касалось утверждения инспектора об арестах в Рио, то Карлос усомнился: это могли выдумать, чтобы сразить его, лишить мужества. Баррос продолжал: – Итак, вы ликвидированы. Спасения для вас нет. – Он выждал с минуту, однако Карлос молчал, и инспектор снова заговорил. – Я прошу от вас лишь одного: адрес Руйво, настоящее имя и адрес Жоана. Только это и больше ничего. – Баррос прекрасно знал, что если Карлос откроет ему это, то откроет и все остальное. – Если вы мне это скажете, вам ничего не будет. Я переведу вас наверх, в хорошую камеру, со всеми удобствами. А затем освобожу вас. Если я не сделаю это сразу, то только для того, чтобы вас не заподозрили другие. Подумайте хорошенько: для вас нет никакой опасности. Никому из ваших и в голову не придет, что вы проговорились: они подумают, что я узнал о Руйво и Жоане из того же источника, что и о вас и о других. Кроме того, вы ведь будете освобождены не сразу, пройдет несколько дней, и мы все устроим. Даю слово. Теперь вам остается решать самому: или это, или мы вас заставим заговорить другим способом… – Я ничего вам не скажу. – Послушай ты, кабокло! Единственное, чего я хочу, это сэкономить время. Потому что, так или иначе, но ты заговоришь, не будь я Баррос! Карлос старался сосредоточить внимание на приглушенной музыке радио – играли самбу. – Не согласен? Хорошо! Начнем, ребята! Двое полицейских приблизились к нему, а Перейринья настроил приемник на максимальную громкость. Голос певца наполнил комнату: Обращаться ль с мольбою… Сыщик по прозвищу Демпсей потряс в воздухе резиновой дубинкой, как бы испытывая ее гибкость, Перейринья взялся за проволочный хлыст, в то время как двое других принялись срывать с Карлоса одежду. Баррос сел верхом на стул, лицом к спинке и оперся о нее руками, чтобы лучше наблюдать и руководить тем, что готовилось. Когда Карлос был раздет донага, инспектор спросил: – В последний раз – будешь говорить или нет? – Нет. Голосов почти совершенно не было слышно – так громко звучало радио: Обращаться ль с мольбою Мне к далекому богу?.. Все равно, не услышит меня… – Скоро ты сам запросишь, чтобы я тебя выслушал! – Баррос сделал движение бровями; Демпсей и Перейринья приступили… Прутья проволоки били его по ягодицам, по груди, по лицу, по ногам, и на местах ударов оставались красные полосы. Демпсей методически старался бить по спине так, чтобы повредить почки. Пока еще можно было выдержать, Карлос не кричал. Он оборонялся, старался уклоняться от ударов, но, несмотря на все свое проворство, вскоре почувствовал, что ноги под ним подгибаются. Демпсей ударил его дубинкой по шее, и Карлос, задыхаясь, упал. Тогда наступил черед для двух других сыщиков: они принялись бить Карлоса ногами, топтать его; один из них попал носком ботинка ему в лицо (шрам от этого удара остался у Карлоса на всю жизнь). Карлос кричал, его ругань по адресу своих палачей смешивалась с криками боли, но все это покрывала музыка радио, звуки вальса сменили самбу. Карлос оперся на локоть и пытался оторвать тело от пола. Но прежде чем он успел это сделать, один из сыщиков с силой наступил ему ногой на плечо и снова опрокинул его наземь так, что он в кровь разбил себе лицо. Один, два, три раза – после этого Карлос уже больше не пытался подняться. Баррос с интересом следил за этой сценой. Заговорит или не заговорит?.. Когда ему удавалось таким способом заставить кого-нибудь заговорить, Баррос чувствовал себя счастливым: он считал, что ни один человек не в силах выдержать ужас физического страдания. Тех, кто переносил все мучения и молчал, он считал чудовищами, не мог их понять и в глубине души чувствовал себя униженным ими. Когда кто-нибудь из таких людей выходил из камеры изуродованный пытками, с телом, исполосованным побоями, но не сдавшимся, Баррос чувствовал себя побежденным: он видел, что существует нечто более могущественное, нежели физическая сила, и ничто не могло разозлить его больше, чем это. Поэтому-то он и ненавидел их, этих коммунистов. Некоторые полицейские с восхищением отзывались о спокойном мужестве арестованных коммунистов, которые стойко выдерживали истязания. Но Баррос не восхищался ими, а ненавидел их, не будучи в состоянии перенести это превосходство, эту глубокую преданность своему делу; вот что наполняло ужасом те ночи, когда ему начинало казаться, что этих людей невозможно сломить и победить… – Будем продолжать… – сказал он. Сыщики подняли Карлоса и прислонили к стене. Перейринья приподнял свой хлыст, Демпсей размахнулся дубинкой. Карлос опять упал, и опять его подняли. Очередной удар дубинки пришелся по лицу. Тело Карлоса еще раз с силой ударилось о пол. – Лишился сознания… – объявил Демпсей. Перейринья начал разминать ладони. – Я устал… Баррос подошел к лежащему. Лицо Карлоса представляло собою месиво из окровавленного мяса; багровые полосы проступали на боках и пояснице, вся спина и ягодицы были в крови. – Точно мертвый… – сказал Баррос и приложил руку к сердцу Карлоса. – Нет, только в обмороке. Я его приведу в чувство… – засмеялся инспектор. Он сделал две-три затяжки сигарой, стряхнул пепел на пол и ткнул разгоревшейся сигарой в грудь Карлосу. Раздался крик боли, в воздухе запахло паленым мясом. – Мерзавец! Баррос отнял от его груди сигару и снова сунул ее в рот. Смотрел на Карлоса, глаза которого расширились и наполнились слезами. – Ну, что? Наступило время заговорить? Карлос ответил грубым ругательством. Баррос ударил Карлоса по глазам, в которых он прочел ненависть. Голова Карлоса глухо стукнулась о пол. Рана от ожога сигарой на груди напоминала орден или круглую медаль. – Поднять его! Будем продолжать… Его поставили к стене, но после первых же ударов он свалился лицом вниз. На стене остались кровавые следы. – Опять в обмороке… – Плесните ему в лицо водой, – приказал одному из сыщиков Баррос, садясь на стул. – Я устал, – повторил Перейринья. – Хорошо бы перекусить… – Позвать сюда Баррето и Аурелио. Карлосу брызнули в лицо водой, он с трудом открыл глаза. – Забава будет продолжаться до тех пор, пока этот пес не заговорит. А он обязательно заговорит… Баррос поднялся и снова подошел к Карлосу. – Ты обязательно у меня заговоришь, мразь ты этакая! Будешь здесь париться до тех пор, пока не развяжется твой подлый язык! Возвратился Перейринья с двумя новыми помощниками. – Поставьте его на ноги. Выдвиньте вперед… – приказал Баррос. – Я хочу, чтобы этот негодяй заговорил. Драть с него шкуру, пока не заговорит! Демпсей отказался передать дубинку другому. – Я еще не устал. Снова взвился хлыст, заработала дубинка. Время от времени помогал и Перейринья пинком ногой, кулаком – в лицо. Два, три, четыре, сколько еще раз падал Карлос, и сколько еще раз приводили его в чувство, поливали водой лицо и ставили на ноги? На рассвете его унесли обратно в сырую камеру. Бросили на цементный пол. Он не заговорил. 4
Они трое стояли перед столом, за которым постоянно восседал какой-нибудь следователь и задавал им одни и те же вопросы. В углу комнаты находился мощный прожектор, и свет его был направлен прямо в глаза троих арестованных в Санто-Андре. Невыносимая жара, иссушающая горло жажда, голодные судороги в желудке, резкая, острая боль… Сколько часов это длится? Они утратили представление о времени… им казалось, что все это длится целую вечность. Следователи по ту сторону стола несколько раз сменяли один другого, но три товарища уже не различали перемены в их голосах, задававших с утомительным однообразием одни и те же вопросы – вопросы, на которые нельзя ответить: – Имена других членов партии в Санто-Андре? Кто возглавляет там организацию? Где находится сейчас Руйво? Кто такой Жоан? С кем вы еще связаны? И жажда… Это – худшее из всего. На столе графин с водой; наполненный до краев стакан как бы приглашает выпить его… Кто выдумал, будто у воды нет ни вкуса, ни запаха, ни цвета? Воспаленные языки словно ощущают ни с чем не сравнимый по прелести вкус воды. Лысый старик не в силах оторвать взгляда от стакана, настолько полного, что вода из него вот-вот польется через край; она кажется голубой. Пот крупными каплями стекает со лба, ноги наливаются свинцом, глаза воспалены от резкого света прожектора. Хорошо, что они вместе, все трое – будь он один, может быть, и не выдержал бы… Облизывает языком пересохшие губы. Сонный голос следователя звучит монотонно, задавая все те же вопросы. Ручные часы, лежащие на столе перед следователем, наполняют комнату своим вечно неизменным тиканьем. Узники не могут разглядеть циферблат, вернуть себе представление о времени. Они только слышат тиканье часов. Почему этот звук настолько громок, настолько неприятен, мучителен для слуха? Он нарастает, становится все громче, все более нестерпимым для слуха голодных и мучимых жаждой людей, с ногами, точно налитыми свинцом, с глазами, ослепленными ярким светом… Простое тиканье ручных часов, как может оно быть таким мучительным, почти сводящим с ума? Боль в желудке, острая и пронзительная. С момента ареста им ничего не давали ни есть, ни пить. У них отобрали сигареты и спички, и лысый старичок думает, что Маскареньяс – рабочий с каучукового завода, самый ответственный из них – должен особенно сильно страдать, так как он заядлый курильщик. Старик украдкой бросает на него взгляд – как может он сохранять каменное выражение лица, стоять прямо, не сгибаясь, и еще отвечать на взгляд товарища подбадривающей улыбкой! Третий из них, восемнадцатилетний юноша Рамиро, маленький португалец, привезенный в Бразилию еще ребенком. С ним полицейские были особенно жестоки: били его по лицу, обзывали «грязным португалишкой» и «свиной требухой»; в самых грубых выражениях поносили его мать; развлекались тем, что по волоску вырывали у него пробивающиеся усики, которые, возможно, являлись предметом его мальчишеской гордости. Голос следователя еще раз повторяет вопросы, его рука отбивает такт по столу. Затем он поднимается и закуривает сигарету. Пускает клубы дыма им в лицо и делает несколько шагов по комнате. Который может быть час? Они находятся здесь, все время на ногах, с семи часов вечера. Свет прожектора слепит им глаза, их взоры неотрывно прикованы к графину с водой; им задают одни и те же вопросы, время от времени перемежающиеся оскорблениями и угрозами. Лысому старику кажется, что скоро наступит утро; как бы ему хотелось взглянуть на циферблат часов! Ведь, несомненно, утром их допрос будет прерван и возобновлен лишь на следующий вечер. Он не может себе представить, сколько прошло часов. Ноги под ним подгибаются, он едва стоит. Липкий пот стекает по лицу. Как выдерживает Маскареньяс жажду и усталость, слепящий глаза свет прожектора? У Рамиро, которому всего лишь восемнадцать лет, есть силы молодости, чтобы все это выдерживать, но ему, лысому старику, уже за пятьдесят; жизнь в нужде, неблагодарный труд парикмахера истощили его силы. Если бы он мог, по крайней мере, выпить стакан воды, или хотя бы глоток… И не слышать тиканья часов, забиться куда-нибудь в угол и заснуть. Рамиро знает, что до рассвета еще далеко. Сейчас, самое большее, половина второго или два часа ночи – утра еще долго ждать. Если все ограничится только пыткой голодом и жаждой под обжигающим лицо светом прожектора, – это еще не самое худшее. Было гораздо тяжелее, когда его оскорбляли в приемной, издевательски били по лицу, когда у него вырывали волосы из усов и всячески измывались над ним, а он не мог даже защищаться. Зато позже, в камере, Маскареньяс похлопал его по плечу и похвалил за то, что он достойно вел себя. Сердце Рамиро наполнилось гордостью: похвала старшего товарища придала ему сил для новых испытаний. Он вступил в партию совсем недавно, привлеченный Маскареньясом, и никогда в жизни не чувствовал себя таким гордым, как в день, когда он впервые присутствовал на заседании партийной ячейки. Еще будучи мальчиком, он восхищался коммунистами. Ему было всего четырнадцать лет, когда он перестал чистить ботинки на улицах и поступил на завод; он и тогда уже многое понимал в борьбе коммунистов и всей душою был с ними. Он был сознательным рабочим, читал листовки, газету «Классе операриа». Он ощущал душу партии в деятельности профессионального союза, в дискуссиях между рабочими, во всей их жизни, но все же вначале не мог определить, где же находится партия. Все возраставшее восхищение коммунистами заставляло его думать, что лишь очень немногие – самые способные, самые испытанные, самые умные – могли принадлежать к этому авангарду революционной борьбы. Мало-помалу он распознал среди товарищей на заводе нескольких коммунистов – распознал по их делам и с тех пор во всем с ними солидаризировался. Он начал развертывать широкую массовую работу, а между тем, все еще не отдавал себе отчета, насколько он близок к партии, все еще продолжал считать партию чем-то для себя недоступным. Быть может, когда Рамиро станет старше и опытнее, вступит в партию, и он заслужит самое для себя почетное звание – звание коммуниста… И как велико было его изумление, когда однажды вечером, несколько месяцев назад, Маскареньяс – ответственный член партии, работавший на их заводе, к кому Рамиро питал особенно глубокое уважение,– длительное время с ним беседовал, а затем, дав оценку всей предыдущей деятельности Рамиро, спросил юношу, не хочет ли он вступить в партию. При этом вопросе Рамиро был настолько взволнован, ощутил такую радость, что глаза его увлажнились и в первую минуту он не мог выговорить ни слова. – Вы находите, что я этого достоин? – сказал он наконец. Тогда Маскареньяс заговорил об ответственности, возложенной на коммунистов, о трудностях, стоящих на их боевом пути, об опасностях, им угрожающих, и о великом счастье быть бойцом партии. Одно только огорчало Рамиро: он ничего не сможет рассказать об этом Марте – ей едва исполнилось семнадцать лет и у нее еще нет никакого политического опыта, кроме участия в профсоюзных собраниях. Марта – работница на том же заводе, что и он; после работы он провожал ее и ради нее растил свои усики. Но он будет с ней заниматься, заинтересует ее политическими вопросами и она со временем станет коммунисткой. Рамиро арестовали случайно – он находился в доме Маскареньяса, когда явилась полиция. Он зашел к Маскареньясу за листовками: они вели агитационную работу, подготовляя забастовку. Он только успел набить карманы листовками, как нагрянули сыщики и вместе с Маскареньясом взяли и его. В полицейском автомобиле он чувствовал себя почти счастливым: это было его боевое крещение; ему казалось, что тюрьма окончательно приобщит его к партии. Маскареньяс сказал им (ему, Рамиро, и лысому старику – ответственному за работу по МОПР и потому известному Эйтору), что им предстоят тяжелые минуты и они должны быть готовыми выдержать все, никого не выдав. Если не будет ничего, кроме бесконечных часов пыток под ослепляющим, бьющим прямо в глаза, светом, кроме голода и жажды, тогда выдержать еще не так трудно. Но если даже пригрозят изрезать его на куски, он все равно ничего не скажет; ведь он коммунист – ему и в голову не придет стать предателем. Эти наглые и трусливые полицейские (двое держали Рамиро, пока третий бил его по лицу), по-видимому, не знают, что значит быть коммунистом. Но он, Рамиро, знает. Он объяснял это Марте в их частых беседах после работы. Коммунист – это строитель мира, где царят справедливость, мир и радость. Марта подтрунивала над португальским акцентом Рамиро, но его энтузиазм передавался и ей, и она вела агитацию среди работниц, призывая их к забастовке. Если сыщики рассчитывают на то, что заставят его заговорить, терзая голодом и жаждой, сделают из него презренного предателя, это значит – им никогда не понять, что для него означает звание члена партии; им никогда не понять радости, которую он испытывает каждое утро, просыпаясь с сознанием, что он принят в партию, что он участвует в работе по перестройке этой огромной страны – Бразилии, где он рос и жил, а также – кто знает? – может быть, и в перестройке своей страдающей родины по ту сторону океана – угнетенной Салазаром Португалии? Ни партии, ни Марте не придется за него стыдиться. Пусть лучше его разрубят на тысячу мелких кусочков… В комнату входит Баррос. Он без пиджака, курит сигару, во взгляде у него бешенство. – Еще не заговорили? – спрашивает он у следователя. – Еще нет… Инспектор окидывает их взглядом, одного за другим. Подходит к Рамиро, хватает его за волосы и, встряхивая изо всех сил, дает пощечину. – А? Ты не хочешь говорить, гад ты этакий? Я покажу тебе, как у нас в Бразилии взбивают масло… Баррос переводит взгляд на Маскареньяса. – Вы у меня заговорите, Маскареньяс! Я не дам вам ни спать, ни пить, ни есть, пока вы не заговорите… И это еще не все. У меня есть и другие методы. Карлос, уж на что стойкий – и тот, в конце концов, заговорил. Рассказал все – все, что ему известно. О вас также. И вам лучше раскрыть рот. Карлос, ваш руководитель, уже все пропел, теперь я хочу только, чтобы вы подтвердили… – Ложь! – крикнул Рамиро. Маскареньяс бросил на него укоризненный взгляд. Но Баррос уже ответил мальчику новой пощечиной. – Заткни глотку, ублюдок! – заорал он. Затем отвернулся от Рамиро и обратился к лысому старику: – И не стыдно вам, человеку преклонного возраста, отцу семейства, связываться с такими отбросами?.. Старик опустил глаза; вдруг Баррос ударит и его? Но инспектор подошел к столу, взял наполненный водой стакан, сделал из него хороший глоток и причмокнул губами, как бы наслаждаясь холодной водой в этой комнате, где можно было задохнуться от жары. Взял графин, снова наполнил стакан и поднес его к самому лицу старика. – Не хотите ли немного, Рафаэл? На лысой голове старика выступил пот. Баррос улыбнулся. – Это вам ничего не будет стоить. Всего несколько словечек, и ничего более… Маскареньяс почувствовал, как трудно было в эту минуту его товарищу. Заметив, как тот зачарованным взглядом смотрел на стакан с водой, Маскареньяс сказал: – Рафаэл не предатель. Старик поднял голову; мускулы лица его были напряжены, глаза полузакрыты. Баррос швырнул стакан в лицо Маскареньясу, осколки посыпались на пол. Брызги воды попали на Рамиро, стоявшего рядом. Вода стекала по лицу Маскареньяса, попадала ему за ворот. Рамиро был готов закричать, обругать инспектора, но Маскареньяс взглядом заставил его молчать. Баррос посмотрел на всех троих. – Я вернусь позже. Посмотрим, кто из вас дольше продержится… Полицейский достал из небольшого шкафа новый стакан, наполнил его водой. Затем сказал узникам: – Все, что происходит здесь, – это пустяки. Для вас всего благоразумнее признаться во всем без проволочек. Потому что если сеньор Баррос распорядится перевести вас в другую комнату, то там… Лысый старичок не мог больше противостоять жажде и усталости. Ноги под ним подкосились, и он упал на пол. Ах, если можно было бы заснуть тут же, на месте, в этой чудовищно душной комнате, со сводящим с ума ярким светом… Но следователь ткнул его носком сапога. – Этот номер не пройдет! Вставайте или будет еще хуже!.. Если, впрочем, вы не надумали дать показания. В этом случае можете сесть… И выпить стакан воды… Но вода после того, как во всем признаетесь… Старик сделал отчаянное усилие и поднялся. Когда наступит утро? Когда ему дадут уснуть? Из соседней комнаты, сквозь музыку вальса, прорывались чьи-то ужасные вопли: там кого-то пытали… 5
На следующий день вечером Баррос, придя к себе в кабинет, велел привести Зе-Педро из его камеры. Накануне Зе-Педро был в комнате пыток до Карлоса. Он не мог идти, и его волочили двое полицейских. Один глаз у него закрылся, лицо вздулось, руки и ноги распухли, он был босой: ноги не влезали в башмаки. Накануне начали с того, что били его по рукам и ногам. Это взял на себя Демпсей. После того как полицейские усадили заключенного на стул, Баррос сказал ему: – Как вы безобразны, Зе-Педро… Ужас… Если бы вас сейчас увидела жена, она бы вас не узнала… – Где она? – спросил Зе-Педро. – Она ни в чем не замешана, ни во что не посвящена… Лицо Барроса расплылось в улыбке. – С ней прекрасно обращаются, лучше и быть не может. Прошлой ночью, когда вас укрощали, с ней остались парни: шесть самых красивых молодцов из всей полиции… чтобы ей, бедняжке, не пришлось проводить ночь в одиночестве… Но мне передали, что неблагодарная сопротивлялась, пришлось применить силу. Мы выбираем для нее отличных мужчин, приятных лицом, белых, а она еще заставляет себя упрашивать… – Звери! Мерзавцы! – Зе-Педро вскочил, готовый броситься на инспектора, сжал кулаки. Полицейские силой снова посадили его на стул. – Не волнуйтесь. Кто в этом виноват? Это – урок коммунизма на практике. Собственность – это кража, не так ли? И как же вы хотите, чтобы ваша жена принадлежала только одному вам? Их было всего шестеро. Остальные вчера были заняты. Но сегодня мы отправим более многочисленную команду. Лицо Зе-Педро исказилось от боли и ненависти. Бедная Жозефа, подвергнуться такому поруганию!.. – Во всем виноваты вы сами, Зе-Педро. Я вас предупреждал, как только вы сюда явились; на этот раз, так или иначе, но вы заговорите. Нам надо захватить остатки вашей партии, и именно вы мне их выдадите. Вы и Карлос. Остальные, даст бог, тоже расскажут, что им известно. Некоторые после вчерашней вечеринки уже начинают понемногу открывать рты. Но у вас двоих есть много, что порассказать. Вы мне должны выдать всех членов руководства. А связи с вашей шайкой в Рио? Или вы хотите, чтобы я поверил, будто ваша здешняя партийная организация оторвалась от всех остальных? Итак, я вас уже предупреждал: или вы будете говорить, или произойдет нечто такое, после чего вам придется раскаиваться в своем молчании. Это уже началось… и будет продолжаться… Зе-Педро ответил: – Я уже сказал все, что мог сказать. Единственно, что мне остается сделать, это повторить еще раз: я коммунист, руководитель партийной организации и принимаю на себя ответственность за все свои действия. Моя жена не имеет к этому никакого отношения; когда она выходила за меня замуж, ей даже не было известно, что я коммунист. То, что вы с ней делаете, – преступление, которому нет названия. Придет день – и вы за все заплатите. – Зе-Педро удалось сказать это, несмотря на страшную боль. Баррос опять рассмеялся. – На этот раз мы с вами покончим. – Он взял со стола газету. – Взгляните, вот заявление начальника полиции Рио: через шесть месяцев от Коммунистической партии Бразилии не останется и воспоминания… – Другие уже говорили то же самое. – Но теперь у нас Новое государство. Вам негде кричать, некому жаловаться. Это не то, что раньше, когда были депутаты, произносившие речи; были газеты, подвергавшие нас критике и взывавшие к сердобольным душам. Теперь положение изменилось. И не только здесь… Теперь Гитлер задаст России трепку, покажет Сталину, что такое сила нацизма. С коммунизмом будет покончено во всем мире. Перед вами нет никаких перспектив. – Это то, чего вам хочется. Но между желанием и действительностью – очень большое расстояние. – Действительность заключается в том, что вы и очень многие другие арестованы. В несколько дней будет покончено с забастовочным движением… Какая польза молчать, упорствовать, отдавать свою жену нашим парням, точно она какая-нибудь потаскуха? Глупо. Если бы у вас еще было хоть какое-нибудь будущее, какая-нибудь перспектива, как вы уверяете, тогда еще куда ни шло… Но ведь это простое упрямство, глупость. Я велел вас привести, чтобы спокойно поговорить с вами, дать вам возможность… – Увольте от вашей любезности. – Казалось, после того как Зе-Педро узнал, каким поруганиям подверглась его жена, он больше не чувствовал физического страдания. – Если вы велели привести меня только для этого, то понапрасну теряете время… Баррос, сделав вид, что он не слышал резких слов арестованного, продолжал говорить: – Молодцы мне рассказывали, что ваша жена не может прийти в себя после вчерашней шутки. Не знаю, что с ней станется, если они будут продолжать утешать ее и сегодня ночью… Может быть, тогда она привыкнет, а? И кончит тем, что станет проституткой. Зе-Педро сжал распухшие руки, вонзая ногти в мясо. Баррос замолчал, дожидаясь, как коммунист будет реагировать: не произнесет ли ожидаемых слов о капитуляции. Но Зе-Педро даже не взглянул на него, а продолжал сидеть на стуле, как каменный. Баррос встал. – Вы все негодяи!.. Негодяи!.. Ничего не стоите, и все, что с вами делают, еще мало. Для вас семья и домашний очаг – пустые слова. Вас никак не трогает, что вашу жену обесчестили, что ее насилует всякий, кому только вздумается… Все это вас оставляет равнодушным. И после этого вы, коммунисты, еще смеете утверждать, что вы достойные, честные люди, желающие блага всему человечеству?.. Вы бандиты, у вас нет никаких человеческих чувств. Зе-Педро ответил: – В устах полицейского это звучит похвалой. Усвойте раз и навсегда: от меня ничего не добьетесь, как бы ни старались. И если меня привели только для этого, скорее отошлите назад; чем реже я вас вижу, тем для меня лучше… Баррос приблизился к нему на два шага и занес руку. Но сдержался, не ударил его по лицу, а предупредил: – Подумайте. Хорошенько подумайте… Сегодня мы не остановимся на таких детских забавах, какими занимались вчера. Сегодня мы покажем вам, что у нас припасено для коммунистов. Вам всем, а также и вашей жене. – Он затянулся сигарой и выпустил клуб дыма. – Не забывайте, что и ребенок у нас… – Ребенок? – выкрикнул Зе-Педро. – Вы и на это способны?.. – Вы еще не представляете себе, на что способен Баррос, когда он рассердится. А я уже начинаю сердиться… Зе-Педро показалось, будто чья-то тяжелая и жестокая рука сжала его сердце. Когда его арестовывали, он надеялся, что они, по крайней мере, пощадят ребенка. Но надеяться ему было не на что. Разве это не та же полиция, которая выдала Ольгу Бенарио Престес, беременную, нацистам? Не та полиция, что кастрировала арестованных, вырезала ножами груди жене Бергера, чудовищными пытками свела с ума ее мужа – немецкого антифашиста? Держась за стул, он с трудом поднялся. – Я могу идти? – Хорошенько подумайте, чтобы потом не жаловаться, что я вас своевременно не предупредил. Если вы любите своего сына… – Вы тоже подумайте прежде чем поднимать руку на ребенка. Сегодня вы – полиция и власть. Но завтра народ потребует у вас отчета… Подумайте и вы. – Народ… – засмеялся Баррос. – Кроме всего прочего, вы, оказывается, еще и дураки… Если вы рассчитываете на народ, я могу спать спокойно. – Он обратился к полицейскому: – Уведите его… В коридоре Зе-Педро заметил сидевшую на стуле нарядно одетую жену Оисеро д'Алмейды. По-видимому, она дожидалась, чтобы ее принял Баррос. Значит, писатель тоже арестован. Вдруг взгляд женщины упал на Зе-Педро, которого она знала в лицо, – он бывал у ее мужа. Ее глаза застыли от ужаса при виде этого изуродованного человека. Она даже приподнялась со стула. Полицейские подхватили арестованного под руки и поспешно увели. Супруга Сисеро д'Алмейды едва слышно пробормотала: – Боже мой, какой ужас!.. 6
Это почти неузнаваемое лицо, эти распухшие руки по-прежнему стояли перед глазами Габи д'Алмейда. Она видела их отраженными на стеклах такси, на мостовой, и это заставляло ее содрогаться. Она была потрясена, испытывала тошноту. Вся атмосфера полицейского управления показалась ей отвратительной: смеющиеся и отпускающие шутки следователи, темные мрачные комнаты, неискренняя любезность инспектора охраны политического и социального порядка, к которому она явилась с рекомендательным письмом, подписанным Коста-Вале. И этот коммунист, которого волокли по коридору, – его несомненно пытали, – сам он почти не мог передвигаться… Сисеро не раз говорил ей, что в полиции происходят подобные вещи, но она, говоря по правде, не верила ему. Думала, что муж в своей политической тенденциозности преувеличивает. Выйдя из полицейского управления, она протелефонировала Мариэте Вале, сказав, что ей необходимо с ней переговорить. Именно Мариэта добыла ей рекомендательное письмо от Коста-Вале и, вручая его, сказала: – Сисеро совсем сошел с ума с этим коммунизмом. Порядочный человек, из светского общества… да где же это видано? Арестован вместе со всяким сбродом… – Погладила Габи по волосам и закончила: – …и создал столько забот для этой милой головки… Посмотрим, не исправится ли он на этот раз и не выбросит ли из головы свои дурацкие бредни. Габи думала, что благодаря письму Коста-Вале все сразу уладится и Сисеро будет немедленно освобожден. Прежде всегда так и бывало: вмешательство влиятельных лиц возвращало ему свободу. Когда она выходила за Сисеро замуж – это был брак по любви, редкость в их среде, – он честно признался, что является коммунистом. Она над этим только посмеялась – ее уже на этот счет предупреждали родные и друзья. Как и Артур Карнейро-Маседо-да-Роша, она приписывала идеи своего жениха преходящему влиянию чтения, – о, эти писатели: у них очень странные идеи, доходящие до мании! Убеждения Сисеро вовсе не встревожили ее. Богатый человек, носитель старинной, паулистской фамилии, известный писатель, о котором пишут в газетах, элегантный и блестящий… – его увлечение коммунизмом не могло тянуться долго… А главное, она его любила. Они поженились. Она была счастлива; с течением времени их привязанность и уважение друг к другу возросли, они полюбили свой уютный домашний очаг. Она даже свыклась с друзьями Сисеро – этими плохо одетыми представителями богемы (некоторые из них являлись к ним на обед в спортивных куртках) и начала уважать кое-кого из этих художников, журналистов и писателей, слушая, как они рассуждают о живописи, литературе и истории. Что касается коммунистов, то она не пожелала знакомиться ни с одним из них, хотя время от времени они собирались у Сисеро на квартире. В таких случаях, заранее предупрежденная мужем, она уходила куда-нибудь: к подруге, в кафе или за покупками. Однако бывало, что она возвращалась домой еще до окончания собрания, и в этих редких случаях заставала у Сисеро рабочих, чьи голоса звучали как-то неуместно в изысканно убранной гостиной с дорогой мебелью. Сисеро расхваливал этих людей, но она не испытывала к ним никакой симпатии, хотя и не могла оставаться совершенно безучастной к ним, поскольку они были связаны с Сисеро. В глубине души она была уверена, что Сисеро является главным руководителем всего этого таинственного коммунистического мира, и однажды чрезвычайно разочаровалась, узнав от мужа, что ему принадлежит в партии лишь очень скромная роль. Тогда ей стало совершенно непонятным, почему он связан со всем этим: если он не вождь, если он не на первом месте, зачем ему во все это вмешиваться? Но обычно она избегала разговаривать с Сисеро на такую тему: это была единственная сфера, где они не соглашались друг с другом, – все остальное шло превосходно. И самое лучшее – предоставить все времени… Выйдя из полиции, она позвонила Мариэте. Супруга банкира пригласила ее к себе: – Приезжай сейчас же, выпьешь с нами чаю. Знаешь, кто у нас? Паулиньо и Шопел. «Это неприятно…» – подумала Габи. Она предпочла бы переговорить с Мариэтой наедине: не в таком она сейчас находилась настроении, чтобы пить чай в веселой компании и слушать обычные для таких встреч разговоры. Но нужно было ехать: инспектор даже не предоставил ей свидания с Сисеро. А после того, как Габи увидела в коридоре Зе-Педро, она испытывала страх за участь мужа. Инспектор был с ней очень любезен, очень предупредителен, но в то же время непреклонен. – Невозможно, дорогая сеньора, совершенно невозможно, – говорил он. – Очень сожалею, что лишен удовольствия вам услужить. Но сеньора сможет с ним увидеться лишь после того, как он будет допрошен. А мы с ним еще пока не беседовали. Может быть, это будет сделано еще сегодня, и тогда завтра сеньора сможет с ним увидеться. Что касается его освобождения, то это будет зависеть от результатов следствия. Не могу от вас скрыть, что ваш муж очень скомпрометирован, но, с другой стороны, должен вас заверить, что с ним обходятся очень бережно. При последних словах она вспомнила коммуниста, которого волокли по коридору. – Пока я ждала, мимо провели человека со следами побоев… – Что мы можем поделать, дорогая сеньора? Это одержимый, буйный коммунист. Достаточно вам сказать, что он бросил жену и маленького сына в полнейшей нищете только потому, что жена не хотела подчиниться режиму партии. Мы приютили несчастную и младенца, чтобы не дать им умереть с голоду. Когда мы явились его арестовать, он оказал сопротивление, бросился на одного из полицейских – пришлось применить к нему силу. И будучи доставлен сюда, он стал на всех кидаться; нельзя было обойтись без некоторого насилия. Но это – против моих правил. Он закончил обещанием, что, может быть, на следующий день она сможет получить свидание с Сисеро. Однако это не наверняка, поэтому ей не стоит приезжать, а лучше предварительно позвонить по телефону. Выйдя на улицу, Габи решила снова обратиться к Мариэте. Барросу она не верила: тот, кого она видела в коридоре, никак не был похож на человека после драки. Несомненно, его избивали. Ужасно было смотреть на это лицо, на эти руки, на босые ноги… Если хорошенько подумать, то вовсе не плохо поехать в гости к Мариэте. Отец Паулиньо теперь министр юстиции – ему подчинена вся полиция. Она расскажет Пауло о том, что видела, и он заставит Артура вмешаться, покончить с этими ужасами. Чай пили в гостиной, выходившей на веранду. Пауло поднялся ей навстречу и дружески пожал руку. Шопел тоже встал, вид его выражал соболезнование. – Итак, наш славный Сисеро в темнице? Я только что говорил доне Мариэте и Пауло: Сисеро – один из самых блестящих талантов Бразилии. Жаль только, что экстремистские убеждения мешают его литературной деятельности: его книги полны марксистских заблуждений. Например, когда он осуждает цивилизаторскую деятельность иезуитов[144], он безусловно неправ. Также и в отношении Педро II. Мариэта прервала поэта: – Что слышно? Его освободят? Габи села, взяла чашку чаю, отказавшись от вина. – Мне даже не дали с ним повидаться. Сказали, что свидание будет дано только после допроса. А насчет его освобождения ничего не обещали. – Что же это такое!.. – воскликнула Мариэта. – Не придать никакого значения письму Жозе… Какой-нибудь полицейский инспектор мнит себя очень важной персоной… Ну и времена! – Баррос – сущий дьявол, – заметил Пауло. – Но виноват не он, а забастовки… Полиция права – у нее нет другого выхода. Ведь коммунисты готовились парализовать экономическую жизнь страны. Это факт. Габи обратилась к нему: – Но посудите сами, Паулиньо, какое Сисеро имеет отношение к забастовкам? Сисеро занят своими делами, своими идеями, пишет свои книги. Он никогда не вмешивался в забастовки… Я как раз хотела с вами об этом поговорить. Ваш отец – человек, который может помочь Сисеро. Ведь он министр юстиции… – А почему бы вам не обратиться к Мундиньо д'Алмейде? – спросил Шопел. – Вы просите покровительства у Пауло, а между тем ваш родственник, брат вашего мужа, – один из ближайших друзей Жетулио. – Мундиньо сейчас нет: он в Колумбии на конференции стран, производящих кофе… – Ах, да! Правда… Я совсем об этом забыл. Пауло пообещал: – Я поговорю со стариком. Послезавтра возвращаюсь в Рио и посмотрю, что можно будет сделать. Но не думайте, Габи, будто министр юстиции может по своему усмотрению распоряжаться полицией. Так было в прошлые времена. Теперь же полиция ни во что не ставит министерство: делает, что хочет. И в этом виноваты коммунисты. Не будь необходимости вести борьбу с коммунизмом, никогда бы полиция не приобрела такую власть. Все министры, вместе взятые, имеют меньше силы, чем один мизинец Филинто Мюллера. Кстати, знаете ли вы о последней выходке Жетулио? – Какой? – спросил Шопел. – Абсолютная правда, могу поклясться. Случилось это после заседания совета министров. Закрыв заседание, Жетулио отозвал в сторону Освалдо… – Кто это Освалдо?[145] – спросила Мариэта. – Министр иностранных дел… Отозвал его в сторону и посоветовал ему быть осторожнее в своих телефонных разговорах, так как его служебный и домашний телефоны находятся под контролем полиции… Шопел расхохотался. – Ах, этот Жетулио… – Как бы там ни было, – сказала Мариэта, – но для Сисеро надо что-то сделать. Почему бы вам, Паулиньо, не поговорить с Артуром по телефону? Бедный Сисеро в тюрьме… И Габи в тревоге… – Она улыбнулась подруге и приказала Пауло: – Позвоните ему сегодня же. – Я Друг Сисеро, – ответил Пауло, – но я не хочу давать необоснованных обещаний. Сделаю все возможное, позвоню старику, но ничего не обещаю. Насколько известно, полиция раскрыла очень многое, и я не знаю, в какой степени Сисеро во всем этом замешан. Габи не могла успокоиться. – Как ужасно ходить в полицию! Страшная обстановка. Пока я ждала, провели одного из арестованных. Он больше походил на мертвого, чем на живого. Идти он не мог, его тащили полицейские… Я не могу этого забыть. – Избиение? – спросил поэт. – Я против этого. Мариэта также высказалась против подобных методов еще и потому, что была в хорошем настроении. Назначение Артура, помолвка Пауло, его новая должность начальника кабинета в министерстве отца – все это ее устраивало; она была счастлива. Раньше она опасалась, как бы Пауло, женившись, не воспользовался протекцией комендадоры для получения выгодного назначения в какое-нибудь посольство в Европе и не бросил ее. Но теперь она совершенно успокоилась на этот счет: пока Артур – министр, Пауло останется в Бразилии, и он будет при ней. Время от времени он приезжал в Сан-Пауло, якобы для того, чтобы проведать невесту, на самом же деле большую часть времени проводил с Мариэтой. Мариэта крепко держала его в руках, убеждая, что его карьера и будущее зависят от нее. Правда, она подозревала, что Пауло не сохраняет нерушимой верности, что у него есть случайные романы на стороне. Однако это ее мало тревожило. С нее было достаточно знать, что других постоянных любовниц, кроме нее, у него нет, выслушивать его заверения в любви, встречаться с ним тайком в номерах отелей. Мариэта и сама иногда приезжала в Рио, если Пауло несколько недель кряду не появлялся. Она была счастлива, и именно поэтому искренно заинтересовалась освобождением Сисеро, искренно порицала полицию за избиение арестованных. – Этот Баррос – зверь… Для чего избивать? А что это был за человек? – спросила Мариэта у Габи. – Мне кажется какой-то рабочий, – ответила Габи. – Рабочий? Ну, тогда это не важно… – Пауло пожал плечами. – Зачем они вмешиваются в политику? Какое отношение имеют к ней рабочие? Интеллигент – это еще понятно, но рабочий… Шопел воздел руки к небу и воскликнул: – Помилуй меня боже! – Что еще такое? – засмеялась Мариэта. – У Паулиньо, с тех пор как он стал женихом Розиньи и почти хозяином фабрик комендадоры, появились замашки этакого феодального сеньора. Он уже не считает рабочих человеческими существами. Пауло, сын мой, я тебя не узнаю… Что же с тобою станет, когда ты женишься? Ты отречешься и от поэтов, и от художников, превратишься в свирепого буржуа. Тогда горе мне, твоему другу… Все рассмеялись. Пауло провел рукой по волосам. – Дорогой мой! Мы шутим и смеемся, а между тем полиция права. Если она не проявит жестокости, кончится тем, что коммунисты заберут страну в свои лапы… Я уже однажды сказал Мариэте: то, что делает полиция, может нас отталкивать, но это необходимо. Таким способом полиция защищает то, что у нас есть, и это единственный способ. Если мы начнем жалеть коммунистов, в один прекрасный день сами окажемся в тюрьме… Баррос – зверь, я с этим согласен. Но чтобы надеть узду на коммунистов, нельзя руководствоваться правилами хорошего тона. – Сделайте хотя бы исключение для Сисеро… – взмолилась Габи. – Сисеро – совсем иное дело. Он известный писатель, человек общества. Я же говорю о рабочих. И кроме всего прочего, от них смердит. Вот за что я не переношу этих людишек: они грязные, оборванные, зловонные… Неспособны быть чистоплотными, а еще смеют требовать отчета у правительства! Шопел перестал смеяться. – Ты прав. Они становятся наглыми, эти рабочие. Как-то на днях я шел по улице и нечаянно толкнул одного из них, работающего на стройке каменщиком или чем-то в этом роде. Так этот субъект обругал меня за то, что, толкнув его, я не извинился. На Мариэту тоже, видимо, подействовали доводы Пауло. – Да, эти коммунисты еще хуже полиции, – сказала она. – Вы не читали статей, опубликованных в «А нотисиа»? Ты тоже не читала, Габи? Их написал один раскаявшийся коммунист… Он описывает такие ужасы, что волосы могут встать дыбом. И, однако, все это, должно быть, правда, раз сам коммунист об этом рассказывает… Но Габи усомнилась в правдивости статей Эйтора Магальяэнса: она никогда не слыхала ни о чем подобном, не могла поверить такому вздору. – Ложь или правда, – сказал Пауло, – но одно несомненно: нельзя больше проявлять мягкосердечие, Габи. Раньше это было еще возможно, но теперь они сильны, и проявлять к ним милосердие, значит действовать против самих себя. Вы должны вырвать Сисеро из этой среды. Иначе может наступить день, когда мы не сможем шевельнуть и пальцем, чтоб ему помочь. Габи стала прощаться. Пауло обещал ей вечером позвонить Артуру. После ухода Габи Мариэта сказала: – Бедняжка… У Сисеро нет сердца… Она его обожает, а он доставляет ей такие огорчения… Шопел заметил: – Просто невероятно, как много удалось коммунистам завербовать себе приверженцев в кругах интеллигенции. Знаете ли, господа, кто еще за последнее время связался с ними? Мануэла, твоя прежняя романтическая страсть, Паулиньо. – Танцовщица? – спросила заинтересованная Мариэта. – Танцовщица… – Поэт сложил губы в презрительную гримасу. – Она возникла в результате нашей шутки, закончившейся так же успешно, как и все остальные. Теперь Мануэла как будто живет с Маркосом де Соузой, который оказался старым коммунистом. – Маркос? – изумилась Мариэта. – Да, Маркое. Он был в Национально-освободительном альянсе и не скрывает своих убеждений. Да и не он один… – И Шопел принялся перечислять имена писателей, поэтов, художников. – Не понимаю только, что все эти люди находят в коммунизме… – Мне говорили, что и Эрмес Резенде тоже… – Нет, Эрмес – совсем другое. Он социалист и с коммунистами не имеет ничего общего. Он сам мне однажды заявил: «Не могу понять, как интеллигент может быть коммунистом. Это равносильно самоубийству». Но зато другие видят в Сталине какого-то бога. Маркос де Соуза не так давно публично заявил, что Сталин – величайший человек двадцатого столетия. – Вот это да! – воскликнул Пауло. – Величайший человек двадцатого столетия? – Мариэта почувствовала себя оскорбленной. – Что за вздор! Когда столько замечательных людей во Франции, в Соединенных Штатах… – Хотите вы этого или нет, нравятся вам его методы или нет, но величайший человек двадцатого столетия – это Гитлер, – изрек Пауло. – Он единственный, кто может противостоять коммунистам. Вечерние тени опускались на сад, веранду. Мариэта предложила: – Не включить ли радиолу? Мы могли бы немного потанцевать. Пауло согласился, поэт одобрил: – Для возбуждения аппетита… 7
На третьи сутки пыток лысый старик из Санто-Андре не выдержал. Он был сломлен, превращен в тряпичную куклу. Начальную пытку (положение стоя, без сна, муки голода и жажды, бесконечные вопросы следователя) – пытку, казавшуюся ему нестерпимой, – со второй ночи сменили побои. На следующий день после первого допроса ему дали немного пищи, очень соленой, и глоток мутной воды из кружки. Он проглотил еду, невзирая на настойчивые предупреждения Маскареньяса: – Лучше не есть. Пища страшно пересолена; ее дали нарочно, чтобы еще больше возбудить жажду. Рамиро послушался, но Рафаэл не сдержался: съел свою порцию и порции двух своих товарищей. К вечеру его начала терзать жажда, и когда за ним пришли, глаза его были выпучены, вылезали из орбит. В эту вторую ночь он не заговорил только потому, что при первых же ударах лишился сознания и доктор Понтес – полицейский врач, вызванный Барросом для присутствия при допросах, – нашел опасным продолжать истязание: сердце старика могло не выдержать. Доктор посоветовал сделать передышку. Старика унесли, но уже не в ту камеру, где он был до этого. Его поместили в комнате, где находилось несколько арестованных, и в их числе – Сисеро д'Алмейда. Писатель занялся им, постарался подбодрить, обещал, если его освободят, позаботиться о семье старика. Последний все время повторял: – Я больше не выдержу… Сисеро старался укрепить дух старика, поддержать его слабеющее мужество: – Как это – не выдержите? Вы старый член партии, у вас в прошлом долгие годы борьбы. Вы не можете предать это прошлое, предать товарищей и партию… Старик закрывал лицо руками, плакал, как бы от сознания своего бессилия. – Нет, я не выдержу… – Быть может, они вас больше не будут бить. – Если бы только побои… Сисеро и еще несколько товарищей, помещенных в этой камере, были очень озабочены. Здесь находились самые различные люди: партийцы, выданные Эйтором, человек семь-восемь, и множество забастовщиков – представителей рабочей массы. Их били при аресте и допросе, против них возбуждался судебный процесс. Но вот уже несколько дней, как Баррос словно позабыл о них. Один полицейский сообщил, что забастовщики будут переведены в тюрьму предварительного заключения. Остальные – все те, которых предал Эйтор, за исключением Сисеро, – были жестоко избиты. Одни продолжали упорно отрицать какое бы то ни было участие в коммунистическом движении. Другие, более известные, против которых у полиции имелись конкретные улики, приняли на себя ответственность за свою партийную деятельность, но отказались сказать что-либо большее. Накануне к числу этих арестованных прибавилось еще трое: товарищи, схваченные в Мато-Гроссо. Учитель Валдемар Рибейро, железнодорожник по имени Пауло и старый восьмидесятилетний крестьянин, который рассказывал какую-то запутанную историю про своего внука и про некую таинственную личность – дьявольское существо, обитавшее в селве долины реки Салгадо и выходившее оттуда по ночам, чтобы туманить людям мозги. Сначала Сисеро счел этого старика сумасшедшим, арестованным по недоразумению, и только постепенно сумел в его фантастических рассказах распознать реальную основу. Насколько можно было понять из слов старика, полиция разыскивала его внука-коммуниста и так как не нашла его, то захватила деда, чтобы добиться у него сведений не только о внуке, но главным образом о некоем Гонсало – опасном коммунистическом деятеле, скрывавшемся в районе долины реки Салгадо. Относительно внука старик говорил, что тот исчез из дома при приближении полиции, что же касалось Гонсало, то восьмидесятилетний суеверный дед решительно отказывался признавать в нем обыкновенное человеческое существо из мяса и костей. Приписывал ему магические свойства – способность возникать и исчезать, принимать разные обличья: иногда он являлся в виде доброго гиганта – врачевателя болезней, иногда же воплощался в образе уродливого, кряжистого карлика-негра. Для старика все это было наваждением лесного дьявола, раздраженного тем, что люди проникли в его владения. Арест его не особенно испугал, и он спокойным голосом повторял свою историю. Так он рассказывал в полиции Куиабы, так же рассказал и Барросу. Инспектор пришел в бешенство и разразился ругательствами по адресу своих коллег в Мато-Гроссо: – Кретины!.. Вместо того чтобы арестовать Гонсало, поймали и прислали мне старого безумца… Идиоты! Для старого крестьянина все, что происходило с ним и остальными арестованными, представлялось лишь местью со стороны Венансио Флоривала за сумасбродные идеи его внука Нестора. Увидев лысого старичка – его звали Рафаэл, – он подошел к нему и спросил, на какой фазенде Флоривала тот работал и не вел ли он тоже разговоров о разделе земли. Сисеро опасался за лысого старика: он может проговориться. Слова ободрения, призывы к достоинству больше не оказывали на него никакого влияния. Он не хотел их слушать, закрывая лицо руками, плакал. Что известно ему о партии? Должно быть, не очень много: он был низовым работником. Ах, если бы Сисеро имел возможность хотя бы предупредить других о том, что воля Рафаэла слабеет! Но как предупредить? Ни с кем, кроме тех, кто находился в камере вместе с Сисеро, связи не было; он даже не видел никого другого. Но он видел Жозефу, когда она с ребенком на руках проходила по коридору в уборную. Вид у нее был ужасный, лицо как у мертвой. Она содержалась в соседней камере, и по ночам, когда полицейские приходили ее насиловать, Сисеро слышал ее душераздирающие крики. Это бывало в полночь. Ночи проходили без сна. Тяжелая тюремная тишина нарушалась полицейскими, которые брали из камер арестованных на допрос и пытки. Сисеро никак не мог заставить себя уснуть. Его не тронули, несмотря на то, что при допросе он ругал Барроса и всю полицию. Он хотел продиктовать одетому в черное секретарю с крысиной мордочкой резкий протест против методов, применяемых полицией к арестованным, и сослаться на преступления по отношению к Жозефе. Однако Баррос отпустил секретаря и заявил Сисеро, что полиция располагает данными, достаточными для привлечения его к суду и осуждения трибуналом безопасности. Пусть он не воображает, что слава писателя, положение богатого человека помогут ему на этот раз. Имеются доказательства связи Сисеро с руководством партии, а этого достаточно, чтобы обеспечить ему два-три года тюрьмы. Его больше не вызывали к инспектору и поместили в этой камере, откуда товарищей уводили на допросы с применением пыток. Он не мог уснуть, дожидаясь их возвращения; избитых, распухших, их бросали на пол и оставляли истекать кровью. Временами ему казалось, что он сойдет с ума, разум не выдержит этого зрелища. Но еще страшнее было эхо криков Жозефы среди ночи!.. Иногда он различал примешивавшийся к рыданиям женщины плач испуганного ребенка. Несомненно, ребенок просыпался от шума, поднятого полицейскими, когда они ловили в камере женщину, срывали с нее одежду, насиловали… О, эти крики!.. Ему казалось, он продолжает их слышать даже после того, как все затихало и сквозь железную решетку окна робко пробивался свет раннего утра. Он провел очень неспокойный день, стараясь подбодрить Рафаэла. Вечером явились за стариком; у Сисеро не оставалось больше ни малейшей надежды. Когда полицейские выкрикнули имя старика, Рафаэл начал всхлипывать: – Нет… ради милосердного бога… нет… Его поволокли силой, осыпая ругательствами. Старый крестьянин, спавший в углу и каждую минуту просыпавшийся, спросил у Сисеро: – Этот тоже, наверно, говорил о разделе земли полковника Венансио? Вот дурной! Разве кто-нибудь может тягаться с полковником?.. Рафаэл, войдя в камеру пыток, увидел у стены Маскареньяса и Рамиро, голых, связанных по рукам и ногам. Посреди комнаты, тоже голые и связанные, находились Зе-Педро и Карлос: они были подвешены на блоках веревками за половые органы. Рты у них были завязаны, они тяжело дышали, крупный пот стекал по их бледным лицам. При этом зрелище Рафаэл едва удержался от крика, руки его задрожали. Глаза Карлоса остановились на нем; они приказывали ему сопротивляться. В комнате находилось много полицейских и сыщиков. Баррос беседовал с доктором Понтесом. – Раздевайся! – крикнул следователь Рафаэлу. К нему подошел доктор выслушать сердце и на старика пахнуло запахом одеколона, исходившим от тщательно напомаженной головы доктора. Он почувствовал, что у врача тоже дрожат руки, и умоляюще прошептал: – Не допустите этого, доктор… Меня убьют… Доктор отнял ухо от груди арестованного, провел пальцем у себя под носом и потом мигнул Барросу: – В превосходном состоянии. Подошел Демпсей с хлыстом из медной проволоки в руке. Взмахнул – и в воздухе прозвучал тонкий свист. Рафаэл упал на колени, протянул к Барросу дрожащие руки. – Я скажу… Скажу все, что вы хотите… Он почувствовал, как глаза Карлоса и Зе-Педро обратились к нему; услышал, как молодой португалец Рамиро воскликнул: – Предатель! Полицейский тотчас же дал ему пощечину. – Заткни глотку, португалишка!.. Баррос посмотрел на Зе-Педро и Карлоса и улыбнулся. – Итак, начинается. Вы все заговорите, один за другим… – Он приказал Рафаэлу: – Одевайтесь и идемте со мной. Но не вздумайте обманывать, иначе снова очутитесь здесь. – Пальцем указал полицейским на арестантов у стены – на Маскареньяса и Ра-миро. – Займитесь этими… Доктор Понтес, увидев, что Баррос собирается выйти с Рафаэлом, подошел к нему. – Сеньор Баррос… мою порцию… – Рано, доктор. Вам еще на сегодня предстоит работа. Когда кончим, дам, сколько захотите. Худое, как скелет, тело доктора содрогнулось. Он опять провел рукою под носом, потянул ноздрями. Цвет кожи у него был нездоровый, плечи ввалившиеся, глазные орбиты черные и глубокие, и в них – безумные глаза кокаиниста. 8
Выходя из кабинета начальника полиции, Баррос неодобрительно покачал головой. Он совершенно открыто высказал начальнику свое мнение об этом приказе: абсурд! Сисеро д'Алмейда был явно скомпрометирован: Эйтор Магальяэнс сообщил, как он ходил за деньгами на квартиру к писателю, как они вместе принимали участие в заседаниях партийного руководства. Что же касается улик, они будут возникать постепенно, по мере того как арестованные начнут давать показания. Правда, до сегодняшнего дня – пятого с начала арестов – заговорил пока только старик и то не сообщил ничего особенного. На основании данных, полученных от него, удалось арестовать еще несколько человек в Санто-Андре и окончательно ликвидировать там забастовочную агитацию. Но этот Рафаэл – вечно больной и не проявлявший особой активности – использовался почти исключительно как казначей ячейки МОПР. Его признание давало возможность осудить Маскареньяса на длительный срок тюремного заключения, но оно не принесло никаких новых данных, которые можно было использовать для ликвидации партийной организации в Сан-Пауло. Для этого необходимо было захватить Руйво и Жоана и таким образом обезглавить районный комитет. И вот, когда он, Баррос, всячески старался заставить арестованных заговорить начальник полиции отдает приказ об освобождении Сисеро д'Ал-мейды… Конечно, это абсурд! Походило на то, что полсвета принялось хлопотать об освобождении писателя. Началось с банкира Коста-Вале, затем вмешался министр юстиции, и вот теперь начальник полиции заявляет ему, что получил распоряжение непосредственно из дворца Катете. Банкиру Баррос позвонил по телефону сразу же после разговора с Габи. Он объяснил, что необходимо сначала допросить Сисеро и выяснить кое-какие детали. Разговаривая по телефону, банкир, как показалось Барросу, очень торопился. – Хорошо, хорошо. Я вовсе не собираюсь создавать помех для работы полиции. Вам лучше знать, как надо поступить… Такие люди, как Коста-Вале, нравились Барросу: банкир не признавал сентиментальностей. Вероятнее всего, что после разговора с инспектором он написал супруге Сисеро письмо, в котором дал понять, что ничем не может ей помочь, и предоставил Барросу поступать по собственному усмотрению, не пытаясь оказывать на него давление. Но министр юстиции сначала не хотел ничего слушать и категорической телеграммой распорядился немедленно освободить Сисеро. Тогда Баррос связался по междугородному телефону с кабинетом министра, желая объяснить ему необходимость содержания писателя под арестом. Артур Карнейро-Маседо-да-Роша сам к телефону не подошел, и Барросу пришлось говорить с одним из его надменных секретарей, который в ответ на все доводы повторял: – Раз существует распоряжение министра, сеньор обязан его выполнить… После этого Баррос прибег к начальнику федеральной полиции, и только тогда министр уступил. Баррос считал это дело улаженным и собирался приступить к более строгому допросу Сисеро – не бить его, нет – это могло привести к скандалу, – но допрашивать его всю ночь напролет, не дав уснуть. И вдруг теперь начальник полиции вызвал его и заявил, что писателя надо освободить сегодня же. Дело в том, что брат Сисеро, близкий друг Варгаса, находившийся сейчас в Колумбии, выступил в защиту писателя. Баррос только неодобрительно качал головой. Хотят ликвидировать коммунизм, покончить с красной опасностью и в то же время мешают действиям полиции! Ну, теперь, как только комендадора да Toppe будет его отчитывать и упрекать в нерасторопности, он посоветует ей потребовать отчета у своих друзей и родственников, приказавших выпустить на свободу такого известного коммуниста, как Сисеро. Абсурд! И в довершение всего начальник полиции оказался недовольным ходом следствия. – Все еще ничего нового, сеньор Баррос? Вы, наверное, кормите этих людей бутербродами с маслом? Почему они молчат? «Бутерброды с маслом…» Даже доктор Понтес – а он ведь привык присутствовать при такого рода сценах, с тех пор как поступил врачом в полицию, – даже доктор Понтес и тот потерял свое обычное спокойствие, нервы его напряжены до крайности, и он держится только благодаря кокаину. Почему они молчат? Молчат, потому что они бесчувственные ко всему негодяи. Они не чувствительны к страданиям – и к физическим и нравственным, – словно они сделаны не из мяса и костей, как все люди, а из стали. «Примером для нас является Сталин…» – объяснил ему несколько лет назад один из этих коммунистов. И тогда Баррос понял истинное значение этого имени. Он избил дерзкого коммуниста, но всякий раз, когда он пытался вырывать у них признания, ему вспоминались эти слова. Они будто из стали. Он, например, был уверен, что португалишка, еще совсем мальчуган, почти не станет упорствовать. Что могло быть ему известно? Разумеется, немногое – такой юнец не мог быть ответственным работником. И тем не менее, он до сих пор не проронил ни слова, хотя вчера ему вырывали щипцами ногти на руках. Доктор Понтес так трясся, что едва мог сделать впрыскивание, чтобы привести португальца в чувство. «Бутерброды с маслом…» С этими бандитами он почти исчерпал все свое полицейское умение… Что, чорт возьми, поддерживало их дух? Какая таинственная сила их воодушевляла? Оборванцы, простые рабочие с фабрик, полуголодные, полуодетые – и смотреть-то не на что… Как-то доктор Понтес, сидя по окончании «сеанса» у него в кабинете и сладострастно вдыхая белый порошок, в котором старался найти забвение, сказал: – Они сильнее нас, сеньор Баррос. Зе-Педро, связанный, присутствовал при том, как полицейские насиловали его жену. Баррос видел у него на глазах слезы, но это были слезы ненависти; когда он заговорил, он осыпал полицейских ругательствами. Зе-Педро видел, как после изнасилования жену его били по лицу, били ногами в живот. И все-таки он не заговорил. Он и Карлос провели целые сутки, подвешенные за половые органы; обоих обезобразили побоями, оба распухли, посинели. И тем не менее они молчали. Чудовища, бандиты, если бы Баррос мог, он бы их всех убил, чтобы научить не быть такими… такими мужественными!.. Но он на этом не остановится. Он еще не признал себя побежденным. Не надо терять терпения, надо продолжать, пока у них не развяжутся языки. У него не оставалось другого выхода, как возвратить Сисеро свободу, но зато в виде утешения он устроит сегодня ночью «праздник» для остальных. Да, он заставит их говорить, сломит их волю, эту оскорбительную гордыню коммунистов. Ему это удастся. Сегодня ночью они заговорят, пусть даже для этого придется перебить их всех, одного за другим. Он в раздражении ходил взад и вперед по кабинету, затем вызвал одного из своих помощников. Дал ему необходимые распоряжения, связанные с освобождением Сисеро: отрядить сыщиков для слежки за домом, сопровождать его, куда бы он ни отправился, взять под контроль телефон его квартиры. – Хорошенько следить за его домом. Может быть, он поможет нам напасть на чей-нибудь след… Но Сисеро за весь этот вечер ни разу не вышел из дома; по телефону известил только некоторых родственников о своем возвращении, а на следующий день уехал в Рио. 9
Сисеро был лично знаком со всеми видными деятелями политической и культурной жизни страны. Так же обстояло дело и с Маркосом де Соузой, чья слава архитектора распространилась далеко за пределы Бразилии. И несмотря на это, Сисеро и Маркос потратили много времени, обдумывая, кто бы мог им помочь. Они встретились на квартире у Мануэлы. Писатель рассказал архитектору об ужасном положении арестованных в Сан-Пауло. Маркос де Соуза подтвердил: – Здесь то же самое. Арестованных истязают. Мануэла, выслушав рассказ Сисеро, содрогнулась от ужаса. – Я никогда бы не поверила. Доброе лицо Маркоса стало похожим на суровую маску, он проговорил сдавленным от ненависти голосом: – Псы! Сам Сисеро, обычно так хорошо владеющий своими чувствами, признался почти шопотом: – Если бы меня не выпустили, я кончил бы тем, что помешался. Нервы мои уже больше не выдерживали. Надо что-то предпринять. Принялись обсуждать, что делать. Возможность какого-либо протеста через печать исключена – в газеты нечего и обращаться, так как они подвергались предварительной цензуре и находились на поводу у департамента печати и пропаганды. Маркос предложил сбор подписей среди известных представителей интеллигенции. Сисеро отнесся к этому пессимистически: отважатся подписаться лишь очень немногие, большинство побоится. Придется ограничиться фамилиями только левых элементов, наиболее смелых, которых считают коммунистами. Маркос напомнил об успехе, который имели протест против убийства фалангистами Гарсиа-Лорки[146] и воззвание против Франко во время забастовки в Сантосе. Оба документа были подписаны большим количеством лиц, даже представителями интеллигенции с репутацией аполитичных. Но Сисеро возразил: за последние месяцы произошло много событий – после провала армандистско-интегралистского путча Жетулио упрочил свою власть, международное положение ввиду агрессивной политики Гитлера стало гораздо более напряженным, война в Испании решается в пользу Франко, Народный фронт во Франции развалился[147], и большая часть интеллигенции, которая еще совсем недавно желала падения Варгаса и его режима, теперь старается приспособиться к существующему положению. Пришлось бы удовольствоваться подписями, уже много раз стоявшими под воззваниями такого рода: неизменные имена лиц, сочувствующих коммунистам. И на этот раз получить подписи будет труднее – дело идет о протесте против зверского обращения с арестованными рабочими. Если бы речь шла о каком-нибудь писателе или художнике, они собрали бы больше подписей. И, наконец, что они будут делать с этим документом? Ведь опубликовать его им нигде не удастся, он не будет иметь никакого резонанса. Писатель предложил другую меру, более конкретную и более практичную: пусть кто-нибудь из друзей Варгаса с ним поговорит, расскажет ему о том, что происходит в полицейских застенках Рио и Сан-Пауло, попросит его о прекращении этого варварства. Такой просьбе можно и не придавать политического характера: обратиться с ней в плане простого человеколюбия. Маркос с этим согласился, но без особого восторга. Кто мог бы это взять на себя? Они долго, обсуждали возможные кандидатуры, но кончали тем, что отказывались от них. Мануэла, охваченная желанием помочь, быть полезной, тоже подсказывала имена. Время от времени она содрогалась при воспоминании о картине, нарисованной Сисеро: Жозефу насилуют полицейские, ее крики звучат в ночи… Первое имя, названное Маркосом де Соузой, было имя родного брата Сисеро – Раймундо д'Алмейды. – Мундиньо как раз подходит. Он очень близок с Жетулио, но в то же время независим, не играет никакой политической роли, они просто друзья… Если есть кто, к чьим словам Жетулио прислушается, так это именно он. – Сейчас его здесь нет, – возразил Сисеро, – он в Колумбии. И даже будь он здесь… Я хорошо знаю Мундиньо… Чтобы вытащить меня из тюрьмы, он поднимет всех дьяволов. Я узнал, что по поводу моего дела он телефонировал Жетулио из Боготы. Но ради рабочих, наших товарищей… Он может сказать, что так им и надо, что они заслуживают еще большего. За меня он вступился потому, что я его брат, он считает себя обязанным перед семьей. Но он самый непримиримый враг коммунизма во всей Бразилии. – Кто же тогда? Они продолжали перебирать имена. Даже вспомнили о поэте Сезаре Гильерме Шопеле. Мануэла, услышав от Сисеро имя друга Пауло, запротестовала: – Шопел? Ваш брат, Сисеро, может быть врагом коммунизма, но он, по крайней мере, говорит, что думает. Шопел же способен вам пообещать, чего вы у него просите, и тут же пойти и донести на вас полиции. Это самый вероломный человек на свете. – Да, этот толстяк – отвратительная личность, – подтвердил Маркос. – Вы знаете, я сооружаю ансамбль зданий для Лузитанского[148] колониального банка. Так вот на днях мне пришлось обедать с комендадором Фариа, португальским миллионером, директором банка, и с Шопелом – они очень дружат между собой. И что же? В течение всего обеда толстяк пытался вызвать меня на разговор о политике, пока я не разозлился и не начал защищать Россию, которую он поносил: Цель Шопела была очевидна: скомпрометировать меня перед Фариа. И все это сопровождалось изъявлениями восторга моим талантом архитектора. Вот каков этот субъект! Только комендадор не обратил внимания на его происки: он осоловел после обеда, потому что ел, как лошадь. После долгого обсуждения они остановили свой выбор на Эрмесе Резенде. Социолог только недавно возвратился из Европы, где он занимался, по словам газет, научно-исследовательской работой. Эрмес был известен как антифашист, его даже причисляли к левым элементам; сам он заявлял о себе, что он – социалист, и если и не скрывал своих разногласий с коммунистами, то, во всяком случае, никогда не нападал на них в своих публичных выступлениях. В то же время говорили, что он находится в превосходных отношениях с Варгасом, и шли толки о его кандидатуре на пост ректора Бразильского университета. Кроме того, он был другом и Сисеро и Маркоса. Последнему он даже некогда посвятил большую статью, полную восхищения его архитектурным творчеством. Он был – это не подлежало сомнению – самым подходящим человеком для того, чтобы пойти к Жетулио и добиться от него прекращения пыток. Маркос пытался было возражать, но не против кандидатуры Эрмеса Резенде, а против самой попытки – действовать через одно лицо. Он все же предпочел бы, как форму протеста, сбор подписей под обращением – пусть даже таких подписей набралось бы немного. Они могли бы этот документ направить Варгасу. Посредничество же Эрмеса Резенде имело для него унизительный привкус просьбы, не соответствующей непреклонной позиции арестованных. Но Сисеро доказывал ему, что этот способ имеет больше всего шансов на успех. Ведь сейчас самое важное – добиться прекращения зверского обращения с арестованными товарищами, заставить умолкнуть ночные вопли Жозефы, спасти ее от поругания. Мануэла с этим согласилась. – Сисеро прав, Маркос. Чтобы покончить с этими истязаниями, всякий способ хорош. Мне кажется, я не смогу больше спокойно спать, зная, что эта женщина находится в тюрьме и подвергается таким надругательствам… И при ней ребенок… Боже мой!.. Эрмес Резенде имел обыкновение бывать в одной крупной столичной книжной лавке, куда его многочисленные почитатели стекались, чтобы наслаждаться его беседой. В это время – между четырьмя и шестью часами пополудни – там собиралось много писателей и деятелей искусства. Подобные визиты писателей в крупные книжные магазины являлись в Рио старинной традицией, установившейся еще во времена Машадо де Ассиза[149] и книжной лавки Гарнье. Кто-то прозвал эти сборища «ярмаркой тщеславия», но почти все репортеры величали книжные магазины, в которых собирались модные писатели, «блестящими центрами культурной жизни Бразилии». Книжный магазин, посещаемый Эрмесом Резенде – собственность крупной книгоиздательской фирмы, – в настоящее время считался наиболее блестящим из этих «культурных центров»; в литературных кругах престиж его был очень высок. Здесь собирались прославленные литераторы и наряду с ними начинающие авторы; они обсуждали и последние вышедшие книги, и политические события – на родине и за рубежом, – и частную жизнь своих собратьев по перу. Здесь создавались и разрушались репутации; здесь Шопел проповедовал свои теории и предавал гласности свои «гениальные» находки. Литературные критики из газет являлись сюда, как стая голодных крыс, поразнюхать, что интересует издателей, и получить от них приглашение на хороший обед; здесь решалось, кому будут присуждены ежегодные премии за лучшие книги. К пяти часам вечера книжная лавка была заполнена писателями. Посетители старались посмотреть вблизи на литературных знаменитостей. Скромные поэты, прибывшие из северных штатов со своими неизданными рукописями, молодые авторы, явившиеся с юга для завоевания столицы, – все они таяли от восхищения, внимая рассуждениям Эрмеса Резенде, беззастенчивому хохоту романиста Флавио Моуры, саркастическим определениям новеллиста Рауля Виана, теориям поэта Шопела. За пределами столицы, по всей стране, было много провинциальных юношей, чьим заветным желанием было в один счастливый день переступить порог этой лавки, войти в близкое соприкосновение с этими знаменитостями. Иногда сюда приходил сам издатель, толстый и надменный; критики, поэты, прозаики окружали его, почтительно выслушивали его мнение. Иногда здесь появлялась поэтесса Элеонора Сандро, и тогда все, включая и самого издателя, спешили ее приветствовать. Не столько из-за ее мистической и чувственной поэзии или ее великолепной красоты греческой статуи, сколько из-за того, что ее муж был важным лицом в правительстве и в его могущественных руках находились все газеты, журналы, радиостанции, театр, кино – ключи к изданию и продаже книг. Эрмес Резенде обычно располагался в глубине магазина, в уголке, образованном книжными полками, как бы стараясь укрыться от собственной славы. Но вокруг него немедленно собирался кружок, и тогда начинались дискуссии на самые различные темы; он повторял свои афоризмы и парадоксы для услады поклонников и в особенности поклонниц – прекрасных светских дам, привлеченных блеском этих литературных сборищ. В момент, когда вошли Сисеро д'Алмейда и Маркос де Соуза, Эрмес восхвалял Кафку[150], чье имя все чаще и чаще упоминалось литературными критиками в качестве образца для подражания. За последние дни в лавке было особенно людно: всем хотелось приветствовать социолога по его возвращении из Европы. Шопел первый заметил входивших. Он перебил рассуждения Эрмеса восторженным восклицанием: – Дети мои, смотрите! Паулистские литература и искусство переступили этот знаменитый порог. Привет тебе, Сан-Пауло, увенчанный славой! – И, отделившись от группы, он поспешил с распростертыми объятиями навстречу Сисеро. В избытке показной нежности прижал к его груди свою жирную физиономию. – Я знал от Габи о твоих недавних тюремных приключениях. Мы сделали – я и Паулиньо – все от нас зависевшее, чтобы освободить тебя от кандалов!.. Он оставил Сисеро, чтобы броситься на шею Маркоса. – Привет тебе, великий созидатель небоскребов, гордость бразильской архитектуры! Ты находишься в Рио, а между тем тебя никто не видит и не слышит и, чтобы с тобою встретиться, приходится искать тебя у комендадора Фариа. На какой планете ты скрываешься? Злые языки твердят о великой романтической любви… Маркос с трудом высвободился из его объятий и протянул руку Эрмесу, только что дружески обнявшему Сисеро. – Ну, как Европа? – В упадке, Маркос, в упадке… С одной стороны – нацистская Германия, с другой – выдохшиеся Франция и Англия… Он тотчас заговорил о статье в одном парижском специальном журнале, посвященной построенным Маркосом зданиям, – она была снабжена фотографиями, очень хвалебная статья. Затем он снова повернулся к Сисеро и сказал ему несколько слов об этих «нелепых арестах», об этой «атмосфере неуверенности в собственной безопасности, в которой приходится жить всей бразильской интеллигенции». Остальные собеседники тоже поспешили потоком сердечных слов выразить свое сочувствие Сисеро. Послышалась критика по адресу «нового государства», осуждалась полиция. Сисеро и Маркос сначала собирались поговорить с одним лишь Эрмесом и объяснить, зачем они к нему обращаются. Но атмосфера была настолько сердечной и сочувственной, что Сисеро решил говорить при всех. Он начал с описания жестокости сан-пауловской полиции, пыток, которым подвергались арестованные рабочие; рассказал про Карлоса и Зе-Педро, про подлое надругательство над Жозефой. В наступившем молчании голос Сисеро, описывавшего все эти ужасы, звучал убежденно и непререкаемо. – Какие чудовища! – воскликнул романист Флавио Моура. – Настоящее гестапо… – заметил молодой автор, чья первая книга только что вышла из печати. Эрмес Резенде внимательно слушал и неодобрительно покачивал головой. Когда Сисеро кончил, социолог заговорил, обращаясь к потрясенным слушателям: – В Португалии происходит то же самое… И даже еще хуже: полиция Салазара заставляет арестованных коммунистов каждый день присутствовать на католической мессе. Представляете себе?.. Это сообщение вызвало смех. Тяжелое впечатление, произведенное рассказом Сисеро, быстро рассеялось от слов социолога. Все как будто заторопились переменить тему, постараться забыть страшные сцены, нарисованные Сисеро, заговорить о чем-нибудь менее трагическом. Шопел спросил в связи с упоминанием о мессе, известна ли последняя шутка Жетулио – преуморительная история с кардиналом. Но прежде чем он успел начать рассказ, Маркос де Соуза предупредил его: – Одну минутку, Шопел. Мы явились сюда, Сисеро и я, чтобы поставить в известность Эрмеса и всех вас о том, что творится в полиции, здесь и в Сан-Пауло. Арестованных подвергают самым бесчеловечным мучениям, какие только можно придумать. Мы считаем, надо что-то предпринять. – Безусловно… – поддержал один из присутствующих. – Что? Что предпринять? – обеспокоенно спросил Шопел. – Я надеюсь, вы не пришли просить у Эрмеса его подписи под протестом… – Мы думали, – заговорил Сисеро, – об обращении Эрмеса к Жетулио. Эрмес – человек, пользующийся всеобщей любовью и уважением самого Жетулио. Его слово имеет вес и авторитет. Если вы отправитесь к Жетулио, – обратился он к социологу, – и изложите ему дело, не в политической плоскости, а в чисто человеческой, весьма возможно, что он прикажет прекратить пытки. Жетулио не останется безучастным к заступничеству крупного деятеля культуры. Шопел со вздохом облегчения поспешил поддержать эту идею: – Я тоже думаю… Вмешательство Эрмеса… Возможно… Жетулио его очень уважает… Социолог бросил на него укоризненный взгляд, но поэт уже спешил распрощаться. – Ну, я пойду; у меня свидание с Паулиньо, я и так опаздываю. Но вы, господа, можете рассчитывать на мою полную моральную солидарность… – И он ушел, прежде чем у него успели попросить чего-нибудь большего, чем моральная солидарность. Эрмес Резенде в задумчивости рассматривал носки своих ботинок. – Я очень благодарен за доверие, – проговорил он наконец, – но мне кажется, вы преувеличиваете мой престиж. – Он прямо взглянул в глаза Сисеро и Маркосу. – Пожалуй, я человек, наименее подходящий для такого дела. – Почему? – Всем известны мои левые убеждения. Находятся даже люди, обвиняющие меня в коммунизме. Полиция, во всяком случае, считает меня коммунистом. – Но ведь Жетулио вас так уважает… – Наши отношения – чисто личного характера. И сейчас как раз наименее подходящий момент: я только что отказался от поста, который он мне предлагал; не захотел связывать себя с его правительством. – Это только придало бы силы вашему обращению, – возразил Сисеро. – Ведь Жетулио в знак уважения предложил вам крупный пост, и вы его отвергли. Но зато вы его просите о прекращении пыток арестованных… Маркос де Соуза поддержал: – Именно, именно. Это облекает вас еще большим моральным авторитетом. Эрмес Резенде отрицательно покачал головой. – Нет. Не могу. Я чувствую, что у меня нет никакого морального права просить Жетулио о чем бы то ни было. Просить его и принимать от него. Вам хорошо известно: я являюсь другом людей, преследуемых «новым государством» и находящихся в изгнании. Я не могу морально… Очень жаль… Маркос де Соуза рассердился. Он возлагал на Эрмеса Резенде много надежд, питал много иллюзий. Однажды в разговоре с Руйво, когда тот, больной, лежал у него в доме, он горячо защищал социолога, о котором Руйво отозвался, как об «интеллигенте, типичном защитнике латифундий». И теперь, когда Эрмес уклонился от выполнения этой просьбы, он почувствовал себя словно обманутым им; ему казалось, что он вновь слышит иронические слова Руйво: «Классовые заблуждения, мой дорогой, классовые заблуждения…» – Но, сеньор Эрмес, все это носит внешний характер: ведь вы же смогли принять от правительства заграничную командировку… – Прошу прощения! – В голосе Эрмеса прозвучала обида. – Я предпринял мою поездку в рамках лузитано-бразильского культурного соглашения. Я ни о чем не просил Жетулио. Не просил и не прошу. А вы, коммунисты, сейчас же начинаете клеветать, если люди не выполняют всех ваших капризов… Маркос де Соуза вспылил в свою очередь: – Кто на вас клевещет? То, что я сказал, могу повторить: вы ездили в Европу на средства правительства Жетулио, и я вас за это даже не порицаю. Я только говорю, что моральная щепетильность, которую вы только что выказали… Сисеро пытался успокоить обоих: – Ну, что это такое? Мы пришли сюда не ссориться, не обижать друг друга. Я вполне понимаю ваше нежелание, Эрмес, обращаться за чем бы то ни было к Жетулио. Это делает вам честь. Но только я делаю различие: обращение, о котором идет речь, совсем особого рода. Это вопрос гуманности. Эрмес Резенде, еще чувствовавший себя обиженным, не уступал: – Право, вы какие-то странные. Я ваш друг: если бы вы, дорогой Сисеро, снова попали в тюрьму, я первый бы подписал протест против вашего ареста. То же самое я сделал бы и для Mapкоса, если бы это понадобилось. Но вы требуете от других, чтобы они поступились собственной совестью, собственным достоинством ради ваших интересов, интересов вашей партии. Для вас моральные ценности в счет не идут. И это так глубоко отделяет меня от вас. Чувства, сомнения, характер – все это ничего не значит; вы считаете, что цель оправдывает любые средства. Нет, мой дорогой! Я очень сожалею о том, что избивают арестованных рабочих, но, тем не менее, не могу ни на шаг отступить со своей позиции непримиримости в отношении «нового государства». Обратиться с этой просьбой – значит сделать уступку правительству. Придумайте что-нибудь другое, и если это окажется благоразумным… Маркос хотел возразить, но Сисеро предупредил его: – Подскажите сами. Что же еще можно сделать? Эрмес Резенде пожал плечами. – А я откуда знаю? Что-нибудь… Маркос де Соуза позвал Сисеро: – Пойдем отсюда… Спор собрал вокруг них всех находившихся в книжной лавке. Для Маркоса было сущей мукой пожимать на прощанье все эти руки. В дверях он сказал Сисеро, дав простор своему негодованию: – Непримиримость… Совесть… Моральные ценности… Мне с каждым днем все это становится противнее и противнее, милый Сисеро. Это лицемерие, растленность, прикрытая снаружи маской собственного достоинства… Сисеро упрекнул его: – Дорогой Маркос, ты поторопился и все испортил. С этими людьми надо обращаться осторожно, считаться с их мелкобуржуазными предрассудками… – И ты поверил в искренность его отговорок? Что касается меня, скажу только: с нынешнего дня Эрмес Резенде значит для меня столько же, сколько Шопел. Я уже не вижу между ними никакой разницы. А тем временем, после их ухода из книжной лавки, Эрмес Резенде разглагольствовал, критикуя коммунистов: – …Вот почему всякий честный социалист чуждается коммунистов. Они хотят ликвидировать личность, свести индивидуальности к роли простых машин, выполняющих их приказы… Вот почему они теряют поддержку со стороны интеллигенции всего мира: Андрэ Жида, Дос Пассоса[151]… – Но женщина, которую насилуют в тюрьме, – это ведь ужасно, – заметил начинающий писатель. – Но правда ли это? – усомнился кто-то. Эрмес Резенде недоверчиво улыбнулся. – Когда с ними разговариваешь, никогда не знаешь, где кончается правда и начинается пропаганда. Я не говорю, что полиция состоит из деликатных джентльменов. Но не обязательно верить всему, что рассказывают о ней коммунисты… Этому нельзя верить, так же, как нельзя верить всему тому, что говорят и пишут о коммунистической партии. Например, в статьях, публикуемых «А нотисиа» и «А нойте». Вы верите всему, что там рассказывается о жизни коммунистов? – спросил он начинающего писателя. – Разумеется, нет. Совершенно неправдоподобные вещи… Противные человеческой природе… – И с другой стороны как раз то же самое. Кое-что из того, что рассказывал Сисеро, противно человеческой природе, как вы выразились. А для них самое важное – пропаганда… – Да, эта история с женщиной не может быть правдой. Она смахивает на мелодраму. – Их ошибка в том, что они слишком все преувеличивают. У них нет чувства меры. Им недостает уравновешенности. Это, впрочем, характерно для всей деятельности коммунистов. Они примитивные дилетанты, – решительным тоном заключил Эрмес Резенде. 10
Когда Баррос отдал распоряжение принести ребенка, взгляд доктора Понтеса невольно обратился на Жозефу, и врач вздрогнул. С уст женщины сорвался крик. Понтес увидел в глазах арестованной такое страдание, что отвел взор, пошатнулся, опустился на стул и вытер платком выступивший пот. Ему было трудно без привычной дозы кокаина. Но Баррос требовал, чтобы во время «сеансов» он был абсолютно трезв и лишь по окончании всего, возвратившись в кабинет, доставал для доктора из ящика стола маленький конверт с наркотиком. И доктор нюхал его тут же, выслушивая те или иные соображения инспектора. Его участие в пытках началось более года тому назад, после смерти одного заключенного, чье больное сердце не выдержало мучений. Это случилось до установления «нового государства», в самом начале предвыборной кампании, когда оппозиция еще могла выступать против правительства. Один депутат поставил этот вопрос на обсуждение парламента, была внесена интерпелляция министру юстиции; об этом деле заговорила пресса. Разумеется, все уладилось без особенных трудностей: министр юстиции заявил, что смерть произошла в результате естественных причин, а вовсе не явилась следствием «зверств, измышленных коммунистами в расчете на доверчивость уважаемых депутатов». Но с тех пор пытки стали производиться в присутствии и под контролем врача. Вначале это зрелище даже развлекало доктора Понтеса: несмотря на кокаин, нервы его еще были крепкими. Эту вредную привычку он приобрел в годы юности, проведенной в публичных домах. Ему хотелось новых острых ощущений. За годы работы в одной из больниц он привык к кокаину; ждал с жадностью каждого стона, каждого крика боли пациентов, – они были для него предвестниками ночного часа, когда он, давая больным кокаин, мог принять его и сам. К нему Понтеса приучила одна стареющая красавица, в которую он без памяти влюбился, когда был на последнем курсе университета. За злоупотребление кокаином его выгнали из больницы. Некоторое время он слонялся без работы и без средств, плохо одетый, питаясь лишь сэндвичами, и все деньги, какие ему все с большим и большим трудом удавалось занимать у друзей, тратил на кокаин. Один из товарищей по университету, встретив его в таком плачевном состоянии, сжалился над ним и устроил на должность полицейского врача. Доктор Понтес без труда применился к новой среде. Когда Баррос, после скандала, вызванного смертью заключенного, пригласил Понтеса, чтобы предупредить его о характере этой работы, доктор только улыбнулся. Уже раньше, проходя по коридорам полиции, ему приходилось видеть распухшие от побоев лица арестованных, приходилось слышать обрывки разговоров полицейских о пытках, но все это отвечало его жажде сильных ощущений, требовалось, как пища для его ночей кокаиниста. Первые опыты подействовали на него возбуждающе, и он по собственной инициативе предложил даже некоторые нововведения в «классические» методы пыток. Однако с течением времени и под разрушительным влиянием кокаина его нервы начали сдавать, и прежние эротические сновидения – результат наркоза и нездоровых ощущений при виде пыток – уступили место мучительному бреду, полному страшных видений, нестерпимых для слуха криков, душераздирающих стонов и угроз. Самое худшее наступало, когда у него не оказывалось наркотика. Тогда эти образы и звуки становились еще мучительнее и отчетливее; они выступали из тумана сна и превращались в реальные фигуры; крики повторялись без конца, преследовали его даже на улицах, не давали ему ни минуты покоя. От этих галлюцинаций он переходил к бреду, вызываемому кокаином, но и в нем переставал находить облегчение: страшные лица тысячами обступали его, грозили задушить… Хотя он почти не взглянул на страдальческое лицо Жозефы, руки его задрожали. К обычной дрожи от постоянного употребления кокаина в последнее время прибавился страх – страх перед лицами истязуемых, перед избитыми телами, перед глазами, расширившимися от ужаса и ненависти, перед искривленными ртами. Эти образы, эти страшные видения останутся с ним: они не дадут ему ни минуты покоя; не прекращаясь, будут звучать вопли и угрозы – и ночами под действием кокаина, и медлительно тянущимися мучительными днями. Он испытывал ненависть к тем, кто вызывал у него кошмары, – ни капли жалости к истязуемым. Ненависть за то, что они не признавались, за то, что все переносили с плотно сжатыми губами, точно одержимые безумцы. Ненависть за их героизм, за их верность своим убеждениям. Ненависть за то, что они преследовали его, будто он за все ответственен. Почему они не отравляют ночи Барроса, ночи Перейриньи и Демпсея – тех, кто их истязал, кто приказывал избивать? Почему они избрали именно его, хотя он никак не ответственен за их страдания? Сказать, что они еще могут выдержать, что их сердца не грозят разорваться, что их пульс продолжает биться нормально, – ведь это была его обязанность, за это ему платили. Так почему же именно его они преследуют на улице своими воплями, являются к нему ночью, когда он тщетно старается забыться под наркозом? Почему душат его своими опухшими от веревок руками, этими руками без ногтей, которые были вырваны палатами? Почему его? Он никого не трогал, он лишь прикладывал ухо к истерзанной груди, чтобы послушать ритм биения сердца… Да, он ненавидел их сердца, более сильные, нежели его подавленное видениями и уставшее от наркоза сердце. Оно уже больше не выдерживало, и первоначальное садистское наслаждение превращалось в панику, в ужас без предела, в ужас перед этими лицами, этими глазами, этими немыми ртами. Он ненавидел и комнату, где производились пытки, и орудия пытки, и самих палачей. Ненавидел грубую силу Демпсея, его застывшие, как у дикого животного, глаза в минуты, когда он бил, бил без конца, словно это было единственное, что он умел делать, единственное, на что был способен его жалкий разум; не мог выносить это существо, больше напоминающее зверя, чем человека. Он ненавидел молодого Перейринью – садиста, который так же, как и сам Понтес несколько лет назад, наслаждался каждым криком, каждым выражением боли, каждым проявлением страдания; бил и с расширенными зрачками, кривя рот в улыбке, наблюдал действие своих ударов. Он ненавидел и всех остальных: и тех, которые по временам содрогались и отводили взгляд от своих жертв, и тех, кто проявлял полное равнодушие, кто привык ко всему. И он ненавидел Барроса, не мог вынести даже окурка сигары в его толстых губах. Он ненавидел его за неистовую брань, за бессилие вырвать признание из уст своих жертв, за его несмешные шутки и тупое самомнение и, наконец, за насилие над ним, Понтесом, за то, что инспектор давал ему порции кокаина лишь по окончании зловещего представления. Иногда он воображал себе Барроса голым и связанным по рукам и ногам, вроде этих злосчастных коммунистов; Перейринья гасит о его тело сигарету, Демпсей держит наготове щипцы, чтобы вырвать у него ногти. Да, он ненавидел всех: арестованных, полицейских, инспектора; ненавидел их ненавистью, возникшей из ужаса, поддерживавшего галлюцинации. Он был уверен, что для жертв все кончится с последним ударом дубинки или с последней пощечиной, в то время как для него, который всего-навсего выслушивал сердца и получал за это жалование, все будет продолжаться – и ночью, и завтра, и следующей ночью, и всегда, всегда. Ах, эти глаза, полные ужаса! В них в одно и то же время – и страх, и мольба, и смятение, и ненависть! Понтес бросил на них лишь беглый взгляд и затем поспешно перевел его на инструменты для пыток, на Демпсея, закуривавшего сигарету и уже засучившего рукава. Но разве это могло ему помочь? Глаза женщины продолжают на него смотреть, и он не в силах их не видеть, даже когда сам зажмуривается. Если бы он мог понюхать хоть щепотку кокаина, все бы заволоклось туманом, этот взгляд смешался бы с десятками других и перестал быть для него отчаянным взглядом матери, которая знает, что собираются подвергнуть пытке рожденного ею ребенка. Из глубин его ослабевшей памяти всплывает, законченной и ясной, фраза его учителя, почтенного профессора Барбозы Лейте, седобородого, с размеренным голосом; фраза, которую он так любил повторять: «Назначение медицины – защищать человеческую жизнь; ее дело – борьба жизни против смерти; ее миссия – самая прекрасная и самая благородная из всех; врач – это жрец…» Доктор Понтес нервно привычным жестом подносит руку к носу. Зачем явился сюда, в тайную камеру полиции, этот старый идиот со своими благородными фразами, со своей моралью? Зачем он становится рядом с Жозефой, как бы для того, чтобы защитить ее и ребенка, которого приказал принести сюда Баррос? Зачем он протягивает руку, как он это делал при вскрытиях трупов, желая на что-то обратить внимание студентов, а теперь указывает Понтесу этим жестом на глаза женщины, полные ужаса? Он ждет, чтобы Понтес поставил диагноз, точно так же, как он это делал в больнице, когда Понтес был еще студентом… Какое отношение имеет старый профессор ко всему, что здесь творится? Понтес делает рукой движение, стараясь прогнать его из комнаты, но в ответ он слышит голос одного из полицейских: – Вам что-нибудь нужно, доктор? Ах, если бы у него было сейчас хоть немного кокаина! Все бы заволоклось туманом, превратилось в дурной сон, в тяжелый мучительный бред… Глаза Жозефы смешались бы с тысячами других глаз, профессор Барбоза Лейте перестал бы торжественно повторять свою декларацию. Какое, чорт возьми, он имеет отношение к тому, что здесь происходит? О, хотя бы немного кокаина, маленькую щепоточку, ее оказалось бы достаточно, чтобы превратить все – эту комнату, женщину, узников вдоль стен, полицейских, Демпсея, Барроса и профессора – в неясный туман… Совсем-совсем немножко, маленькую щепоточку для одного вдоха… Из коридора доносится плач ребенка. Доктор Понтес снова содрогается от ужаса. 11
Плач ребенка, потревоженного во сне, – почти нормальный плач, достаточно дать ему опять заснуть – и слезы прекратятся. Услышав этот плач, Баррос улыбнулся и взглянул на арестованных. Они выстроены вдоль стены: руки и ноги связаны, тела обнажены; некоторых из них трудно узнать – так изуродовала их эта неделя непрестанных пыток. По приказанию Барроса полицейские снимают с лиц учителя Валдемара Рибейро, железнодорожника Пауло, Маскареньяса и Рамиро противогазы, которые были на них надеты для того, чтобы затруднить дыхание. Учитель в плачевном состоянии. Его били всего один раз и две ночи заставляли стоять, не давая есть и пить. И тем не менее он выглядит постаревшим лет на десять: исхудалое тело распятого Христа, а в глазах – безумие. Когда его били (учитель привел в бешенство Барроса своими дерзкими ответами на допросе и восхвалениями Престеса), он так кричал, что у инспектора появилась надежда: может быть, хоть этот признается. Стоны и крики учителя заглушали громкие звуки радио; он часто лишался чувств. Не побои состарили его, углубили морщины на лице, сделали его совсем седым: он стал таким от зрелища пыток, которые у него на глазах применялись к остальным арестованным. Когда били Жозефу, учитель кричал до тех пор, пока не потерял сознание. Но с железнодорожником было совсем по-другому: он казался немым. Ни слова, ни стона, ни звука… А между тем Демпсей нещадно бил его дубинкой. Баррос хотел получить от них – от учителя и от железнодорожника – сведения о Гонсало; Эйтор Магальяэнс сказал ему, что с великаном связал его учитель и, солгав из мести, добавил, что железнодорожнику все известно о легендарном коммунисте. Железнодорожник заявил: – Ничего об этом не знаю, никогда не слыхал. А если бы и знал, все равно ничего не сказал бы. Вперемежку с угрозами и побоями Баррос сулил им всем деньги, свободу, возвращение учителя на свою должность в школе, работу для железнодорожника. Учитель вспоминал фотографию Престеса на стене своей комнаты, вспоминал слова Гонсало: «Мы должны носить его у себя в сердце» – и стонами и воплями протестовал против пыток; он совершенно терял голову, когда Баррос принимался поносить Престеса. Что касается железнодорожника, то казалось, будто он создан из гранита: все переносил в молчании, которое больше чем раздражало Барроса, – оно возбуждало в нем ненависть, как и вся эта нетерпимая для него «коммунистическая гордыня». Когда Баррос услышал плач ребенка, которого несли сюда по коридору, он улыбнулся. Маленький португалец закусил окровавленные губы, хотя у него во рту почти не осталось зубов. Его тело – сплошная рана. У него выщипаны все волоски пробивающихся усиков, ему загоняли под ногти иголки и кончили тем, что вырвали ногти щипцами. На его глазах истязали Зе-Педро, Карлоса, Маскареньяса, затем принялись за Жозефу. Тогда Рамиро зажмурил глаза, чтобы больше не видеть. Баррос дал ему пощечину. – Открой глаза, щенок, а не то я тебе их выколю!.. Баррос увидел, как португалец напряг изо всех своих сил мускулы, пытаясь разорвать связывавшие его веревки, и предложил ему: – Признайся, и я прикажу прекратить… Рамиро закричал, обращаясь к Барросу, но главным образом к самому себе: – Я коммунист, а коммунист никогда не предает!.. И он вновь, напрягая мускулы, пытается разорвать веревки, но только растравляет раны на руках. А Маскареньяс говорит: – Если тронут ребенка, клянусь, когда-нибудь я убью тебя, мерзавец! В одну из ночей после пыток Баррос посадил Маскареньяса в авто. Другая машина, наполненная полицейскими, сопровождала их. Они поехали за город. Маскареньяс, сидя рядом с инспектором, жадно вдыхал вольный воздух ночи. Баррос говорил о тысяче разных вещей: обо всем, что напоминало свободную жизнь, что способно было прельстить человека, полного сил и здоровья. Он говорил о доме, жене, детях Маскареньяса. О возможности счастливой жизни, которую он предоставит Маскареньясу, если тот признается. Больше не было бы скудной оплаты на фабрике, тяжелой работы, трудностей с питанием семьи, с квартирной платой. Вместо этого – большое жалованье, легкая работа в полиции, хорошая квартира, сытное питание, школа для малышей. Баррос показывал ему на Сан-Пауло, по которому они проезжали, – ярко освещенный, шумный, полный соблазнов и приманок. Маскареньяс не отвечал, словно его занимал лишь свежий ночной воздух, возможность вдыхать его полной грудью. На полдороге в направлении Санто-Амаро машины остановились. Полицейские выволокли Маскареньяса из авто, подвели к пруду. Место было тихое и пустынное. Над ними – ясное и далекое небо, усыпанное бесчисленными звездами. Баррос сказал: – Сеньор Маскареньяс, ваш час настал. Или вы сейчас заговорите, или мы вас ликвидируем. А труп ваш бросим в пруд на съеденье рыбам. Маскареньяс смотрел на небо, на звезды, на синеватые воды пруда. Он любил природу. Любил наблюдать, как над полями занималась утренняя заря. И когда случайно у него выпадал свободный день, он проводил его где-нибудь в лесу, под сенью деревьев. Он всегда говорил своим товарищам – если речь заходила о том, как они будут жить после победы революции, – что ему хотелось бы такой работы, которая позволила бы жить за городом, переселиться на лоно природы. Это хорошо, что его убьют здесь, а не на полицейском дворе, со всех сторон окруженном стенами. Здесь он мог видеть ночное небо, отблеск звезд на воде, вдыхать свежий воздух ночи. Ему велели раздеться. Полицейские вытащили револьверы. Он ощутил на обнаженном теле нежную ласку ночного ветерка. Баррос встал в воинственную позу, готовясь командовать. Полицейские взвели курки. Маскареньяс уже готовился прокричать свое последнее «ура!» в честь партии и товарища Престеса, когда вдруг прогремел полный ярости голос инспектора: – Ты думаешь, бандит, что так и не заговоришь? Думаешь, мы так и оставим тебя с закрытым ртом? Нет, прежде чем убить, я тебе раскрою рот… Полицейские набросились на него, избивая рукоятками револьверов. Но теперь он знал уже, что его не убьют: они хотели только испытать, не удастся ли испугать его угрозой немедленной казни. Таким способом Барросу уже удалось однажды заставить заговорить одного студента. Когда Маскареньяса били на берегу пруда, у него блеснула мысль – вырваться из рук своих палачей, броситься в воду и утонуть. Лучше умереть сразу, чем медленно умирать от полицейских зверств. Но разве он имел право самовольно распоряжаться собственной жизнью? Пытки не могут продолжаться вечно, и если даже его осудят, все равно настанет день, когда он выйдет из тюрьмы и снова займет свое место в рядах партии, вернется к борьбе. Его жизнь ему не принадлежала; его долг – бороться до конца. Он отвел глаза от синеватой воды, где отражались звезды. Его привезли обратно и на следующую ночь начали применять к нему, к Зе-Педро и к Карлосу «научные методы пыток», как называл их Баррос: уколы и впрыскивания, возбуждающие нервную систему (их производил доктор Понтес), шок электричеством, обычно применяемый в психиатрических больницах, – все это в расчете на то, что, когда заключенные начнут бредить, Барросу удастся вырвать у них слова признания. Но хуже всего этого было зрелище пыток, применяемых к другим товарищам, бесчеловечное, дикое обращение с Жозефой. Во сне плачет ребенок, все громче. Баррос улыбается людям, стоящим вдоль стены: учителю, который не в состоянии совладать со своими нервами и беспрерывно дрожит; железнодорожнику – мускулы его напряжены, лицо мрачно застыло и от него веет ненавистью; молодому португальцу, тщетно пытающемуся разорвать связывающие его веревки, – он весь устремлен вперед, словно собирается броситься на инспектора; Маскареньясу, тревожно насторожившемуся при звуках детского плача и, быть может, вспомнившему своих детей. Один из них непременно заговорит, если бы даже ему, Барросу, пришлось для этого изуродовать ребенка Зе-Педро. Улыбка на лице Барроса расплывается все шире: теперь они увидят, кто сильнее – он или они, коммунисты. Плач ребенка звучит на пороге комнаты, где дышать тяжело, как в глубине длинного и темного туннеля. 12
В дверях появляется Перейринья, неся ребенка, как носят свертки: он обхватил его рукой поперек животика так, что детские ручки и ножки болтаются. Личико маленького мулата покраснело от слез. На всю комнату слышен крик Жозефы – вопль отчаяния: – Зе-Педро, они убьют нашего сына!.. Баррос отводит взор от четырех заключенных, стоящих у стены; улыбка широко расплывается по его лицу, принявшему вызывающее выражение, когда он обращается к двум людям, подвешенным за ноги, головами вниз, – к Зе-Педро и Карлосу: – Слышал, Зе-Педро? – Пес! – в этом голосе звучат боль, страдание и ненависть. Посреди комнаты стоит стол; Баррос показывает на него Перейринье: – Брось щенка на стол. Полицейский бросает ребенка, как неодушевленный предмет. Плач усиливается, но теперь это уже не прежние слезы, это плач от ушиба. Голос Зе-Педро выкрикивает лишь одни ругательства, как если бы он позабыл все остальные слова. Баррос приказывает подручным прекратить пытку Карлоса и Зе-Педро. – Чтобы им было лучше видно… Карлоса и Зе-Педро ставят у стены в глубине комнаты, но ни тот ни другой не могут удержаться на ногах и сползают на пол. – Оставь их… – говорит Баррос. Ребенок приподнимается на ручках и коленях и начинает ползти по столу. Испуганным голосом, вперемежку с плачем, он зовет: «Мама, мама!» Ему отвечает хриплый нечеловеческий вопль – не слово, не крик, не стон, – вопль загнанного и смертельно раненного животного. Это Жозефа пытается что-то сказать, может быть просить, умолять, угрожать, – кто знает? Невозможный, раздирающий душу вопль… Учитель Валдемар зажмуривает глаза… ах, если бы он мог лишиться слуха, внезапно оглохнуть!.. Этот вопль по-настоящему восприняли только двое: ребенок и доктор Понтес. Ребенок поднимает глаза, стараясь отыскать мать. А доктор Понтес уже слышал такие вопли и раньше, в бреду кокаиниста. На лбу у него выступает пот. Баррос подходит к связанной Жозефе. – От вас самой зависит, страдать вашему ребенку или нет. – Он бросает взгляд на ребенка, ползающего по столу, как бы измеряя степень его выносливости. – Не знаю, выдержит ли он, – такой маленький… Как бы не умер. Глаза Жозефы расширяются; ей удается произнести несколько связных слов: – Сеньор этого не сделает, он не допустит такого зверства, это невозможно… Сеньор не сделает… Ради собственной матери!.. – Это зависит от вас, исключительно от вас. – Голос Барроса звучит почти дружелюбно. – Расскажите, что вам известно. Заставьте говорить вашего мужа. Выдайте мне Жоана и Руйво, и я отдам вам ребенка. Глаза Жозефы расширяются еще больше, она плачет. «До каких же пределов будут раскрываться эти глаза?» – в тревоге спрашивает себя доктор Понтес. – Вы допустите, чтобы малютку били? Он может не выдержать и умереть. Почти наверняка умрет… – продолжает Баррос. – Или, может быть, вы тоже каменная? Ну хорошо! Расскажите мне обо всем, я верну вам ребенка и прикажу выпустить вас вместе с ним… Сегодня же… – Он хочет тебя обмануть… – предостерегает Зе-Педро. – Замолчи, навозная куча, шелудивый пес! – Баррос приходит в ярость. – Вы видите? Ему нет дела до того, что мы можем погубить ребенка. Но ведь вы – мать… Наверное, не он зачал этого ребенка, потому и не беспокоится. Достаточно будет, если вы мне расскажете, и я отпущу вас с ребенком. Даю слово. «Если я заговорю, то Зе-Педро никогда больше не взглянет мне в лицо, никогда не погладит меня по волосам, ничего не захочет обо мне знать…» – так думала Жозефа, когда ее подвергали пыткам, но теперь этого было мало: нужно что-то большее, чтобы выдержать испытание. Она жадно ищет взглядом глаза Зе-Педро – в них она найдет необходимое мужество. За эти дни мучений, когда полицейские наполняли камеру, где она содержалась вместе с ребенком, раздевали и насиловали ее, когда смерть стала для нее самым желанным помыслом, ее поддерживала только любовь к Зе-Педро. Но сейчас ей нужно что-то большее, и Зе-Педро это угадывает – его голос перекрывает голос инспектора: – Зефа, если ты заговоришь, наступит день, когда наш сын будет тебя стыдиться. Он не захочет даже посмотреть на тебя: никто не любит предателей. Но я знаю, что ты по-прежнему будешь молчать. Баррос поворачивает голову в сторону Зе-Педро. – Послушай, Зе-Педро… Если ты думаешь, что мы здесь разыгрываем комедию, то ошибаешься. Если один из вас не признается, я раздавлю этого ребенка. – И снова обращается к Жозефе: – Неужели у вас нет сердца? С другого конца комнаты раздается голос: – Ты не человек, Баррос, – ты гадина! Инспектор оборачивается как раз вовремя, чтобы увидеть, как один из полицейских затыкает зуботычиной рот железнодорожнику Пауло. Но голос звучит снова, оскорбляющий, полный презрения: – Только такому мерзавцу, как ты, может прийти на ум бить маленького ребенка. Мерзавец, трус – вот кто ты такой! Если тебе хочется кого-нибудь бить, так бей меня: я мужчина и молча перенесу все побои. А ты дрянь, баба, трус, курица!.. И оскорбления следуют одно за другим, несмотря на удары. На какое-то мгновение Баррос колеблется: кажется, его занимает только Пауло, и он собирается приняться за него, чтобы проучить, забыв на время об остальных. Но, рассмеявшись, он тут же приказывает полицейскому: – Оставь его… Он хочет таким способом принудить нас забыть про ребенка. Вот дурак!.. Жозефа не спускает глаз со стола, где копошится ребенок. Услышав слова Зе-Педро, она принимает решение: что бы ни произошло, – молчать, но всем своим существом она страдает за мальчика. Она видит его у самого края стола и кричит: – Он сейчас упадет!.. При звуке материнского голоса ребенок приподнимает головку. Баррос толкает его на середину стола, и плач возобновляется. Мысли Жозефы путаются, из груди у нее вырываются рыдания. Баррос делает два шага по направлению к Зе-Педро. – Или ты заговоришь, или увидишь, как ребенок затрепыхается в моих руках. Неужели ты такой негодяй, что способен смотреть, как твой сын будет мучиться исключительно по твоей вине? – Он делает паузу, дожидаясь, но так и не дождавшись ответа. – Если он действительно твой сын, не кого-нибудь другого… Сегодня я это проверю. Маскареньяс любил природу: широкие просторы, густые заросли леса, открытое поле. Как-то, еще мальчиком, он отправился в далекое путешествие. Смена пейзажей, развертывавшихся за окном вагона, была настоящим праздником для его глаз. Но в одном месте в горах локомотив издал пронзительный свисток и поезд въехал в туннель. Воздух сразу стал тяжелым, возбуждающим тошноту, удушье. И вот теперь, в этой камере пыток, он испытывает то же самое: позывы к рвоте, удушье. Он не может больше этого выносить. – Если тронешь ребенка, придет день – я убью тебя, Баррос. Клянусь, убью! На этот раз Баррос даже не оборачивается. Теперь он смотрит на Карлоса, обращается к нему: – Видишь, Карлос? Беру тебя в свидетели: во всем виноваты вы сами. Вы не хотите говорить. Тебе приходилось видеть, как по-настоящему били ребенка? Не шлепочки папы и мамы, а настоящие удары хлыстом? Жозефе вспоминается день рождения ее ребенка, радость Зе-Педро. Потом мысль переносится к дням, когда ребенок заболел: у него был грипп в сильной форме, они с мужем не спали ночей, сторожа тревожный сон малютки. Воспоминания следуют одно за другим, ужас стоит в расширенных глазах; ей начинает казаться, что ребенок уже умер, она с трудом понимает, что, собственно, происходит. Ее глаза блуждают по комнате. Зе-Педро не сводит с нее напряженного, полного тоски взгляда… Баррос говорит, обращаясь к Карлосу: – Все зависит от вас… Если ты скажешь, я оставлю ребенка в покое. Кто такой Жоан? Адрес Руйво… История Гонсало… Ведь это совсем немного… Ты видал, как избивают маленьких детей? Нет? Очень скоро увидишь. От молодого и веселого Карлоса остались одни глаза с их открытым взглядом. И Карлос отвечает, но не Барросу. Он обращается к Понтесу, сидящему на стуле и дрожащими руками отирающему пот на голове: – Доктор… Скажите мне, доктор… Неужели вы допустите, сеньор, такое преступление? Неужели вы позволите? Баррос весело смеется: – Кто? Понтес? Он даже получит от этого удовольствие. Не правда ли, Понтес? Доктор в знак согласия кивает головой, даже пытается улыбнуться, но лицо его искажается гримасой. – Не твой ли это ребенок? – смеясь спрашивает инспектор Карлоса. – Ведь ты часто бывал у Зе-Педро, не так ли? Он с минуту ждет, потом пожимает плечами. – Вина ложится на вас… Лучше признаться теперь, а не после того, как мы начнем… – Показав одному из помощников на радиоприемник, он коротко приказывает: – Музыку! – Показав на ребенка, обращается к другому: – Раздень этого щенка… Баррос оглядывает одного за другим полицейских, находящихся в комнате. Демпсей жмется к двери, стараясь не встречаться глазами с начальником. Один лишь Перейринья улыбается. – Прочеши ему для начала задницу. – Не делай этого, негодяй!.. – рыдая, кричит Рамиро и в кровь разрывает сухожилия рук, стараясь освободиться от веревок. – Мерзавец!.. – выкрикивает железнодорожник. Начинает звучать мелодия вальса. Перейринья берет хлыст, проводит пальцами по проволоке, как бы пробуя его. Доктор Понтес неотрывно смотрит на остановившиеся громадные глаза Жозефы, ее открытый, беззвучный рот. Но что-то происходит с ее глазами. Перейринья подымает руку. Баррос кладет ребенка на бок, но тот пытается отползти. Никто не слышит его отчаянного крика, но зато все слышат крик Жозефы: хриплый и странный вопль, совсем незнакомый голос, будто крикнул кто-то другой, только что вошедший в комнату человек. Доктор Понтес видит, как его учитель, старый профессор Барбоза Лейте протягивает руку по направлению к женщине – его обычный жест, когда он требовал от студентов быстрого диагноза. Доктор Понтес поднимается с места. Перейринья вторично замахивается хлыстом. Ребенок, захлебываясь, исступленно кричит и судорожно изгибается на столе. Доктор Понтес подходит к Барросу, трогает его за плечо и показывает на Жозефу. – Она сошла с ума… – говорит он. 13
У себя в кабинете Баррос открыл шкаф, достал бутылку кашасы и два стаканчика. Поставил на стол, налил. Доктор Понтес поспешно схватил стаканчик, поднес к губам. Руки его так дрожали, что он пролил немного кашасы на свой пиджак. Баррос выпил залпом, сплюнул, налил себе еще. – Не люди, а чума! Даже от сумасшедшей и от той ничего не добиться! Понтес засмеялся. Смех этот был безудержно громкий, злой, неприятный. – Чему вы смеетесь? Я не нахожу во всем этом ничего смешного… После того, как Понтес установил диагноз сумасшествия у Жозефы, Баррос велел убрать ребенка и увести остальных арестованных. Он настоял, чтобы доктор при помощи электричества вызвал у женщины шок. И совсем не для того, чтобы излечить ее, а в расчете на то, что в состоянии нервного возбуждения она проговорится. Может быть, таким способом ему удастся хоть что-нибудь выведать. Жозефа говорила о сыне, повторяла его имя, напевала обрывки колыбельных песенок. Теперь она заснула, все еще продолжая находиться в состоянии шока. По мнению доктора, она могла пробудиться или выздоровевшей, или буйной сумасшедшей – на практике бывает и то и другое. Самое лучшее, считал он, направить ее в тюремную психиатрическую больницу. Доктору Понтесу было очень трудно сдержать смех: Баррос в его бессильной ярости представлялся ему до чрезвычайности забавным. Уже давно он так не смеялся, как сейчас. С трудом справился со своим смехом и проговорил: – Они сильнее вас, Баррос. В ваших руках против них одно оружие – боль, а у них против вас – нечто гораздо более сильное. – Что же именно? – спросил инспектор, стукнув кулаком по столу. – Почем я знаю… Что-то в сердце. Это какое-то дьявольское наваждение, но оно делает их сильными. Как бы там ни было, а они победили вас полностью… И снова им овладел смех, он трясся от смеха, который невозможно было сдержать, – смех, более оскорбительный, чем все ругательства железнодорожника в камере пыток. Баррос еще раз стукнул кулаком по столу. – Перестаньте смеяться или я разобью вам морду!.. Доктор Понтес отошел от стола, но сдержать смех так и не смог: это было выше его сил. Как был смешон инспектор, такой бессильный, приниженный, – можно умереть со смеху… – Перестаньте! – проревел Баррос, и в глазах его вспыхнула ненависть. Понтес прислонился к стене, почти согнулся пополам от смеха, – вот-вот лопнет. Баррос бросился к нему и дал две пощечины. – Вошь паршивая!.. Смеешься надо мной! А врач продолжал смеяться, он смеялся и плакал одновременно. На лице у него остался след от пощечин. Инспектор возвратился к столу, взял бутылку и сделал большой глоток прямо из горлышка. Сел. – Убирайтесь вон! И поживее… – приказал он. Доктор делал над собой невероятные усилия, стараясь остановить смех. Баррос продолжал орать: – Вон отсюда! Живо! Смех на губах врача постепенно затихал; ему удалось выговорить: – Мой конверт… Дайте мне мою порцию… Баррос торжествовал в своей ярости. – Убирайтесь, я уже вам сказал!.. Пока еще раз не набил морду. Смех опять усилился, Понтес пытался бороться с ним и между спазмами хохота повторял: – Дайте мой конверт, и я уйду… – Я вам не дам ни крупинки кокаина. Марш отсюда!..– И Баррос еще раз приложился к бутылке. Смех на губах у врача замер. – Не шутите, Баррос, дайте мне… Инспектор встал, подошел к врачу, вытолкнул его из кабинета и запер дверь. Но и через закрытую дверь до него доносился возобновившийся смех доктора. Эта каналья позволяет себе над ним смеяться! Он выпил еще. Его душила ярость. Швырнул бутылкой в дверь. Доктор Понтес упал на площадку лестницы, куда он вылетел от толчка инспектора. Дежуривший в передней полицейский, помогая ему подняться, заметил: – Начальник совсем озверел, не так ли, доктор? Доктор ничего не ответил. Смех его прекратился. Привычным жестом поднес руку к носу. Услышал, как вдребезги разбилась бутылка, которую Баррос швырнул о дверь. Снял с вешалки шляпу, вышел на улицу… Он лишил себя жизни на рассвете, когда город только начал просыпаться. Вопли и призраки встретили его сразу же за порогом полицейского управления, сопровождали его в такси, вместе с ним вошли в квартиру. Глаза Жозефы, ее ни на что не похожий вопль, колыбельные песенки, которые она напевала, когда лишилась рассудка после того, как уже унесли ребенка, тело которого было рассечено проволочным хлыстом: Спи, мой сыночек, спи, мой родной, Я берегу твой сон и покой… Будь у него хоть немного кокаина, он набросил бы на эти видения и вопли пелену сна и тогда, может быть, смог бы их перенести. Но Баррос вышвырнул его из кабинета, не дав очередной порции. Алкоголь не поможет: он тщетно пробовал искать в нем спасения. Понтес лег, не раздеваясь, на кровать и тотчас же из всех четырех углов комнаты на него глянули лица, распухшие от побоев, искаженные гневом и болью; сотни глаз устремили на него свои взоры с потолка, с пола, со стен. Он погасил свет, чтобы не видеть их, но ему не следовало этого делать, потому что они приблизились к нему, окружили кровать, все – и мужчины и безумная женщина – принялись кричать ему в уши; он видел их в темноте, слышал каждого в отдельности и всех вместе. Он встал, вышел в соседнюю комнату, но они двинулись вслед за ним. Он вернулся назад, и они вернулись вместе с ним. Он ходил из одной комнаты в другую, и они неотступно сопровождали его, кричали все громче, приближались к самому его лицу, смотрели своими глазами ему прямо в глаза. Ах, будь у него хоть немного кокаина!.. Хоть щепоточка, может быть, это помогло бы… Он знал, чего они хотели. Вот уже сколько времени, как они его преследовали, хотели ему отомстить. Почему ему, а не Демпсею, не Перейринье, не Барросу? Почему ему, который только выслушивал сердца и получал за это жалованье? И снова звучит размеренный голос профессора Барбозы Лейте, седобородого, похожего на жреца: «Медицина – священное призвание. Мы боремся за жизнь, против смерти, против страдания…» Доктор Понтес сел за письменный стол, вынул бумагу и перо и начал писать профессору длинное письмо, в котором рассказывал все до мельчайших подробностей. Призраки расположились вокруг, но голоса их смолкали по мере того, как он писал. Он описал комнату пыток, орудия пыток, свою работу и работу других. Описал, как бичевали ребенка и как Жозефа сошла с ума. Вложил письмо в конверт, надписал на нем фамилию профессора. Но разве он не полицейский врач, разве ему не известно, что сюда явятся сыщики, возьмут с собой это письмо, и оно так никогда и не дойдет до адресата? – спросили его окружившие стол призраки, вплотную приблизившиеся к Понтесу. По соседству с ним жил один старый журналист, с которым он время от времени беседовал. Понтес взял новый лист бумаги и написал на нем записку к соседу, прося его передать прилагаемое письмо профессору Барбозе Лейте, на медицинский факультет, и только ему лично. Оба письма он подсунул соседу под дверь. В комнату проник тусклый свет начинающегося утра. Но вопли не смолкали, видения не исчезали. Они его торопили, толпились вокруг него, шли за ним следом – эти обезображенные лица, глаза, полные боли и гнева, эти руки без ногтей, эти искривленные рты. «Еще минута, – подумал он, – и я освобожусь от них навсегда». Берясь за револьвер, он вспомнил Барроса – его разъяренное лицо, смешное в своем бессилии. Приступ смеха готов был снова овладеть им, но он увидел перед собой глаза Жозефы, и смех его замер. Поднял револьвер, приставил к виску, дрожащим пальцем спустил курок[152]. Утро наступило. 14
Мистер Джон Б. Карлтон, влиятельный делец с Уолл-стрита («дерзкий американский бизнесмен», как писали о нем одни газеты; «щедрый миллионер – основатель многочисленных благотворительных учреждений», как писали другие), почетный доктор наук университета в штате того самого университета, в который не принимали негров, – этот мистер Джон Б. Карлтон хвастался перед Мариэтой Вале своей феноменальной сопротивляемостью действию алкоголя, что всегда вызывало восторженные комментарии в американских финансовых кругах. Мариэта внимательно слушала и улыбалась. Мистер Карлтон объяснял эту свою особенность тем, что во времена сухого закона[153] американцам приходилось пить самые разнообразные и подозрительные смеси виски и джина, приобретенные у гангстеров. Сейчас он поглощал старинное французское вино – гордость погреба Коста-Вале – шумными и торопливыми глотками, точно пил обыкновенный аперитив. Артур Карнейро-Маседо-да-Роша, председательствовавший на этом обеде, не мог удержаться от улыбки сожаления. Сожаления о вине, о великолепном старом бургундском, которое сам Артур медленно смаковал, как это и надлежало знатоку. Американцы, несомненно, обладают рядом замечательных качеств, думал бывший депутат и нынешний министр, но им еще нехватает очень многого, чтобы достичь утонченности европейской культуры. Той культурной утонченности, которую Эрмес Резенде, сидевший напротив Мариэты и беседовавший с экономическим советником американского посольства, определял как лучшее доказательство «окончательного упадка европейских народов». Поэт Шопел с другого конца стола запротестовал против такой характеристики социолога. Далеко не все в Европе находится в упадке. Достаточно привести в качестве примера гитлеровскую Германию. – Где найти более великолепную демонстрацию юности и силы, чем нацизм? – риторически вопрошал поэт. Эрмес собирался ему возразить, но в это время мистер Джон Б. Карлтон, поставив бокал, начал говорить, покрывая своим пользующимся всеобщим уважением голосом все остальные. Он начал с громкого смеха, как бы предуведомляя о забавности последующих фраз. И тотчас же все сидевшие поблизости от него – банкир, министр, Эрмес, комендадора да Toppe, Венансио Флоривал и даже Мариэта Вале – заулыбались. Миллионер признался, что во времена сухого закона он дошел до того, что пил – в виде ликера превосходного качества – лекарства с большим процентом алкоголя. Он платил за них золотом, и некоторые бизнесмены разбогатели на импорте этих лекарств в Соединенные Штаты и продаже их как запрещенных алкогольных напитков. Он закончил свой рассказ оглушительным взрывом хохота, находя эту историю чрезвычайно забавной. Веселье не замедлило распространиться за столом, и Сузана Виейра, сидевшая между Шопелом и Пауло Карнейро-Маседо-да-Роша, с любопытством спросила у поэта: – Что он такое рассказал? Поэт, уже с самого начала вечера находившийся в дурном расположении духа, процедил сквозь зубы: – Идиотскую историю. Но смех неудержимо распространялся все дальше и достиг того конца стола, где сидела Сузана; она также принялась смеяться, даже громче других. Сузана посетовала: – Придется учиться английскому, в наше время без него нельзя обойтись. Французский больше ничего не стоит; не понимаю, почему его еще заставляют учить в наших школах. Ведь теперь всё, даже моды, приходит к нам из Соединенных Штатов… Возьму себе учителя. Шопел принялся защищать французский язык. Он напомнил, что это язык, на котором пишет Андрэ Жид, но ни Сузана, ни Пауло не стали слушать поэта; их внимание обратилось к Резенде, который в это время заговорил, приводя глубокомысленные соображения о психологических и социологических влияниях сухого закона на формирование характера североамериканцев и на развитие цивилизации янки. Советник посольства, сорокалетний облысевший господин в очках с толстыми стеклами, покачиванием головы выражал свое одобрение словам Эрмеса. Воцарилось всеобщее восхищенное молчание. Как будто все присутствующие на этом обеде, который Коста-Вале давал в честь мистера Джона Б. Карлтона – представителя североамериканских капиталов в «Акционерном обществе долины реки Салгадо», – как будто все присутствующие демонстрировали перед гостями-гринго в качестве образца бразильской культуры этого блестящего по своему интеллекту Эрмеса, превосходно говорящего по-английски и в совершенстве знающего жизнь Соединенных Штатов. Эрмес привел ряд цитат в подтверждение своего тезиса о том, что сухой закон, со всеми его последствиями, сформировал и закалил североамериканский характер. Только сам мистер Джон Б. Карлтон, казалось, не был особенно заинтересован пространными научными рассуждениями Эрмеса. Он использовал это время, чтобы жадно поглощать стоявшие перед ним на столе яства. И Мариэта, хотя на губах у нее застыла улыбка восхищения, совсем не слушала аргументов, которые приводил Эрмес в подтверждение своей теории. Она перевела взгляд с сидевшего рядом с ней миллионера на Пауло. Хотя на лице у него было выражение напряженного внимания, оно все равно не утратило своего обычного скучающего выражения. Недаром он сказал на днях, что ему до последней степени наскучила эта «ужасающая монотонность бразильской жизни, способная убить скукой самую скуку». Для Мариэты это было ударом. Назначение Артура на пост министра юстиции и последовавший за этим перевод Пауло из Итамарати начальником кабинета отца казались Мариэте достаточной гарантией, что молодой человек останется в Бразилии. Однако Пауло, приехав в Рио, заявил, что сразу же после свадьбы он будет добиваться должности секретаря бразильского посольства в Париже. В Итамарати он получил повышение, и при помощи отца-министра и покровительстве комендадоры мог быть уверен, что добьется назначения. Для Мариэты это сообщение явилось более чем неожиданной и неприятной новостью – оно прозвучало для нее смертным приговором. Она уже привыкла распоряжаться своим возлюбленным и сама выработала план его дальнейшей жизни после свадьбы, которая должна была состояться в январе будущего года: медовый месяц в Буэнос-Айресе; наем роскошной квартиры в Копакабане, пока еще не готов дом в Гавее, строящийся комендадорой для племянницы и ее мужа. Мариэта считала, что этим опасность отъезда Пауло совершенно устранена. Она даже рассчитывала, что с течением времени заставит его окончательно расстаться со службой в Итамарати и посвятить себя управлению предприятиями комендадоры. Таким образом она навсегда бы сохранила его в Сан-Пауло, около себя. Она еще не говорила на эту тему с Пауло – считала, что подходящий момент еще не наступил. Мариэта отложила этот разговор до того времени, когда Артур перестанет быть министром и Пауло придется возвратиться на дипломатическую работу. Теперь же она считала себя в безопасности и была счастлива, видя приготовления к свадьбе своего возлюбленного с племянницей комендадоры. Но вести этот разговор с Пауло теперь было бы нецелесообразно. Только недавно молодой человек, развалившись в кресле у нее в гостиной, делился с ней своими планами: квартира на Елисейских полях, посещение ресторанов, кабарэ, театров, выставок, раутов – настоящая парижская жизнь, единственная, которой, по его мнению, стоило жить. Мариэта слушала в изумлении и впервые в жизни ее возмутил холодный эгоизм Пауло: он думал только о себе, ничего другого на свете для него не существовало. – Ты думаешь только о себе, – сказала она, – и не вспомнишь даже о том, как я тебя люблю, как буду страдать в разлуке. Голос ее срывался, но она старалась говорить спокойно: так будет умнее. Бессмысленно упрекать его, кричать, жаловаться или плакать. Это ни к чему не приведет. На Пауло следовало воздействовать другим способом. Если она хочет удержать при себе возлюбленного, надо убедить его, что уезжать невыгодно, и создать условия, которые заставят его остаться. А Пауло, не любивший смотреть на чужие страдания, в это время задавал себе вопрос, зачем он заговорил с Мариэтой о своих планах: следовало бы сказать об этом уже после свадьбы, когда все будет решено. Он пробормотал: – Не будь наивной. Что помешает поехать в Париж и тебе? Поедем вместе, замечательно развлечемся… Она улыбнулась, уже совершенно овладев собой. – Если ты этого хочешь, мой господин… Да, чудесно оказаться с ним в Париже! Бродить ночью по старинным улицам, по Латинскому кварталу, посещать самые низкопробные кабачки, обмениваться поцелуями на берегу Сены, на глазах у букинистов. Но если она и поедет, как долго сумеет там пробыть? Не больше нескольких месяцев – ведь она была нужна Коста-Вале. А возвращение без Пауло означало бы конец всему – конец этой любви, по которой она так долго тосковала, без которой она теперь не смогла бы жить. Нет, надо помешать отъезду Пауло! И она начала придумывать способы для этого и даже сейчас, за столом, улыбаясь громко чавкающему, дурно воспитанному американцу, сидящему рядом с нею, думала только об этом. Она не может отпустить Пауло, – что с ней тогда будет? Улыбка умирает на ее губах. Мистер Джон Б. Карлтон осушил очередной бокал вина. Почти незаметным жестом Мариэта подозвала лакея. – Это гений!.. – воскликнула Сузана Виейра, когда Эрмес Резенде закончил свою лекцию. – Я ни слова не поняла из того, что он говорил, но – посмотрите – американец сидит с разинутым ртом… Шопел взглянул на советника посольства. Поэт был в этот вечер в исключительно плохом настроении и поэтому злился на всех окружающих, даже на американцев. – Эти янки в своем умственном развитии стоят на уровне двенадцатилетнего ребенка. Все они таковы, эти гринго. Ослы и невежды… Пауло изумился: – Шопел, что это такое? Ты против американцев? А помнишь, какие восторженные статьи ты писал по возвращении из Соединенных Штатов; ты был тогда совсем другим. Поэт защищался: – Я не против кого-либо. Менее всего – против американцев, Паулиньо. В конце концов, мы компаньоны по марганцу в долине Салгадо. Но иногда, когда я задумываюсь о разделе мира… – Что за раздел мира? – улыбаясь, заинтересовалась Сузана. – Ах ты, ветреная головка… – откликнулся Шопел. – Дело в том, что мир после ближайшей войны будет разделен между немцами и американцами. Так вот, иногда мне приходит в голову, что гораздо лучше, если бы мы достались Германии, а не Соединенным Штатам. – Достались? Но, в конце-то концов, Бразилия – ведь независимое государство… – Сузана находила вопросы международной политики чрезвычайно сложными. – В экономическом смысле, Сузанинья, мой хорошенький ослик. – А! Теперь понимаю. Что касается меня, я предпочитаю американцев. Они красавцы. Посмотрите на консула… Шопел пожал плечами и принялся объяснять Пауло, что если Соединенные Штаты и являются действительно могучим колоссом, то этим они обязаны в значительной степени иммигрантам, прибывающим туда со всех концов Европы. – Американцы умеют зарабатывать деньги – они для этого и родились. А на свои деньги они покупают мозг Европы: вывозят оттуда ученых и художников. Он привел в пример Эйнштейна, Томаса Манна, Сальвадора Дали[154]. Пауло с ним не согласился. Разумеется, нельзя равнять культуру янки с французской культурой. Однако кто сможет отказать американцам в оригинальности их современной концепции жизни? На другом конце стола между Эрмесом Резенде и советником американского посольства разгорелся спор по вопросу о неграх[155]. Затем в него вмешались Артур, Венансио Флоривал и Коста-Вале. Эрмес считал, что эта проблема в Бразилии уже разрешена путем смешения с другими народами, а дипломат янки защищал расистские принципы. Бывший сенатор Венансио Флоривал с ним соглашался: – Наше несчастье – мулат. Ленивый и распущенный, он ненавидит работу. Если бы мы следовали примеру Соединенных Штатов, у нас бы теперь было, с одной стороны, чисто белое население с интеллектуальными способностями, нужными для управления страной, и с другой, – хорошие рабочие-негры. Потому что негр рожден для черной работы. Дурное настроение все больше овладевало мулатом Шопелом. Он поспешил вступить в разговор с Пауло, не желая слушать дальше рассуждений на английском языке о расовой проблеме. Разве в начале сегодняшнего вечера он не заметил, с какой брезгливостью пожал ему руку мистер Джон Б. Карлтон, его североамериканский компаньон? Артур постарался примирить противоречивые мнения собеседников: – У каждой страны свои обычаи, своя особая формация. Говоря по правде, и колонизаторские методы португальцев имели свои преимущества. В этом пункте я совершенно согласен с нашим Резенде… Голос Коста-Вале прозвучал холодно и бесстрастно, словно он производил математический расчет: – Все зло идет именно оттуда – от португальской колонизации. Будь вместо них англичане или голландцы, теперь мы были бы такой же могущественной державой, как Соединенные Штаты. Эта тема пришлась по вкусу мистеру Джону Б. Карлтону; он уже не раз развивал ее в своих речах. Тема о мощи и исторической миссии Соединенных Штатов. – Соединенные Штаты являются… – он еще не кончил жевать и потому, когда заговорил, у него изо рта вылетали мелкие крошки, – …страной, избранной богом, для того, чтобы привить цивилизацию и демократию всем народам. При первых же звуках его голоса за столом воцарилось почтительное молчание. Мариэта откинулась на стуле, как бы для того, чтобы лучше слышать, на самом же деле, чтобы уберечь свое лицо от брызжущего слюной мистера Карлтона. Американец, отяжелевший от вина, принялся развивать свои соображения. Соединенным Штатам предстояло обратить в лоно цивилизации другие страны, защитить их от опасности коммунизма, спасти от гибели. Когда он умолк, снова заговорил Артур: – Для стран Латинской Америки счастье, что существуют Соединенные Штаты. Без них наша независимость оказалась бы предоставленной аппетитам европейских держав – Германии, Англии. – Нам не нужно колоний, – заявил мистер Джон Б. Карлтон. – Единственное, чего мы хотим, это вложения наших капиталов в дело развития более отсталых стран. Вот в чем заключается миссия, предопределенная для нас богом. – Благородная мысль! – одобрил Артур. И так как наступило время для десерта и шампанского, он поднял свой бокал в честь гостя. Взяв за исходную точку последнюю фразу миллионера, он развил из нее ряд хвалебных высказываний о «выдающемся коммерческом деятеле, символизирующем собой всю североамериканскую цивилизацию, который, выполняя священную миссию, завещанную богом его великому отечеству, явился содействовать своими капиталами созиданию будущего величия Бразилии». Мистер Джон Б. Карлтон поднялся для ответного тоста. Он пил за узы вечной дружбы, связующие Соединенные Штаты и Бразилию. Он говорил об угрозе войны, нависшей над миром, и о решимости Соединенных Штатов оборонять американский континент. Но для этого необходимы добрая воля и понимание со стороны остальных американских стран. Люди, наиболее ответственные за жизнь Соединенных Штатов, созидатели их славы, готовы со своими капиталами, со своими специалистами и советниками способствовать развитию более отсталых стран. Вот для чего явился он в Бразилию. Он счастлив, что встретил здесь со стороны представителей делового мира и государственных деятелей такое совершенное понимание его миссии – миссии, предопределенной самим богом Соединенным Штатам. Загремели аплодисменты, зазвенел хрусталь бокалов, затем все поднялись из-за стола и направились в гостиную пить кофе. Мариэта под предлогом, что ей нужно сделать кое-какие распоряжения, осталась в столовой и взглядом попросила Пауло остаться. Когда все вышли, Пауло сказал ей: – Ты сегодня печальна. Почему? Она пожала оголенными плечами и ответила усталым голосом: – Надоело улыбаться этому американцу, который заплевал мне все лицо. Неужели вечно придется лицемерить? – Чего же ты хочешь? Чтобы твой муж, мой отец и мистер Карлтон втроем вошли в нотариальную контору и во всеуслышание заявили: «Мы явились сюда для заключения сделки о продаже мистеру Карлтону целого куска Бразилии: долины реки Салгадо. Поспешите с купчей – мы не можем терять времени». Нет, Мариэта, так это не делается. – В скучающем смешке Пауло прозвучало некоторое оживление. – Мы здесь совсем, как в театре марионеток. Все мы вместе сидели за столом, и каждый наш жест, каждое слово были заранее предусмотрены; будто кто-то, хозяин представления, дергал за веревочку. – Хозяин – Жозе… – произнесла Мариэта с известной долей восхищения, которое она временами испытывала к мужу. – Жозе дергает нас за веревочки, но и он тоже не более, как марионетка. По-настоящему всем заправляет мистер Карлтон. Он поправил цветок в петлице смокинга, подал холеную руку Мариэте, приглашая ее в гостиную. – Так пойдем играть спектакль, любовь моя: это забавно и, кроме того, приносит каждому из нас хорошие дивиденды. Игра стоит свеч. В гостиной Эрмес Резенде развивал сложную социологическую систему, основанную на изучении небоскребов и сэндвичей. Отталкиваясь от этих данных, ученый восхвалял североамериканский образ жизни. Прославленный социолог ораторствовал по-английски. 15
Приглашение, сделанное Мариане доктором Сабино, оторвало ее от очень важных задач. Репрессии, явившиеся следствием предательства Эйтора, в особенности арест двух руководителей организации комитета, Зе-Педро и Карлоса, поставили перед каждым членом партии новые задачи, удвоили объем его работы. Из Рио прибыл товарищ, чтобы помочь Жоану реорганизовать руководство и партийный аппарат в Сан-Пауло. В результате многочисленных арестов работа организации заметно ухудшилась; забастовочное движение было фактически разгромлено полицейским террором; сказывалось отсутствие арестованных товарищей. Надо было налаживать почти все сначала, и одним из первых мероприятий, проведенных прибывшим из Рио членом партии, был перевод Марианы на работу вместо руководящего товарища, арестованного во время забастовки. Обязанности связного между членами заново формирующегося секретариата были возложены на другое лицо. Было решено также, что для безопасности организации лучше, чтобы Жоан и Мариана в дальнейшем жили на разных квартирах. За месяцы, истекшие со времени армандистско-интегралистского путча, – месяцы относительной пассивности полиции, – Мариана, устанавливая связи секретариата с ячейками на бастующих фабриках, была слишком на виду: ее хорошо знало в лицо слишком много товарищей. Полиция могла обратить на нее внимание в любую минуту, установить ее местожительство и вместе с нею схватить и Жоана. Жоан сообщил ей о решении руководства, это была тяжелая минута. – Так надо, Мариана. – Я понимаю, – ответила она, и в голосе ее прозвучала глубокая печаль, от которой сжалось сердце Жоана. Он сел рядом с ней на маленьком диване, взял ее руки. – Самое важное – знать, что мы любим друг друга и боремся за одно и то же дело. Я верю, что скоро мы снова окажемся вместе. Вообрази себе: мы – двое влюбленных, которых стремятся разлучить их семьи и которые встречаются лишь изредка, тайком… По лицу его скользнула улыбка. Мариана склонила голову ему на плечо. – Я знаю, что партия права. Я политически еще недостаточно подготовлена, Жоан. Сейчас, когда мне следовало бы гордиться новой задачей, возложенной на меня партией, я вместо этого грущу о том, что не смогу остаться около тебя. Я все еще продолжаю больше думать о себе, чем о работе. Жоан погладил ее по волосам. – Мы мужаем с каждым днем, дорогая. Нас воспитывают события. Мне тоже тяжело подумать о предстоящей разлуке. Однако будет гораздо хуже, если нас разлучит полиция… – Я это хорошо понимаю… Ты прав. Я буду думать о тебе все время и постараюсь быть достойной тебя. – Мы должны быть достойны нашей партии, Мариана. На несколько мгновений в комнате воцарилось молчание – оба отдались своим мыслям. Но вот Мариана улыбнулась: лицо ее было спокойно и только в глазах еще оставался отблеск печали. Жоан тоже улыбнулся. – Ты не можешь себе даже представить, как я тебя люблю… Это была последняя ночь, проведенная вместе в домике, где они поселились после свадьбы. На утро Жоан должен был переехать, и его новый адрес был неизвестен даже Мариане. Уже не в первый раз уходил от нее Жоан – и она не знала куда, но никогда еще она так не мучилась, никогда так не сжималось ее сердце, как теперь. Раньше, даже зная, что он находится далеко от Сан-Пауло, ей всегда представлялась возможность получить о нем какие-нибудь сведения благодаря постоянному контакту с Руйво, Карлосом и Зе-Педро. Но теперь, когда она перестала быть связной секретариата, перешла на оперативную работу в низовых партийных организациях, возможность получать сведения о Жоане исчезла. Теперь она сможет с ним встретиться только случайно. Сколько времени продлится эта разлука? Сколько времени придется ей жить вдали от любимого? Ей казалось, что невозможно жить без Жоана, ничего о нем не зная, даже не надеясь на его возвращение, как это бывало раньше, когда он уезжал. Теперь же совсем другое дело. Раньше он уезжал только на время для выполнения того или иного задания партии. И всякий раз, возвращаясь после своих странствий в качестве связной, она надеялась застать его уже дома или ждала, что вот-вот он появится среди ночи, утомленный, похудевший, с покрасневшими от бессонных ночей глазами. Отныне этого права – надеяться и ждать – она лишалась. Много перемен должно произойти на белом свете, чтобы они смогли вновь соединиться под одной крышей. В утро отъезда Жоана ей пришла на память фраза, очень давно произнесенная Сакилой в доме старого Орестееа: – Мы хотим пробить головой каменную стену. И вдруг, после того как Жоан ушел, она почувствовала себя стоящей перед этой каменной стеной. Она хотела вытеснить из памяти эту зловещую фразу, пыталась думать о других вещах. Ведь эта фраза была сформулирована врагом партии, предателем. Мариана старалась вспомнить, что ей говорил относительно Сакилы Руйво, когда она рассказывала ему о споре, в котором он принимал участие. Однако образ стены из больших черных камней – стены, навсегда отделившей ее от Жоана, – не исчезал. Ей хотелось плакать; то же самое с ней происходило и перед смертью отца, когда она почувствовала, что надежды нет. Но она осушила слезы, вспомнив о своем разговоре с умиравшим отцом в тот далекий день, когда отец подозвал ее и спросил, считает ли она себя коммунисткой? «Не так должен реагировать коммунист…» – подумала она. Перед ней стояли неотложные и трудные задачи: комитет, куда ее направляли, сильно пострадал – и руководство и низовые ячейки – от полицейского террора; необходимо было почти заново налаживать все дело, чтобы опять заработала великая машина революции. Она встала, оделась, хотела пораньше начать свой день. Ей надо было подготовиться к встрече с другими членами комитета – новыми товарищами; надо было просмотреть документы, составить планы. С трудом ей удалось сосредоточиться на работе, освободиться от печальных мыслей. В таком настроении ее застало приглашение доктора Сабино. Доктор просил ее немедленно прийти: он должен был сообщить ей нечто весьма важное. Они встретились в его консультации. Уже очень давно они не видели друг друга. Сабино заперся с ней в своем кабинете. Он казался озабоченным. – Представляете, кто находится здесь, в Сан-Пауло? – Кто? – Алберто… «Руйво в Сан-Оауло! – с ужасом подумала Мариана. – Зачем он приехал? Почему бросил санаторий?» У нее даже нехватило времени задать все эти вопросы: врач опередил ее, сказав осуждающим тоном: – Он бежал из санатория. Это сущее безумие! – Как же ему это удалось? – В течение нескольких дней он убеждал врача выписать его, будто не нуждается больше в лечении. Нелепость! Я в курсе дела, знаю, как протекала его болезнь, и знаю, что он едва-едва начал поправляться. Прервать лечение сейчас – значит погубить второе легкое. По сути дела это – самоубийство. Врач хорошо объяснил ему положение и доказал, что выписка невозможна. Врач обо всем этом мне написал. И что же? Кто является ко мне сюда сегодня утром? Алберто! – Он был здесь? – Хотел вас видеть. Вернется сюда к часу. Для этого я вас и вызвал. Вы должны уговорить его немедленно вернуться в санаторий. – Он не хочет возвращаться? – Когда я ему об этом сказал, он чуть было не растерзал меня. Расспрашивал, не знаю ли я о произведенных арестах… Сказал, что в этот час его место не в санатории. Не стал слушать никаких возражений. Что-то совершенно невозможное! – Врач покачал головой. – Судя по его поведению, я не думаю, что можно будет от него чего-нибудь добиться. Он твердо решил не возвращаться и сказал, что если я еще раз заговорю с ним о санатории, он даже перестанет лечиться у меня здесь. Мариана, задумавшись, молчала. Доктор Сабино продолжал: – Скажу только одно: я и сам не знаю, возмущаться или восхищаться им. Вы все – какие-то безумцы, но в этом безумии есть красота. Лучше всего вам сейчас уйти и вернуться к часу. Он сам назначил это время. Меня не будет, но вы знаете, где взять ключ. Мариана ходила по улицам, дожидаясь назначенного часа. Сложное, смешанное чувство овладело ею: радость вновь встретиться с Руйво, пожать худую, бессильную руку чахоточного, снова увидеть его ласковую улыбку; однако к этому примешивался страх за его поставленное под угрозу здоровье и чувство недовольства собой. Разве еще сегодня утром она не плакала от горя из-за того, что необходимость временно разлучила ее с Жоаном? А вот Руйво бежит из санатория, бросает лечение, которое должно восстановить его здоровье, и возвращается, чтобы опять принять участие в трудной битве. Партии не пришлось его вызывать – он явился сам, едва узнал об арестах, о бреши в кадрах партии. Одно легкое изъедено болезнью, второе – под угрозой, но ему до этого нет никакого дела; он-то, наверное, не думал, что каменную стену не пробить. К часу дня она возвратилась в консультацию доктора Сабино. Открыла помещение и стала ждать. Спустя пять минут явился Руйво. Мариана помнила то воскресенье, когда он уезжал в Кампос-до-Жордан и на прощание махал ей рукой из окна машины. Тогда она подумала, что, может быть, видит его в последний раз, что это – последнее воспоминание, которое ей предстоит сохранить в памяти наряду с образами других безвозвратно ушедших. Это было во время забастовки в Сантосе; первые вести, пришедшие из санатория, оказались неутешительными: у врачей было мало надежды, настолько мало, что товарищи решили отправить в Кампос-до-Жордан и Олгу, чтобы она находилась при муже. Однако некоторое время спустя организм Руйво начал понемногу сопротивляться болезни; хотя и очень медленно, но состояние здоровья его улучшалось. И вот она вновь видит его лицо, расплывшееся в улыбке. Он поправился, однако полнота его была нездоровой, она плохо гармонировала с резкими чертами лица и всем обликом Руйво. Но блестящие глаза, улыбающиеся губы, рыжеватые волосы – все это было от прежнего Руйво. Они обнялись. – Если я выкрашу волосы, ни одна полицейская ищейка меня не узнает… – Зачем ты приехал? Почему бросил лечение? Руйво сел рядом с ней. – Всего лишь четыре дня тому назад я узнал об арестах. Товарищи, очевидно, не хотели сообщать мне об этом, и я узнал почти случайно. Сначала я хотел, чтобы врач отпустил меня сам. Но это очень упрямый человек. Мне пришлось удрать, не поблагодарив и даже не попрощавшись. – Но ведь это безумие!.. – После поспорим об этом. Прежде всего ответь мне: как это случилось? Кто арестован, кроме Карлоса и Зе-Педро. Как идет работа? Мариана рассказала ему об арестах, о пытках, о разгроме забастовочного движения. Руйво закрыл руками лицо, услышав, что произошло с Жозефой и ее мальчиком. – Псы! – После самоубийства врача пытки прекратились. Жозефу с ребенком выпустили, но бедняжка совершенно помешалась. Против остальных готовят судебный процесс. – Как работа? Мариана рассказала ему все, что знала о реорганизации районного аппарата. Руйво одобрительно кивал головой. Когда она закончила, он встал. – Теперь, Мариана, ты должна меня немедленно связать с товарищами. Извести их, что я приехал и хочу возможно скорее с ними встретиться. Начни с Жоана. Мариана опустила голову. – Будь это еще вчера… Но я уже теперь не связная: на меня возложена другая работа. И товарищи решили, что нам с Жоаном опасно жить под одной крышей. Сегодня утром он ушел, я даже не знаю – куда. – Хорошая мера. Необходимая. Я не раз думал об этом в санатории. – Он внимательно посмотрел на Мариану и увидел у нее в глазах печаль. Улыбнулся ей: –Тяжело, не правда ли? – Нежно положил ей руку на плечо. – Но ты – хороший товарищ, ты поймешь. По крайней мере, с вами не получится того, что произошло с Зе-Педро и Жозефой. Мариана содрогнулась. – Я так глупа, что даже не подумала о положительных сторонах этой меры. Я была опечалена, плакала. – Это естественно, ты ведь живой человек. Но одно дело – опечалиться, а другое – впасть в уныние. – Этого не будет… – Работа оживит тебя. Увидишь. Ну, хорошо; так или иначе, но ты должна связать меня с кем-нибудь из надежных товарищей, который сведет меня с руководством. Сделай это сегодня же. – Думаю, что смогу. Она объяснила Руйво, как намеревается это сделать, и он одобрил ее план. – Мы с тобой больше не встретимся – ни к чему. Достаточно, чтобы товарищ от тебя явился в условленное место. А теперь я пойду. Она удержала его движением руки. – Ты не собираешься возвратиться в санаторий? – В санаторий? Или ты считаешь, что в распоряжении партии сейчас – когда столько работы, когда так нужны люди, – в таком изобилии кадры, что мне можно находиться в санатории? – Но врач… – Мариана, это не твое дело. Не будем терять времени на споры. Мне сейчас много лучше, и я не стану отсиживаться в санатории, когда пытаются ликвидировать всю нашу партию. Довольно об этом, – заключил он с необычной для себя резкостью, однако тут же спохватился: – Прости меня, Мариана. Но, знаешь, эта тема о санатории способна вывести меня из терпения. Предоставь мне разрешить этот вопрос с руководством. А тебе не следует грустить о разлуке с Жоаном. Каждый из нас, дорогая, должен чем-нибудь пожертвовать для партии. Иначе наша партия не сможет стать преобразовательницей жизни и покончить со всем этим злом. – Руйво протянул ей руку. – Ну, улыбнись же… Славная работа у нас, дорогая… Не забывай, что ты подруга Жоана, – это возлагает на тебя большую ответственность. А мы с тобой – днем раньше, днем позже, – конечно, встретимся. Она улыбнулась: – По крайней мере, показывайся время от времени врачу. – Обещаю. Руйво ушел, но Мариана еще продолжала ощущать его присутствие в кабинете доктора Сабино. Видела его лицо, слышала ласковый голос, становившийся резким, когда речь заходила о возвращении в санаторий. После этой беседы Мариана стала другой. Тоска по Жоану не прошла, его отсутствие печалило ее по-прежнему, но эти чувства больше не возбуждали в ней ни тревоги, ни отчаяния. Фразу Сакилы она перестала вспоминать. Теперь, после того как она повидалась с товарищем, бросившим санаторий, чтобы вернуться к борьбе, ее снова захватила предстоящая работа, и решение партии об ее разлуке с Жоаном представлялось ей самым правильным. «Ведь, в сущности, – подумала она, – партия защищает нашу свободу, наши жизни, нашу любовь». Доктор Сабино вернулся и спросил ее: – Ну что? Он согласится вернуться в санаторий? Мариана отрицательно покачала головой: – Не думаю. И не думаю, чтобы кто-либо имел право заставить его так поступить. Партия переживает тяжелый период, и не время думать о здоровье, о домашнем очаге, о самих себе. Именно теперь для коммунистов настало время показать, что они коммунисты. Врач беспомощно развел руками. – Но ведь он умрет… – Важно, чтобы жила партия. 16
Товарищ Жоан ударил кулаком по столу, как бы подчеркивая значение своих слов: – Пусть они утверждают, что партия ликвидирована, – это неважно. Истина заключается в том, что до сих пор мы не давали им передышки. Наша деятельность помешала им применить на практике конституцию тридцать седьмого года. Так это или не так? Товарищ, приехавший из Рио-де-Жанейро, утвердительно кивнул головой. Руйво, опершись подбородком на руку, внимательно слушал. Шло обсуждение перспектив работы. Жоан защищал тезис о необходимости реорганизации низовых ячеек, сильно пострадавших от последних арестов, с тем чтобы только после этого предпринять решительные выступления. Политическая полиция после ареста Зе-Педро и Карлоса развернула кипучую деятельность: она следила за рабочими на фабриках, обыскивала дома лиц, подозреваемых в связях с коммунистами. Было захвачено несколько групп «художников» – товарищей, которые писали лозунги на стенах. Один за другим шли процессы, и каждый день трибунал безопасности выносил приговоры с осуждением на длительные сроки. Не только в Сан-Пауло, но и в Рио полиция как будто задалась целью полностью осуществить указание о быстрейшей ликвидации всего коммунистического движения. Она применила к партии тактику окружения, а печать, ссылаясь на исключительно напряженное международное положение, требовала подавления «экстремистов слева», в момент, когда все, казалось, предвещало, что Гитлер – при молчаливом согласии правительств Франции, Англии и Соединенных Штатов – вот-вот устремится на Советский Союз. – Мы должны поставить партию здесь, в Сан-Пауло, снова на ноги. Впереди тяжелые дни. Работа предстоит трудная, и нужно проводить ее осторожно. Нам нужна партия, у которой крепкие корни на предприятиях. Восстановить партийный аппарат, расширить его – такова наша ближайшая задача. Это была первая встреча Руйво, Жоана и товарища из Рио – они втроем временно составляли районный секретариат Сан-Пауло. Вернувшись после двух месяцев насильственного отдыха в санатории, Руйво жаждал действий, и его первыми словами, еще до начала заседания, было предложение найти такую форму деятельности, которая доказала бы, что коммунисты не разгромлены, что полиции не удалось ликвидировать партию. Он страстно отстаивал свою мысль, но Жоан и товарищ из Рио проявили мало энтузиазма. – Прежде всего тебе надо ознакомиться с тем, что произошло в районной организации после арестов, – сказал Жоан. Товарищ из Рио подчеркнул, что один штат Сан-Пауло, несмотря на всю его важность в политической жизни страны, еще не представляет собой всей партии. Полиции как будто удалось принудить к молчанию партийные организации в Рио и Сан-Пауло, но в это же самое время партия проводила забастовки в штатах Пара и Рио-Гранде-до-Сул. И в Баии партия благодаря стараниям Витора проявляла большую активность: в Салвадоре и сейчас выходит легальная газета, через которую слово партии, искусно завуалированное, доходит до широких масс населения. Нет, народ уже воочию убедился, что партия не ликвидирована, что удары полиции не сокрушили ее, что ее сердце продолжает биться по-прежнему, что знамя ее борьбы против фашизма по-прежнему высоко поднято. Для чего же в таком случае предпринимать в Сан-Пауло действия большого масштаба, если здесь для них еще не подготовлена почва? Это явилось бы актом отчаяния и могло отдать в руки полиции весь партийный аппарат. Нет, работа, которая нам сейчас предстоит, иного рода. Она внешне менее эффектна, но отнюдь не менее плодотворна и важна: улучшить всю работу организации в эти трудные дни, поднять работу партии на прежнюю высоту. Так высказался Жоан, и его слова прояснили для Руйво существующее положение, приблизили его к действительности. Когда Жоан предложил план ближайших практических задач по быстрому укреплению партийной организации района Сан-Пауло, Руйво ответил: – Вы оба правы. Сейчас не время для выступлений широкого масштаба. Но я считаю, что одновременно с укреплением партии мы должны как бы вывести ее на улицу, хотя бы путем небольших выступлений. Нужно сочетать эти две формы работы: по организации партии и по агитации среди масс. Дискуссия продолжалась. Эти три человека, такие несхожие между собой, но все трое преданные одному и тому же делу, как бы дополняли друг друга, исправляя, что было неясного или ошибочного во мнениях другого; в своей дискуссии они намечали правильную линию борьбы. Они стояли перед лицом горьких фактов: полиция – недавними арестами, подавлением забастовочного движения, рядом судебных процессов – нанесла тяжелые удары районной организации партии. Целые ячейки на фабриках перестали существовать, многие партийные комитеты оказались разгромлены, боевой дух масс был подорван жестокой реакцией. Одновременно правительство всячески старалось укрепить фашистский режим, навязанный стране переворотом 1937 года; чужеземное империалистическое проникновение все усиливалось; американский и германский капиталы завладевали природными богатствами страны; Варгас старался подкупить деятелей политики и культуры, предоставляя им выгодные должности и посты, а жизнь народных масс становилась все тяжелее и борьба – все ожесточеннее. На всю огромную страну оставалась лишь горстка коммунистов, их травили, со всех сторон им угрожала опасность. И однако развитие событий зависело прежде всего от них, от правильности принимаемых ими решений; от каждой маленькой группки в три-четыре человека, собирающихся в крупных городах Бразилии точно так же, как собрались здесь Руйво, Жоан и товарищ из Рио. Была ночь, и Сан-Пауло спал, отдыхая от дневных трудов. Только они трое не спали: для них не существовало часов отдыха. Руйво продолжал говорить, излагая свой взгляд на реорганизацию партийных ячеек. За обсуждением прошла ночь. И только после того, как он кончил, когда договорились о ближайших задачах и плане работы, только тогда Жоан осведомился у Руйво: – А как твое здоровье? Думаешь, выдержишь? – Я поправился в санатории. Остальной курс лечения пройду здесь. Время от времени буду навещать доктора Сабино. – Тебе лучше знать. Говоря откровенно, оставшись с нами, ты окажешь нам большую помощь… – Сейчас не время болеть, – сказал Руйво. – А еще неуместнее – сидеть в санатории и накапливать жир. Жоан посоветовал: – Ты должен постараться хорошо питаться и нормально спать. Работа предстоит тяжелая. Перед тем как разойтись, Руйво спросил: – А Жозефа? Как она себя чувствует? – Нам удалось поместить ее в больницу. Врач сказал, что, может быть, она и поправится. – Мы должны ее вылечить. Нельзя потерять такого товарища, как она. Как только я подумаю о том, что она перенесла… Разве я мог, узнав об этом, оставаться в санатории? Я опротивел бы самому себе, если бы остался… 17
За время пребывания мистера Джона Б. Карлтона в Бразилии газеты ни на один день не переставали интересоваться его личностью. Каждое утро секретарь представителя Уолл-стрита вручал своему патрону сводку бразильской прессы. Единственно, чего миллионер не мог прочесть, это статью, напечатанную о нем в подпольном издании «Классе операриа», в которой его приезд в Бразилию разоблачался как часть наступления американского империализма на природные богатства страны, причем еще раз говорилось о том, какова действительная роль «Акционерного общества долины реки Салгадо», развертывающего свою деятельность там, где сосредоточено обилие важного в военном отношении сырья. Но вместо этой статьи мистер Карлтон мог познакомиться не только с беспрерывным потоком похвал, расточаемых ему большинством органов бразильской прессы («предприимчивый человек, сразу же завоевавший симпатии высшего бразильского общества; его соглашения с представителями Делового мира Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло открывают новые горизонты для экономического развития Бразилии»), но и с хитроумными атаками некоторых газет, связанных с германским капиталом. Присутствие в Бразилии мистера Карлтона дало повод этим газетам развернуть националистическую кампанию, использовав слова Варгаса, сказанные им в дни государственного переворота, – о создании национальной промышленности с привлечением только бразильских капиталов. Правда, эта кампания была достаточно лояльной по отношению к правительству, она лишь ставила под сомнение правильность политики Рузвельта и его искренность по отношению к государствам Южной Америки. Но эта кампания, будучи очень скромной на страницах печати, теряла свою умеренность в уличных разговорах и суждениях, инспирируемых интегралистами. Переговоры между мистером Карлтоном, Коста-Вале, комендадорой да Toppe и Венансио Флоривалом развивались успешно. «Акционерное общество долины реки Салгадо» уже было оформлено; специалисты, прибывшие с берегов реки, сделали свои доклады; Венансио Флоривал обсуждал планы изгнания кабокло; из Соединенных Штатов приезжали все новые инженеры, и перспектива посещения места работ самим диктатором – несмотря на то, что полиция не советовала это делать, – отнюдь не исчезала. Мистер Карлтон был практичным человеком и хорошо спелся с Коста-Вале. Его участие не ограничивалось делами акционерного общества в узком смысле. В прямом контакте с бразильским деловым миром он расширил поле своей деятельности и сферу вложения своих капиталов. Он вел длинные телефонные переговоры со своими компаньонами в Нью-Йорке, беседовал на самые различные темы в посольстве Соединенных Штатов. Из этих бесед возникла целая серия начинаний, более или менее связанных с долиной реки Салгадо и находящихся в большей или меньшей зависимости от американского посольства, начиная с учреждения крупных контор в Рио и Сан-Пауло и кончая основанием агентства по снабжению газет статьями отечественных и иностранных авторов. Североамериканские профессора получили приглашение в бразильские университеты, а бразильские писатели и деятели культуры приглашались посетить Соединенные Штаты. Сакила заново обрел себя в совместной деятельности с мистером Карлтоном и преуспевал. Журналист вернулся из Уругвая, куда он было эмигрировал, и находился без работы. Хотя полиция его не беспокоила, все же материальное положение Сакилы долго оставалось трудным. Наконец, через Эрмеса Резенде он получил место директора сан-пауловского филиала нового агентства печати «Трансамерика», которое распространяло статьи бразильских авторов, рекламирующих предприятия долины реки Салгадо и нескольких американских компаний. Эрмес Резенде привел Сакилу в контору Коста-Вале в Рио. Это случилось через несколько дней после обеда в честь миллионера Карлтона, данного посольством Соединенных Штатов. На этом обеде атташе по вопросам культуры обсуждал с Эрмесом планы, предложенные магнатом Уолл-стрита. Речь шла главным образом о создании агентства, которое способствовало бы усилению культурных связей между Бразилией и Соединенными Штатами. Атташе был очень озабочен тем влиянием, которое среди бразильской интеллигенции приобрели коммунисты. – С одной стороны, коммунисты, с другой – фашисты. А мы ничего не предпринимаем. Мистер Карлтон правильно оценил проблему. Я тоже считаю, что создание предложенного им агентства послужит лучшим средством для завоевания симпатий многих из тех интеллигентов, кто сейчас находится под влиянием коммунистов. Эрмес Резенде согласился с этим. В последние месяцы по возвращении из Европы он сделался ярым сторонником Рузвельта. В книжных лавках он критиковал коммунистов, которые боролись против американского империализма – «нашего единственного союзника в борьбе против нацизма». По его мнению, единственная возможность покончить с «новым государством» в Бразилии заключалась в дипломатическом вмешательстве со стороны государственного департамента Соединенных Штатов. Это же самое он говорил недавно, обращаясь к Сисеро д'Алмейде: – Если ждать, пока народ свергнет «новое государство», вы успеете состариться под игом фашизма. Существует лишь один выход из положения: Соединенные Штаты. Американцы не потерпят фашистского государства, которое, уже в силу самой своей структуры, симпатизирует немцам. Днем раньше, днем позже, но государственный департамент вмешается. Если вы хотите поступать умно, то должны всеми способами поддерживать политику американцев. Это же самое Резенде сказал Сакиле, когда тот, одетый в поношенный костюм, явился к нему. На этот раз споров не было: Сакила во всем с ним согласился, а о политике, проводимой коммунистами, высказался даже намного резче, чем Эрмес Резенде: – Они дураки. В сущности, этой нашей манией независимой политики мы играем на руку нацистам. Сейчас нам необходимо объединение левой интеллигенции и освобождение ее от влияния коммунистов. Зная, что Шопел ищет кого-нибудь для руководства филиалом «Трансамерика» в Сан-Пауло, Эрмес вспомнил о Сакиле. Шопел ничего не имел против его кандидатуры, но боялся, как бы не воспротивился Коста-Вале, которому было известно о связи журналиста в прошлом с коммунистической партией. Поэтому Эрмес однажды вечером привел Сакилу в контору акционерного общества для беседы с банкиром. Беседа была очень сердечной. Коста-Вале находился в хорошем настроении и шутил по поводу «революционной авантюры Тонико Алвес-Нето». Затем спросил Сакилу, отказался ли он уже от своих «экстравагантных идей». Сакила пустился в пространные рассуждения; которыми хотел показать, что, являясь образцовым революционером, он в то же время не имеет ничего общего с коммунистической партией. Коста-Вале перебил его на середине речи: – Ваши убеждения меня не интересуют. Можете думать, что угодно и как вам угодно. Раз вы не связаны с коммунистической партией, все остальное не имеет значения. Вот каким образом Сакила стал директором сан-пауловского филиала агентства «Трансамерика» с месячным окладом в три конто и с большим кредитом на заказы деятелям культуры статей для распространения в бразильской печати. 18
Маркос де Соуза неожиданно получил приглашение от министра просвещения. Он знал министра уже много лет – это был адвокат из Минас-Жераиса, любящий литературу и некоторое время слывший «левым». Он уже входил в состав кабинета министров до установления «нового государства», и многие думали, что он не удержится на своем посту. Однако он удержался, и теперь его министерство поощряло самые разнообразные артистические начинания: выставки модернистской живописи, концерты атональной какофонической музыки, лекции писателей, приезжающих из Соединенных Штатов и Франции. Маркос де Соуза не знал, чем объяснить это приглашение. Последнее время он держался вдалеке от литературных и артистических кругов, всецело отдавшись своей профессиональной работе. Только Мануэла, которую он посещал каждый раз, бывая в Рио, знала об истинной причине его самоизоляции. Маркое испытывал отвращение ко всем людям, собиравшимся по вечерам в книжных лавках, а по ночам – на интимных пирушках, заканчивавшихся бурными вакханалиями. Хотя он за последнее время и мало общался с активистами партии, но чувствовал себя все более близким коммунистам. Он решал для себя вопрос: вступать ли ему в партию, отдаться ли целиком революционной борьбе? В Сан-Пауло он старался в уличной толпе отыскать исчезнувшую Мариану. Почему она к нему не являлась? Почему пропал даже сборщик ежемесячных взносов, которые он передавал организации? Где же, наконец, партия? Будучи далек от фабрик, от рабочих кварталов, от профессиональных организаций, Маркос в этот трудный период не мог отыскать даже следов партии. И он в тревоге спрашивал себя, что же могло произойти с товарищами. Единственный, о ком у него имелись сведения, был Руйво, находившийся в санатории в Кампос-до-Жордан. Когда эта оторванность стала невыносимой, он решил посетить Руйво в санатории. Его волновало напряженное международное положение; он страдал от каждого нового известия в газетах о ходе уже близившейся к концу войны в Испании, о захвате Манчжурии японцами, о наступлении фашизма чуть не во всем свете. Он разговаривал об этом с Мануэлой, с некоторыми молодыми артистами недавно созданной театральной труппы, державшимися левого направления, но эти беседы не помогли ему уяснить положение. Он решил поехать к Руйво, поделиться с ним своими сомнениями и тревогами. В одно из воскресений он отправился в Кампос-до-Жордан и узнал в санатории об исчезновении больного. Маркос сделал ряд предположений относительно бегства Руйво; этот факт свидетельствовал, что партия была жива и действовала. Для чего прервал Руйво свое лечение, как не для того, чтобы вернуться к работе? Настойчивое желание возобновить свои связи с партией делало Маркоса угрюмым, и Мануэла, при встречах с ним, шутила: – Ты стал похож на дикобраза. Мануэлу беспокоило состояние духа Маркоса. Она и сама не могла объяснить, кем стал для нее архитектор. Их отношения до сих пор носили характер тесной дружбы, становившейся день ото дня крепче и интимнее. Маркос заменил в жизни Мануэлы все, что она внезапно потеряла: Пауло, Лукаса, семью, ее иллюзии и надежды. Именно эта горячая дружба заставила ее опять полюбить жизнь, продолжать свои занятия, вступить в балетную группу муниципального театра, а также участвовать в артистических спектаклях труппы. Они всюду бывали вместе, ходили в рестораны и кино, гуляли на пляже Копакабаны; много беседовали. Маркос давал ей книги, следил за ходом ее занятий. Она с трепетом ждала телефонного звонка, возвещавшего о его приезде из Сан-Пауло для руководства стройками в Рио. Готовясь его встретить, подолгу простаивала перед зеркалом, надевала на себя лучшие наряды. Однако, если бы ее спросили, каковы ее чувства к архитектору, она с уверенностью ответила бы, что это всего лишь простая дружба. Она продолжала считать – и не раз говорила об этом Маркосу в их беседах, – что ее сердце окончательно умерло для любви. Несчастный роман с Пауло Карнейро-Маседо-да-Роша вселил в нее отвращение ко всему, что касалось любви. Кроме того, гордость, столь характерная для робких натур, заставляла Мануэлу сторониться всех, в ком она замечала проявление к себе малейшего интереса как к женщине. Она решила добиться ведущего положения в театре исключительно собственными силами. Теперь она испытывала безграничный стыд при воспоминании о своих выступлениях в варьете, о своем успехе, которым она была обязана шутовской затее Пауло и Шопела. Перед Маркосом она могла раскрыть свое сердце, говорить все, что чувствовала, даже рассказывать о своем прошлом, воспоминания о котором ее до сих пор угнетали. Ее огорчало, что он стал мрачен, страдал от того, как развивались политические события. Когда Маркос сообщил ей о приглашении министра, Мануэла пошутила: – Может быть, он собирается назначить тебя диктатором бразильской архитектуры? Ведь мы живем в эпоху диктаторов… – Не имею ни малейшего представления, чего ему от меня надо… Сначала он хотел уклониться от приглашения. Всякое общение с официальными представителями «нового государства» представлялось ему мало достойным. Однако накануне назначенного дня ему позвонили из кабинета министра, напоминая о предстоящей встрече. Он решил принять приглашение. Министр встретил его более чем любезно: обнял, выразил сожаление, что так долго не виделся с ним – одним из тех, кого министр ценил превыше всех в Бразилии, как славу страны, ее редчайшую подлинную жемчужину. Министр с величайшим интересом следил за мировыми откликами на творчество Маркоса; читал статьи о нем в специальных иностранных журналах; знал о его приглашениях европейскими университетами для чтения лекций по архитектуре. Эта слава, заявил министр, бросала свой отблеск на всю Бразилию, и министерство не могло оставаться равнодушным ко всему тому, что осуществлял Маркос. Чтобы поговорить на эту тему, он и пригласил его. Маркос поблагодарил за проявленный к нему интерес и этим ограничился. Он не понимал, что, собственно, нужно министру, и решил ждать. Тогда министр сказал ему, что он очень хотел бы организовать под эгидой министерства выставку макетов, проектов и чертежей работ Маркоса. Но при попытках осуществить это ему неизменно приходилось наталкиваться на противодействие некоторых элементов («…мне незачем называть имена: вы легко их отгадаете сами») – элементов, обвиняющих Маркоса в том, что он коммунист. Маркос уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но министр остановил его жестом: – Ничего мне не говорите. Я хорошо знаю, что вы не коммунист. Вы человек левых взглядов, это несомненно. Я и сам всегда был человеком скорее левой, чем правой ориентации. Но вы знаете, что для некоторого сорта людей это равносильно коммунизму. У них совершенная путаница относительно политических идей, они боятся даже собственной тени. С другой стороны, люди левой ориентации, – по крайней мере, некоторые из них – до сих пор не дали себе правильного отчета в том, что собой в действительности представляет Новое государство. Я не буду отрицать, что вначале государственный аппарат был засорен фашистскими элементами. Но доктор Жетулио удалил интегралистов, и в его правительстве нет ничего фашистского. Конечно, это не образец классической демократии, я этого не утверждаю. Но кто решится настаивать, что мы нуждаемся именно в такой демократии?.. Служитель внес две чашки кофе. Маркос хотел воспользоваться наступившей паузой и заговорить, но министр не дал ему: – Одну минуту, позвольте мне закончить. Потом вы скажете, что вам угодно. На чем я остановился? – Он наморщил лоб и провел рукой по своей продолговатой лысой голове, как бы припоминая. – Ах, да! Проблема демократии… Я сам демократ, больше чем кто-либо другой… Но мы еще не подготовлены для демократии образца французской, английской, американской – у нас нет еще достаточной культуры для такой формы правления. В Новом государстве президент поощряет все, что связано с культурой, – именно государство воспитает избранных, которые смогут в будущем осуществить демократию в Бразилии. Таково мое глубокое убеждение. Здесь, в моем министерстве, я хочу работать с деятелями культуры, не спрашивая у них, из какого политического лагеря они пришли… – Даже с интегралистами? – «Интегралистское действие» распущено, оно уже больше не существует как партия. Кроме того, будем ли мы с ними сотрудничать или нет, это во многом зависит от вас – от левых. Если я могу рассчитывать на вас, представляющих собой большую культурную ценность, мне незачем обращаться к другим. В области искусства у меня есть много планов и проектов, для осуществления которых я нуждаюсь в вас всех. Я уже обсуждал это с доктором Жетулио. Он никого не собирается преследовать, он очень ясно сказал об этом: «Всякий, кто пожелает принять участие в нашей работе по национальному возрождению, – будет нами с радостью принят». Вот точка зрения президента. Само собой разумеется, что в правительстве есть люди, думающие иначе, желающие сотрудничества исключительно с интегралистскими элементами. Но противостоять этим людям мы сумеем лишь в той степени, в какой сможем рассчитывать на сотрудничество левых. – Он отпил глоток кофе и с любопытством посмотрел на Маркоса. – Итак, мой дорогой Маркос де Соуза! Вы крупный деятель нашей культуры. Я хочу начать с вас. Устроим большую выставку ваших работ, выпустим каталог на иностранных языках для распространения за границей. Это – дело большого масштаба, каких до сих пор у нас еще не бывало. – Вы находите, что это осуществимо? Но ведь вы сами сказали, что есть люди, противящиеся этому, обвиняющие меня в коммунизме. – Да, мне пришлось преодолеть известное сопротивление. У вас далеко не безукоризненная репутация – вы ведь состояли в Национально-освободительном альянсе, не так ли? Но я был тверд. И ясно, что самый факт организации этой выставки правительством очистит ваше имя от подозрений в коммунизме. – Ну, хорошо, а если я в самом деле коммунист? Министр даже подскочил. – Вы хотите сказать – член компартии? Маркос засмеялся. – Я шучу. Впрочем, если верить сообщениям полиции, коммунистическая партия уже окончательно ликвидирована. – Я противник методов полиции, противник насилия, – заверил министр. – Мне рассказывали о том, что происходит в управлении полиции… Трудно поверить… Мне незачем уверять вас, что подобные методы не встречают моего одобрения. Однако должен вам сказать, что в равной степени и политика коммунистов представляется мне совершенно абсурдной. Чего они хотят? Наше правительство запретило фашистскую партию… – Запретило все партии… – В том числе и фашистскую. Наше правительство стремится индустриализировать страну, превратить Бразилию в великую державу. Но мы находимся в условиях чрезвычайно серьезного международного положения: вам, разумеется, известно о давлении со стороны немцев. В правительстве и в общественном мнении образовалось два течения. Я вам говорю об этих вещах потому, что вы умный человек и разбираетесь в них. Одно – прогерманское, второе – проамериканское. Проамериканское течение представляет интересы демократии. И ясно, что долг каждого левого деятеля – поддерживать именно его. А что делают коммунисты? Они нападают и на тех и на других, будто все одинаковы, будто между ними не существует никакой разницы. Они заявляют о себе, что они антифашисты, и в то же время нападают на демократов в правительстве… Ну где это видано? Маркос де Соуза старался разгадать, что кроется за всеми этими речами: что в действительности нужно от него министру? Архитектору было известно о глухой борьбе, развернувшейся внутри правительства между людьми, связанными с американцами, и теми, кто поддерживал немцев. Ему было известно, что Варгас балансировал между теми и другими, поддерживая то одну, то другую группу. Он знал также, что прогерманские элементы обосновались в департаменте печати и пропаганды и в управлении полиции, а проамериканцы – в министерстве просвещения. И он старался разгадать истинные намерения, скрытые за видимостью искренности в речах министра. Соображения, приведенные им, произвели на Маркоса некоторое впечатление. Уже не раз за последнее время, когда он потерял связь с партией, перед ним вставал вопрос: поскольку американцы и немцы борются между собою за власть над бразильским правительством, чтобы диктовать ему свою политическую линию в международных делах и завладеть бразильскими рынками, не правильнее ли тактически поддерживать в этой борьбе американцев против германских фашистов, представлявших собой более серьезную и непосредственную опасность? Он не осмеливался прийти к определенному заключению, боялся ошибиться, будучи недостаточно подготовленным теоретически. Ему необходимо было поговорить с товарищами, представителями партии, изложить им свои сомнения, услышать их слова. Министр вернулся к вопросу о выставке работ Маркоса. Если архитектор согласен, они должны немедленно приступить к ее подготовке. Маркос не ответил ни да ни нет. Сослался на то, что сначала надо посмотреть, какими он располагал для этого материалами. Все его проекты разбросаны, он всегда отличался большой беспорядочностью, ничего не хранил, все терял и теперь сам не знает хорошенько, найдется ли у него достаточно экспонатов, которые дали бы правильное представление о его работах. Пусть сеньор министр даст ему время, и он постарается возможно скорее ответить! Министр пытался настаивать, добиваясь немедленного согласия Маркоса. Однако архитектор, которому такая настойчивость показалась несколько подозрительной, стоял на своем: он посмотрит, найдется ли у него достаточно материала, и даст ответ через несколько дней. Он чувствует себя очень польщенным тем, что министр о нем вспомнил, и так далее и тому подобное… Заинтригованный и смущенный, он вышел из министерства. За словами министра скрывались еще какие-то другие предложения, которые не были высказаны, – дело было не только в выставке; Маркос не знал, только ли к нему обращался министр или же через него ищет контакта, союза с коммунистами. Ему представилось крайне необходимым обсудить все это с товарищами из партии, рассказать какому-нибудь ответственному партийному работнику об этом странном разговоре. Маркос решил на следующий же день возвратиться в Сан-Пауло и во что бы то ни стало разыскать Мариану. Кроме того, он рассчитывал получить некоторые разъяснения от Сисеро, как члена партии. В тот же самый вечер, проходя по авениде Рио-Бранко, Маркос встретил Эрмеса Резенде. После неприятного разговора в книжной лавке, когда вместе с Сисеро Маркос обращался к социологу по поводу пыток, применяемых к арестованным коммунистам, они не виделись. Маркос закончил тот разговор с чувством, что впредь всякие его отношения с Эрмесом порваны. Поэтому он немало удивился, услышав, как тот его окликнул веселым голосом. Социолог шел к нему навстречу с распростертыми объятиями. – Сеньор Маркос, как давно мы не виделись!.. – сказал он и потащил его в кафе на углу улицы. – Поговорим… В последовавшей затем беседе Маркоса изумило обилие идей и планов, которые обуревали Эрмеса Резенде. Он больше не походил на трусливого интеллигента, который всего несколько месяцев назад отказывался от каких-либо действий. Теперь он говорил об опасности фашистского наступления на страну (о наводняющей газеты и журналы пропаганде департамента печати, о постоянном вмешательстве военного министерства, где все высшие должности заняты генералами, связанными с Гитлером) во все области бразильской жизни. – Мы должны что-то предпринять, дорогой Маркос, если не хотим, чтобы наша страна попала в лапы к немцам. – Я всегда держался такого мнения. – Пришла пора нам, всей демократической интеллигенции, объединиться против нацистской клики. – Несомненно. Социолог перегнулся через стол. – Мы уже кое-что предпринимаем… – И заговорил об агентстве по распространению статей, книг, переводов. – Все это задумано в широком масштабе. Маркос возразил: – Но, дорогой Эрмес, для всего этого нужны деньги… – Мы не одиноки. Одни мы, конечно, ничего бы не смогли сделать. Но нам готовы помочь американцы. Перед Бразилией ныне два пути: или с немецкими нацистами, или с американской демократией. А что можем мы противопоставить нацизму, кроме американской демократической культуры? При этих словах воодушевление Маркоса несколько остыло. – Империализм янки – опасный союзник… – Опять вы с этим припевом об империализме. Кто о нем говорит? Одно дело – американский империализм и совершенно другое – «политика доброго соседа»[156], проводимая Рузвельтом. Правительство Рузвельта – правительство антикапиталистическое, это своего рода типичный американский социализм. На кого нам опереться, кроме них? Они – так же, как и мы, – встревожены наступлением нацизма. Объединившись с ними, мы сможем сделать многое. Во всяком случае, сможем помешать Жетулио плыть в фарватере политики Гитлера. Мы должны быть реалистами, не это ли постоянно утверждаете и вы, коммунисты? – Он еще более понизил голос: – Впрочем, и некоторые коммунисты это очень хорошо понимают. Например, Сакила. Он вполне разделяет такое мнение. – Сакила – троцкист… – Если вы действительно хотите бороться с фашизмом, у вас нет другого средства, как поддерживать нас. Вы лично, например, с вашим престижем, могли бы сделать многое. Я не понимаю, на что вы вообще рассчитываете? Неужели вы считаете, что разрешение бразильской проблемы в духе демократии возможно без поддержки американцев? А как иначе, дорогой мой? Этот разговор еще больше сбил Маркоса с толку. Некоторые из аргументов социолога представились ему, как и некоторые доводы министра, неопровержимыми. Действительно, спрашивал он себя, как бороться против «нового государства», против угрозы германского фашизма и одновременно против американцев? Не логично ли объединиться с американцами в борьбе против немцев? Не заключается ли главное в свержении «нового государства», в завоевании ряда политических свобод первостепенного значения – таких, как выборы и парламентский строй? Но с другой стороны, его пугало единодушие и даже союз таких различных между собою элементов, как Эрмес, Сакила и министр просвещения. Он с давних пор привык считать американский империализм страшным врагом, с которым надо было бороться; вспоминал великую кампанию 1935 года, Национально-освободительный альянс, когда борьба велась одновременно и против фашизма и против империализма. Необходимо было обсудить все это с партией, привести в ясность свои мысли, понять все эти сложные переплетения. Возвращаясь домой, он купил вечерние газеты. В одной из них, чьи связи с полицией и немцами были хорошо известны, он прочел нападки на министерство просвещения, названное «гнездом коммунистов». Эти нападки, конечно, были напечатаны не без санкции департамента печати и пропаганды. Борьба внутри правительства обострялась – не было ли, в самом деле, своевременным поддержать так называемые демократические элементы? В той же газете он встретил другое известие, заинтересовавшее его по совершенно иным мотивам. Это было сообщение о прибытии в Рио «молодого и предприимчивого промышленника Лукаса Пуччини, одного из самых блестящих представителей отечественного капитализма». Он покажет это сообщение Мануэле: ей будет приятно узнать, что ее брат находится в Рио. Но тут же он задался вопросом, почему эта газета расточает по адресу Лукаса такие похвалы. В Сан-Пауло ему приходилось слышать разговоры по поводу деловых операций Лукаса; в кругу богатых людей, знакомых Маркосу, на Лукаса смотрели с некоторым недоверием. Находились даже люди, которые предсказывали близкий и полный крах молодого негоцианта, пустившегося в крупную спекуляцию с хлопком и не находившего покупателя для него. Упоминали также, что многие лица из правительственных кругов принимали участие в этом деле с крайне сомнительными шансами на успех. Он ужинал с Мануэлой после театра. Труппа, организованная молодыми артистами с трудом, почти без денег, начала свои представления антифашистской по содержанию пьесой бразильского автора (эта тенденция пьесы была скрытой, ее приходилось угадывать). Трудный период переживала труппа: без государственной субсидии, платя непомерно высокую цену за аренду театрального помещения, она, казалось, долго не продержится. Молодежь, вначале охваченная энтузиазмом, начинала впадать в уныние. В этот вечер в театре было мало публики. Маркос сел в задних рядах. Он не переставал восхищаться красотой Мануэлы, которой огни рампы придавали еще более прекрасный, какой-то неземной вид, выделяя ее пышные распущенные волосы, ее лицо голубого фарфора. Маркосу казалось, что он мог бы вечно смотреть на нее и любоваться. Он не любил анализировать своих чувств к Мануэле. Много раз у него уже возникал вопрос: «А не влюблен ли я?» Но Маркос старался оставлять его без ответа. Что в том, любит ли он Мануэлу? Она его не любит – в этом архитектор был уверен. Разве не говорила она, что навсегда умерла для любви? Мануэла была хорошим другом, с восприимчивым сердцем, чуткая, отзывчивая, восторженная. Она хотела учиться, стремилась достичь совершенства в своем искусстве. Он не имел права нарушать ее покой даже разговорами о подобных чувствах. Ведь он уже не юноша: между ним и Мануэлой большая разница в летах. Маркос привык считать себя закоренелым холостяком. Ее дружба была для него величайшей радостью. Он охотно ходил вместе с ней в рестораны, в кино; беседовал, давал ей книги, помогал в ее развитии. Однако когда из глубины зрительного зала Маркос смотрел, как она скользит по сцене, любовался ее стройной фигурой, слышал ее музыкальный голос, видел ее глубокие мечтательные глаза, – он чувствовал, как сильнее бьется его сердце. Он не стремился отогнать от себя волнующих мыслей и чувствовал, как кровь кипит в жилах; взгляд его заволакивала нежность. Он знал, что злые языки уже поговаривают о близких отношениях между ними. Когда он однажды сказал об этом Мануэле, она только рассмеялась: «Пусть говорят, что хотят: наша совесть чиста». Когда до него дошли об этом слухи, он хотел было расстаться с Мануэлой, чтобы не давать повода порочить репутацию молодой женщины. Раз или два, приезжая в Рио, он к ней не заходил, и тогда Мануэла сама разыскала его и спросила о причинах исчезновения. Маркос откровенно ей сказал. Вот тогда-то она и рассмеялась. Но тут же смех ее замер; она возмутилась: – Неужели я должна лишиться своего единственного друга? Пойми, ты для меня, как брат, я уже ничего не могу делать, не посоветовавшись с тобой, не рассказав тебе, без твоей помощи! Маркосу хотелось ей сказать, что в основе всех этих слухов – правда: он ее любит. Он уже не мог дольше скрывать от себя эту истину. Но Мануэла назвала его братом, и он ничего не сказал; ограничился тем, что тоже рассмеялся: – Ты права. Пусть говорят, что хотят… И они возобновили свои прогулки, беседы, посещения ресторанов. Сегодня, видя ее на сцене, он почти позабыл о напряженном дне, о приеме у министра, о разговоре с Эрмесом Резенде. Образ Мануэлы заполнил его целиком. Он пошел к ней за кулисы. Здесь ему пришлось выслушать сетования молодого руководителя труппы. Он не знал, сколько они еще смогут протянуть. Жаловался на равнодушие публики, на отсутствие поддержки, на всякого рода трудности. Подошла Мануэла, пожала руку Маркосу, услышала последние слова режиссера: – Если бы мы поставили какое-нибудь непристойное ревю, все пошло бы хорошо. Но так как мы хотим ставить серьезные вещи, то нам скоро придется закрыть театр. Мануэла подняла глаза на архитектора. – Мне, право, хочется плакать… Мы так мечтали о своем театре!.. Отправляясь в ресторан ужинать, они прошли мимо здания муниципального театра, на стенах которого крупные плакаты возвещали о ближайшей премьере труппы «Ангелов», сформированной Бертиньо Соаресом: «Ангелы» ставят пьесу – «шедевр» американской драматургии. Мануэла, указывая на фасад огромного театра, с грустью заметила: – У этих есть все: помещение муниципального театра предоставлено им даром, они получают четыреста конто субсидии от министерства просвещения, их поддерживают миллионеры. Они играют для развлечения гран-финос… В то время как мы прозябаем, вымаливаем у газет, чтобы о нас поместили хоть короткое извещение, потому что нам даже нечем платить за рекламу… Маркос вспомнил заметку в газете о приезде Лукаса. – Приехал из Сан-Пауло твой брат, я прочел об этом в газете. Может быть, он мог бы вам помочь? Говорят, он много заработал… – Лукас? Может быть… За последнее время мы с ним не виделись; правда, в этом виновата я сама. У нас вышел неприятный разговор, когда я ему сказала, что решила бросить варьете; с тех пор мы мало видимся. Но он не плохой и меня любит. Только жажда наживы превращает его в какую-то машину… Во всяком случае, это идея. Я подумаю… Если в этот свой приезд он ко мне зайдет, я, может быть, поговорю с ним… За ужином Маркос был молчалив, погружен в свои мысли. Мануэла его спросила: – Что с тобой? Ты нездоров? – Ты помнишь Мариану? – Мариану? Конечно, помню. А что? – Я давно ее не видел. Не знаю, что с ней. А мне очень хотелось бы с ней повидаться: есть ряд непонятных мне вопросов… – Каких вопросов? – Политических. Все плохо, Мануэла, не только дела вашей труппы. Все плохо в этой стране и во всем свете… – Ты пал духом… Но ведь ты сам неоднократно говорил мне, что ничто не может помешать наступлению завтрашнего дня… – Мне трудно. Я словно заблудился в туннеле и не вижу проблеска света, указывающего выход. Не знаю, куда идти. Если бы мне встретить Мариану… Поговорить с ней или с Жоаном… – В туннеле… Как-то и у меня было такое чувство. И тем не менее, все будет хорошо. Она бросила нежный взгляд на архитектора. Протянула через стол тонкую руку и положила ее на руку Маркоса. Улыбнулась ему. – Все будет хорошо. В этом я убеждена. Познакомившись с Марианой, я поверила в жизнь. Сама не знаю, почему это так. Маркос ответил улыбкой, ободренный. – Я знаю почему. Когда ты встретила Мариану, ты думала, что встретила обыкновенного человека. А это было не так. – Да, она исключительный человек. – И это неверно. Когда ты встретила Мариану, ты встретила не одного человека, не только ее одну. Ты встретила партию, Мануэла. И партия несет тот светоч, который указывает нам выход из туннеля. И когда теряешь этот светоч из виду, становится чорт знает как плохо… 19
Несколько дней спустя, когда Маркос уже почти утратил всякую надежду восстановить контакт с партией (Сисеро д'Алмейды не было в городе, Мариана исчезла окончательно), к нему в контору в Сан-Пауло пришел молодой человек, бывший рабочий, у которого машиной оторвало руку. Он пожелал поговорить с Маркосом наедине. Оказалось, что он пришел за взносом в партийную кассу. Доверительные документы у него были в полном порядке, и Маркос, с радостью вручив ему деньги, сказал: – Мне необходимо переговорить с кем-нибудь из ответственных товарищей – с Жоаном или Руйво – по очень важному вопросу. Можно это устроить? – Не знаю. Но постараюсь передать вашу просьбу. Прошло еще несколько дней, и Маркос получил из Рио телефонограмму от начальника кабинета министра просвещения относительно проектируемой выставки. Одновременно он получил подписанное Сакилой письмо с просьбой написать серию статей об архитектуре для агентства «Трансамерика». Маркос удивился высокой оплате, предложенной за каждую статью. Теперь он жил в постоянном ожидании; даже помощники его не узнавали: он перестал быть прежним Маркосом – спокойным и добродушным. Наконец в одно дождливое утро молодой рабочий явился снова и просил его в этот вечер не уходить из дому и не принимать гостей: к нему зайдут. Еще не пробило и шести, как Маркос вышел из конторы и отправился домой. Ему, однако, пришлось долго ждать: Жоан явился только в десять часов вечера. Он был в габардиновом плаще и в широкополой шляпе. Маркосу он показался настолько постаревшим, будто не несколько месяцев, а лет прошло с тех пор, как они в последний раз виделись. Вероятно, ему приходилось много работать. Маркос пригласил его в кабинет. Жоан сказал: – Я еще сегодня не обедал. А сказать по правде, и не завтракал. У меня выдался очень трудный день. Если у вас найдется, что пожевать, я с удовольствием поем. Маркос поспешил на кухню и возвратился оттуда, неся две тарелки: на одной было жаркое, на другой – фрукты. Жоан потер руки. – Вот это как раз по мне… – А Мариана? Как она поживает? – спросил Маркос, пока Жоан обедал. – Мариана? – Жоан перестал есть. – Думаю, хорошо. Я ее давно не видел. – Что? – изумился Маркос. – Между вами что-нибудь произошло? Это невероятно… – Совсем не то! – рассмеялся Жоан. – Простая мера предосторожности: мы не должны жить вместе. Приходится остерегаться полиции: она совсем озверела. Тяжело это для Марианы, и для меня тоже. Но что поделаешь? – Бедняжка Мариана… – произнес Маркос. – Представляю себе, как она должна страдать. Жоан съел мясо и принялся за принесенные архитектором мандарины. – Хорошо, если бы вы с ней повидались, дорогой Маркос. Она вас очень уважает, и разговор с вами доставил бы ей удовольствие. – Это зависит не от меня… Последнее время я тщетно старался с ней встретиться. – Она теперь на другой работе. Но я устрою вам встречу. Говоря по правде, мне и самому хотелось бы с ней повидаться. Ведь за время супружеской жизни нам не пришлось прожить вместе и двух месяцев подряд… Впрочем, не в этом дело. Перейдем к нашей беседе. Вы хотели о чем-то со мной поговорить. Я к вашим услугам. – Но прежде чем Маркос успел заговорить, Жоан добавил: – У нас с вами тоже есть разговор. Днем раньше, днем позже мы бы к вам явились. Однако сначала послушаю вас. Маркос рассказал о своем разговоре с министром, о его предложениях и планах, о борьбе внутри правительства между проамериканской и прогерманской группами; о критике позиции, занятой коммунистической партией; о завуалированных намеках на возможность совместной деятельности, направленной против нацистской экспансии. Жоан слушал его, постукивая пальцами по столу. Время от времени на губах у него появлялась мимолетная улыбка, особенно, когда он слышал взволнованность в голосе архитектора, комментировавшего некоторые высказывания министра и доводы Эрмеса Резенде в пользу групп, связанных с американцами. Рассказывая обо всем, Маркос поделился своими сомнениями, повторив доводы, которые казались ему убедительными. Протянув руки ладонями кверху над столом, он заключил: – В конце концов, если американцы помогут нам покончить с «новым государством» и с нацистским влиянием, разве не стоит их поддержать? Возьмем, к примеру, среду интеллигенции: в ней существует небольшая фашистская группа, но эти люди не имеют серьезного значения в мире культуры. Есть среди интеллигенции и наши люди; в подавляющем своем большинстве это антифашисты и демократы, но они слабы в области теории. Они с надеждой взирают на янки и ждут, пока американцам надоест Жетулио и его «новое государство» и они захотят устроить здесь все по-своему. Вот каково истинное положение. – И оно вам кажется нормальным? Считаете, что хорошо – ждать от американцев в виде подачки создания у нас в стране какого-то подобия демократического режима? Что такое Бразилия, в конце концов: независимое государство или колония Соединенных Штатов? Кто – мы или американцы должны решать наши проблемы? Как вы считаете? – И Жоан насмешливо взглянул на Маркоса. – Все это так, – ответил Маркос, – ясно, что не они, а мы. Но необходимо считаться с реальной обстановкой. При помощи каких сил мы можем свергнуть «новое государство», помешать ему присоединиться к «антикоминтерновскому пакту» и не дать уничтожить в стране всякое демократическое движение? Где эти силы? Армия с тридцать пятого года находится в руках фашистских генералов; профсоюзы – в сфере влияния министерства труда; прессу контролирует департамент печати и пропаганды. Полиция больно ударяет по партии всякий раз, когда та поднимает голову. И в довершение всего – эти ужасные вести о международном положении: мы проигрываем повсюду – в Испании, в Китае, в Чехословакии. Как в таких условиях бороться? Маркос опять увидел на губах у Жоана прежнюю улыбку, и голос его прозвучал почти умоляюще: – Вы смеетесь… Но говорю вам, Жоан, у меня тяжело на сердце, очень тяжело. Улыбка исчезла с губ Жоана, и глаза его, когда он взглянул в лицо архитектора, были полны сердечности. – Я знаю, Маркос. Мы знаем, что вы честный, настоящий человек. Не думайте, что мы вас не ценим или забыли вас. – За это время, что я утратил с вами связь, я совсем растерялся; меня все время одолевают сомнения: правильно ли я рассуждаю? – Очень ценно, Маркос, что вы верите в партию, в рабочий класс. Вы хотите знать, как бороться в условиях, которые вы только что описали. К сожалению, ваша характеристика соответствует действительности. Что ж я вам на это отвечу? Вы уже сами перечислили все, что против нас. Теперь я вас спрошу: а народ? Народ – за «новое государство» или против него? Народ – за фашизм или против фашизма? Рабочие – за право бастовать или за конституцию тридцать седьмого года, приравнивающую забастовку к преступлению? – Народ… что может сделать народ? Даже многие из рабочих поддались на демагогию Жетулио с его «трудовым» законодательством. Только незначительная часть – сознательные рабочие – занимают правильную позицию. Но их так мало на всю страну… – Если бы вы читали классиков марксизма, читали Ленина и Сталина, то знали бы, что эти революционные силы, на первый взгляд незначительные, на самом деле важнее тех сил, которые одряхлели и осуждены на гибель, хотя последние, казалось бы, численно их превосходят. В действительности уже сегодня наши силы потенциально превосходят силы «нового государства». Нас пока немного, но с каждым днем становится все больше, в то время как они – вы сами сейчас об этом говорили – запутались во внутренних противоречиях, борются между собой за власть и разлагаются с каждым днем. Мобилизовав широкие массы, мы свергнем «новое государство» и восстановим демократию, но не с помощью американцев. Да и кто сказал, будто Уолл-стрит хочет покончить с «новым государством»? Уолл-стрит только хочет, чтобы «новое государство» служило ему. Американцы и немцы враждуют не из-за демократии: и те и другие добиваются одного – овладеть Бразилией. И для одних и тех же целей: чтобы эксплуатировать наши природные богатства, поработить наш народ. Позиция у нас может быть только одна: против немцев и против американцев, за независимость нашей родины. Он остановился, чтобы передохнуть. Говорил очень взволнованно – мысль об угрозе империализма независимости родины всегда приводила его в сильное возбуждение. Он любил все бразильское – каждое дерево и каждую тропу, каждую птицу и каждую песню. Маркос провел рукой по седеющим волосам и сказал: – Вы говорите, что наши силы превосходят силы вражеского лагеря. Допустим, – вам это лучше знать; я признаюсь в своем политическом невежестве и даже собираюсь засесть за теорию… – Нужно это сделать возможно скорее… – Разумеется… Но сейчас позвольте мне аргументировать тем, что я вижу своими глазами – действительностью каждого дня. Что делают эти растущие силы? Ничего, абсолютно ничего. Даже в отношении партии создается впечатление, что в результате последних арестов она перестала существовать. И это уже длится несколько месяцев. Ниоткуда ни единого признака жизни… – Чтобы разглядеть, где партия, Маркос, надо смотреть снизу вверх, а не сверху вниз, как это делаете вы. Конечно, вы не увидите партию среди миллионеров и гран-финос, с которыми вам приходится ежедневно общаться, вы ничего не узнаете о ней из прессы, упоминающей о партии только, когда идет речь о требовании арестов или об уже произведенных арестах. Но если вглядитесь по-настоящему, вы увидите ее в забастовках в Пара и Рио-Гранде-до-Сул, в забастовке шахтеров Сан-Жеронимо. Увидите ее в студенческом движении в Баии. И увидите еще многое. Но так как вы не замечаете большой активности партии в Сан-Пауло, то приходите к заключению, что партия законсервировалась. Дорогой мой, это не так. Мы очень много работаем сейчас. Но не всегда наша работа должна быть заметной со стороны. Мы на фабриках, мы всюду, где собираются рабочие. Если вы туда направитесь, то воочию убедитесь, насколько интенсивна и продуктивна наша работа. Полиция нанесла нам удар, не так ли? Ну так вот, мы уже заделали бреши и снова приводим в движение наш механизм. Пройдет еще совсем немного времени, и вы даже на улицах увидите результаты нашей деятельности. Надо уметь выждать подходящий момент. Этому выучитесь и вы, если будете изучать классиков… – улыбнулся Жоан. – Не сомневаюсь. Я верю в партию. Я знаю, что партия действует и тогда, когда ее работа не видна со стороны. Если я этого не замечаю, то виноваты только мои глаза, которые не умеют видеть. Но как бы там ни было, мой вопрос остается в силе: а как же с интеллигенцией? – Мы думаем и о ней. И серьезно думаем. С одной стороны – Жетулио, с другой – американцы; и у него и у них одни и те же цели: они стараются привлечь интеллигенцию на свою сторону. В такой полуколониальной стране, как Бразилия, интеллигенция является революционной силой, которой никто не имеет права пренебрегать. Дело в том, что эта интеллигенция – мелкобуржуазна и считает, что руководящая роль в революции принадлежит ей; она игнорирует рабочий класс, не понимает, что ведущая роль всегда должна быть за ним, поэтому начинает делать глупости, а их использует враг. Чего хочет Жетулио с его министерством просвещения, покровительствующим выставкам и салонам; с его департаментом печати и пропаганды, который покупает писателей, устраивая их на высокооплачиваемые посты? А чего хотят американцы с их агентствами по снабжению прессы статьями и материалами, с их издательскими планами, с их бешеными гонорарами? Очень просто: они хотят купить интеллигенцию. Купить, мой друг Маркос, и ничего больше. Сначала заставить ее молчать, потом – заставить говорить, как им надо. Совершенно ясно, что вы должны отказаться от устройства своей выставки. – Многие еще плохо во всем этом разбираются. Здесь необходима большая осмотрительность. – Среди интеллигенции есть разные люди. Есть такие, что охотно себя продают, вроде Эрмеса Резенде; есть старые предатели, вроде Сакилы, и есть, наконец, люди честные, думающие, что они правильно поступают, действуют хорошо, становясь на путь сотрудничества с теми, действия которых считают демократическими, направленными против «нового государства». Посмотрите на них: на Сакилу, Эрмеса Резенде, на поэта Шопела. К ним не замедлит присоединиться и Эйтор Магальяэнс – полицейский агент, выдавший Карлоса и Зе-Педро. Очень тонкий метод: «Ваши убеждения могут быть какими угодно, но сотрудничайте только с нами, и все пойдет хорошо». Однако, что это значит – устроить выставку своих работ под вывеской министерства просвещения? Разве это министерство – не министерство «нового государства», а стало быть, разве оно не фашистское? Что значит писать статьи для «Трансамерики»? Кто их оплачивает? Разве не мистер Карлтон – представитель Уолл-стрита и подлинный хозяин «Акционерного общества долины реки Салгадо»? Все это очень легко понять, Маркос. – Вы правы. Но как мы сможем помешать тому, чтобы по-прежнему вводили в заблуждение честную интеллигенцию? На моем примере вы можете убедиться, насколько велика опасность. До нашего разговора я почти был уверен в целесообразности сотрудничества с ними. – Мы уже думали над этим вопросом, и когда я сказал, что мы сами собирались говорить с вами, то как раз имел в виду беседу на эту тему. Мы подумываем об издании журнала по вопросам культуры с демократической платформой, который объединил бы вокруг себя всю честную, антифашистскую интеллигенцию, в том числе и те ее элементы, что сейчас еще очень далеки от нас. Журнал должен правильно ориентировать интеллигенцию и удержать этих людей от того, чтобы вступать в сношения с врагом и продавать себя, не понимая, что они делают. Жоан в общих чертах набросал план журнала, наметил разделы, определил его общее направление, обсудил, кого можно привлечь к сотрудничеству. Маркос время от времени вставлял свои предложения. – Мы считаем, что вы, Маркос, были бы превосходным редактором такого журнала. – Я? Не думаю. Вы сами сегодня видели, что я способен ошибаться решительно во всем. Гораздо лучше подошел бы Сисеро д'Алмейда. У него совсем другая голова. Но, разумеется, я к вашим услугам во всем, включая и финансовую поддержку. – По нашему мнению, вы больше подходите. Сисеро, помимо других причин, не годится еще и потому, что он известен как коммунист. Его несколько раз арестовывали, и если он будет фигурировать в качестве редактора, это сразу же погубит журнал. А возможные ошибки вы научитесь избегать в процессе самой работы. Так все мы учимся. Никто не родится всезнающим. И, кроме всего, партия будет поддерживать с вами контакт, будет помогать вам при составлении каждого номера, мы будем сотрудничать в написании редакционных статей. Надо извлечь пользу из борьбы немцев с американцами; мы открыто поставим кое-какие вопросы, которые заставят людей задуматься. У нас будет свой легальный голос. Понимаете, как это важно? Маркоса стала увлекать эта идея. Он взял карандаш и бумагу и принялся набрасывать эскизы для обложки журнала. – Как его назовем? – Это решите сами. Нужно название простое и в то же время – наводящее на мысли. Но прежде всего надо создать основную группу сотрудников, чтобы обеспечить журнал хорошим литературным и критическим материалом. Проблем, подлежащих освещению, множество. Враг ведет наступление на всех фронтах. Этот журнал должен стать боевым органом – нашим и близкой нам интеллигенции. Жоан немного помолчал, затем спросил: – Вы читаете литературные приложения к газетам? – Да, почти всегда. – Я тоже… Всегда, когда выпадает свободная минута… Скажите, ничего не привлекало вашего внимания в этих приложениях за последнее время? – Как будто ничего. – А мне особенно бросается в глаза, дорогой Маркос, что сейчас, больше чем когда-либо раньше, литературные критики всячески превозносят форму, провозглашают ее главным элементом и прозы и поэзии. Другими словами, содержание они считают чем-то второстепенным. Что это значит? Это означает попытку ликвидировать реалистическую литературу, которая возникла за последние годы и, несмотря на все свои недостатки, сыграла большую, полезную роль. И заметьте, что такого рода статьи подписаны лицами, принадлежащими к самым различным политическим направлениям: от интегралистов – до людей, называющих себя «левыми»… Теми «левыми», которые теперь занимают тепленькие места в министерстве просвещения или в департаменте печати и пропаганды. Так вот одна из стоящих перед нами задач: разоблачить порочность этих теорий, помешать тому, чтобы литература была превращена в нечто аморфное, в набор пустых фраз… Маркос отбросил карандаш. – Дорогой Жоан, поразительно, как вы разбираетесь в проблемах литературы! Когда-то Руйво прочел мне целую лекцию о живописи и архитектуре. А я-то думал, что вы, коммунисты, разбираетесь только в вопросах заработной платы и забастовок, занимаетесь лишь составлением листовок и писанием лозунгов на стенах! А выходит, что вы можете вести дискуссии и по литературным вопросам, обсуждать проблему формы и содержания… – Мы должны во всем этом разбираться, если хотим руководить рабочими… Видите ли, Маркос, в глубине души вы, интеллигенты, все еще сомневаетесь в способности рабочего класса играть руководящую роль в жизни общества. Еще на днях я спорил на эту тему с Сисеро. Он очень хороший товарищ – преданный, честный; и, тем не менее, голова его полна странных, чуждых пролетариату идей. Вот такие идеи и приводят вас к ошибочным выводам: потому-то вы и думаете, что для свержения «нового государства» следует примкнуть к американцам. – И, продолжая эту мысль, он спросил: – Вам никогда не казалось странным, что Сисеро – член партии, со стажем, надежный товарищ – все-таки не входит в состав районного руководства, а остается рядовым членом партии? – Признаюсь, да. – Вам это могло показаться выражением нашего сектантства, не правда ли? Так знайте, в этом нет никакого сектантства: вы, искренно преданные революции интеллигенты, представляете собой для нашей партии большую силу, но в то же время и большую опасность. Вы привносите с собой в партию идеи, которые являются порождением мелкобуржуазной идеологии. Наша задача – перевоспитать вас, превратить вас в интеллигентов, действительно стоящих на службе пролетариата, потому что, только служа пролетариату, можно по-настоящему служить делу революции. Вспомните, сколько зла принес партии Сакила. Ясно, что он негодяй и не стоит о нем говорить. Однако даже и честный интеллигент, занимающий руководящий пост в партии, если он подпадет под чуждое влияние, может нанести вред партии. Особенно в тот сложный и трудный период, который мы сейчас переживаем. Вот почему Сисеро до сих пор еще не является одним из руководителей партийной организации: он еще не интеллигент новой формации, но он им станет, если будет продолжать овладевать теорией и одновременно проводить работу в массах. Так обстоит дело с вами, интеллигентами. Я много об этом думал и считаю, что партия должна уделять вам очень большое внимание. Нам нужно создать группу интеллигенции, которая была бы идеологически подготовлена. Вот почему мы и решили основать журнал. – Значит, мне надо читать классиков?.. Заставлю себя серьезно заниматься. Вся беда в моей неорганизованной жизни, в этих вечных разъездах между Рио и Сан-Пауло и в том, что голова у меня полна строительных проектов и расчетов… Жизнь не устроена… – Вам следует жениться… – засмеялся Жоан. – Нет невесты – как же я могу жениться? – А эта девушка-танцовщица? Что с ней? – Мануэла? – Она самая. Брат ее теперь связался с немцами. Они купили у него урожай хлопка. – С немцами? Теперь я понимаю похвалы по его адресу в прогерманской газете… – А как все-таки с девушкой? Мариана была уверена, что все закончится свадьбой… – Ничего подобного. Мы с Мануэлой – добрые друзья, но не больше. По крайней мере, с ее стороны нет ничего, кроме дружбы… – За это никогда нельзя ручаться. – В данном случае можно… – Тогда найдите себе другую. Женитесь, вам пора устроить свою личную жизнь. – Поскольку речь зашла о Мануэле, – сказал Маркос, – я хотел бы посоветоваться с вами по одному вопросу. Дело идет о новой театральной труппе, в которой участвует и она. Люди там более или менее наши, сочувствующие… – И чего они хотят? Маркос рассказал о затруднениях труппы, стоящей перед угрозой прекращения спектаклей. Погибает хорошее начинание, возникшее в результате творческой инициативы; группа энтузиастов пала духом. Нельзя смотреть на это сложа руки и не попытаться помочь. Что можно предпринять? – Мне приходилось слышать об этой труппе. Но я уже давно не был в Рио и не видел ни одного их спектакля. Один из, наших товарищей был в этом театре; ему как будто не особенно понравилась пьеса. Говорит, это что-то очень уж запутанное, чего никто не поймет. Как же вы хотите, чтобы этим заинтересовалась широкая публика? – Пьеса современная. Правда, чтобы обойти цензуру, автору пришлось изобразить все в несколько туманных символах. Но что поделать: при существующей цензуре говорить обо всем своими словами невозможно… – Конечно, это нелегко. Но почему бы им тогда не ставить пьес великих классиков драматургии? У них всегда есть чему поучиться, и к ним цензуре придраться труднее… – А ведь это идея!.. – Что же касается публики… Этих гран-финос из Копакабаны хороший театр не заинтересует. Почему бы труппе не выезжать в рабочие предместья, не давать спектакли в помещениях кино? Я ручаюсь, что там они найдут зрителей… – Да, это мысль… Я поговорю с Мануэлой. – А почему бы вам не воспользоваться этим случаем и заодно не спросить у нее, ценит ли она вас только как друга или… – Как брата; она мне уже об этом говорила… – Впрочем, вам лучше всего поговорить на эту тему с Марианой. Я устрою встречу. И когда вы ее увидите, передайте, что я чувствую себя хорошо и даже за последнее время потолстел. Она, наверно, обо мне очень беспокоится, бедняжка… Жоан надел свою шляпу с огромными полями, натянул плащ. – Похлопочите насчет журнала. В ближайшие дни мы снова встретимся и узнаем, как идет работа. Поймите, необходимо помешать «новому государству» купить интеллигенцию… Прощайте, мой друг. – И движением, совершенно неожиданным для архитектора, протянувшего на прощание руку, Жоан привлек его к себе, горячо и крепко обнял. 20
– Будьте покойны, шеф. Я привезу этого человека с собой… – сказал сыщик Америко Миранда, прощаясь с Барросом. Инспектор охраны политического и социального порядка полиции Сан-Пауло, поручая Миранде это дело, напомнил о возлагаемой на него ответственности. – Уже несколько лет полиция всех штатов старается поймать Жозе Гонсало. На нас возложена задача установить его местонахождение; честь его поимки должна принадлежать нам. Это будет славным делом для нашего управления, для всей полиции Сан-Пауло. Я выбрал именно вас, потому что считаю вас способным работником. Надеюсь, что вы доставите его сюда. С Мирандой из Сан-Пауло выехали еще двое сыщиков. Он должен был связаться с полицией Мато-Гроссо, которой уже удалось напасть на след Гонсало. Это произошло сразу же после того, как Эйтор Магальяэнс сделал донос. Барросу хотелось, чтобы слава поимки Гонсало – так долго и упорно разыскиваемого коммуниста – досталась ему одному. Он, разумеется, отправился бы в Мато-Гроссо лично, но арест Карлоса и Зе-Педро, необходимость вести допросы в Сан-Пауло заставили его остаться на своем посту. Из среды своих помощников он выбрал Миранду, так как доверял ему. Миранда был еще молодой человек, но уже успевший зарекомендовать себя как один из самых ловких агентов полиции. Это ему не так давно удалось раскрыть партийные организации в Кампинасе и в Сорокабе; это он сорвал забастовку железнодорожников, подготовлявшуюся в знак солидарности с грузчиками Сантоса. В полиции с большой похвалой отзывались о способностях этого сыщика, которого однажды очень лестно охарактеризовал сам начальник полиции. Говорили, что он, как никто другой, умеет выслеживать человека, добывать, как бы невзначай, у него информацию и никто, как он, так легко не переходит от своих внешне изысканных манер к проявлению самой свирепой жестокости. Миссия, порученная ему Барросом, очень льстила его тщеславию, и он обещал инспектору, а затем – в коридорах полиции – своим коллегам: – Не позже чем через десять дней я вернусь и привезу его с собой… В Куиабе Миранда встретился с инспектором охраны политического и социального порядка штата Мато-Гроссо. Этот последний чувствовал себя несколько задетым тем, что сан-пауловская полиция собиралась действовать на его территории; он тоже хотел, чтобы слава поимки Гонсало досталась ему одному. Немедленно по получении сообщения от Барроса о сенсационных разоблачениях Эйтора инспектор в Мато-Гроссо, предупреждая действия сан-пауловской полиции, которую собирался прислать Баррос, поспешил арестовать учителя Валдемара и железнодорожника Пауло и послал своих людей на фазенды Флоривала. Один из них возвратился с дедушкой Нестора – единственным человеком, арестованным на землях полковника. Инспектор даже пожаловался начальнику полиции и полковнику Венансио на незаконное вмешательство полиции другого штата в сферу его деятельности, усмотрев в этом выражение недоверия к его способности вести розыск. Однако полковник резко оборвал его и – при молчаливом согласии начальника полиции – заявил: – Что за глупости!.. Вы, тряпки, ничего не умеете делать. Если бы не приехали полицейские из Сан-Пауло, я сам попросил бы прислать их сюда… После этого инспектору осталось только с самой милой улыбкой принять Америко Миранду и предоставить себя в его полное распоряжение. Миранда допросил арестованных и, не желая терять времени, велел отправить их для дальнейших допросов в Сан-Пауло, а сам приготовился к поездке в долину реки Салгадо. Сыщики из Мато-Гроссо уже находились в поселке Татуассу, и Миранда решил начать свою деятельность отсюда. Местный инспектор сопровождал его. Полковник Венансио предоставил в распоряжение полиции свою фазенду. Огромные плантации, бескрайние пастбища, тягостное одиночество – к этому Америко Миранда (человек города) никак не мог привыкнуть. Инспектор советовал ему остановиться в доме Венансио Флоривала под охраной стражников полковника. Он объяснил Миранде, что в этих дебрях никто не может чувствовать себя в безопасности: здесь убивают совершенно безнаказанно; еще ни разу закону не удалось наложить свою руку на преступника, скрывшегося в горах или в селве вдоль долины реки. Так, например, было и с пожаром лагеря американцев, никого не удалось поймать, никого даже нельзя было заподозрить. Кабокло, такие простодушные на вид, на самом деле очень хитры и никогда не скажут правды. Миранда, выслушав эти сетования инспектора, только рассмеялся с видом превосходства. Одно дело – полиция Мато-Гроссо, деревенщина без какой-либо специальной подготовки, и другое – полиция Сан-Пауло, умеющая выслеживать и допрашивать. И больше для того, чтобы поступить вопреки советам инспектора, а не по какой-либо иной причине, он объявил о своем решении немедленно ехать в поселок Татуассу, остановиться там для первых расследований, а потом уже отправиться в долину реки Салгадо, где, по его мнению, должен был находиться Гонсало. Тот самый Гонсало, ничего не подозревающий, не знающий о доносе Эйтора, уверенный в своей безопасности, как думал Миранда. В Поселке Татуассу находилось четверо полицейских из Мато-Гроссо. Собранные ими сведения оказались крайне скудными. Им удалось только узнать, что действительно человек исполинского роста несколько раз появлялся в поселке и вел дружбу с Нестором и с одним испольщиком по имени Клаудионор. Но и тот и другой некоторое время тому назад исчезли с фазенды, и никто из испольщиков и батраков не мог сказать, куда они направились. Мулат Клаудионор поручил жене и детям заботу о посевах, но Венансио Флоривал, воспользовавшись отсутствием испольщика, прогнал его семью, завладел его участком и отказался выплатить заработанные им деньги. Теперь семья живет на соседней фазенде, у родственников жены Клаудионора, но сам мулат там не появляется; и он и Нестор исчезли бесследно. У Нестора остался дед, которого арестовали и отправили в Сан-Пауло, где он всем надоел своими несуразными рассказами об оборотнях и дьяволе. Миранда начал допросы, и почти сразу же ему стало страшно. Не только ему, но и обоим его коллегам, приехавшим из Сан-Пауло. Почему им стало страшно, – они не могли объяснить. Ничего определенного им не угрожало; хижина, где они остановились – лучшая в поселке, – охранялась стражниками Венансио Флоривала. Но страх внушало и молчание жителей, и недоверчивые взгляды, которыми их провожали, когда они ходили по грязным уличкам, и явная недружелюбность, с какой им отвечали на вопросы. В доме, где жили проститутки, Миранде удалось узнать от одной из них (и он видел, с каким укором смотрели на нее остальные женщины, когда она это говорила), что Гонсало имел обыкновение останавливаться в хижине старика – торговца кашасой. Пока мулатка говорила, все остальные молчали. Накануне ночью она спала с Мирандой и чувствовала себя обязанной перед этим городским, хорошо одетым молодым человеком. Остальные осуждали ее откровенность – это было заметно по их мрачным взглядам. Миранда, сопровождаемый инспектором из Куиабы, отправился допросить старого торговца кашасой. Остальные сыщики рыскали верхом по плантациям, допрашивали батраков и испольщиков. По фазенде и в поселке ходили противоречивые слухи. Старый торговец кашасой не стал отпираться. Да, действительно, сказал он, ему приходилось два или три раза, уже довольно давно, предоставлять у себя приют огромного роста человеку, являвшемуся в поселок из долины реки по ту сторону гор. Так как в его хижине есть свободный угол, то он за небольшую плату отдает его на постой редким пришельцам, появляющимся в поселке. У него же в доме останавливался и сириец Шафик, когда гнал в Куиабу своих ослов. Останавливались и кабокло из долины, если им случалось забрести в здешние края. Что касается этого великана, то он даже не знает его имени: здесь его называли доктором, потому что он умел лечить раны и злокачественные лихорадки. Человек платил ему за постой и шел своей дорогой, как и любой кабокло из долины. Старик отрицал, однако, будто постоялец с кем бы то ни было встречался у него в доме, и не узнал его на карточках, показанных Мирандой. Это были старые снимки с фотографий Гонсало времен его деятельности в Баии; еще совсем молодого Гонсало, снятого в анфас и в профиль. – Нет! Не похож на него, сеньор. Вы знаете: одно дело человек на картинке, другое – из мяса и костей. На этот раз Миранда не стал продолжать допрос. Инспектору из Куиабы он сказал: – Этот старик что-то скрывает. Он знает гораздо больше, чем сказал нам. Я в этом убежден. – Так почему бы нам не заставить его заговорить? – спросил инспектор, желая показать свою заинтересованность в успехе следствия. Миранда объяснил ему с тем же видом превосходства: – Надо действовать умело. Мы приставим одного из наших людей следить за ним, узнать, с кем он встречается. Может быть, он связан с Гонсало и наведет нас на след. А пока что будем продолжать опрос жителей. Стариком займемся позже… Полицейский сыск – это целая наука, дорогой мой, здесь нужен мозг – серое вещество… – заключил он, повторив фразу, много раз слышанную из уст Барроса. Миранда опять отправился к проституткам – показать им портреты Гонсало. Женщины с любопытством смотрели на фотографии и в сомнении покачивали головами. Добиться от них чего-нибудь определенного было невозможно. Они уверяли, что такой человек ни разу не посещал никого из них. Одна из них, ужасного вида старуха, кипя от бешенства, возбужденно говорила, обращаясь больше к проболтавшейся мулатке, чем к полицейским: – Человек, который бывал в нашем поселке, – не преступник. Это хороший человек: он делал добро, лечил больных. Даже вот этой он давал лекарства против болезни… – И как бы обвиняя, она ткнула пальцем в сторону мулатки. Миранда чувствовал, что ему никто не желает отвечать. Никто из жителей поселка. Ни от кого не удалось ему добиться мало-мальски точных данных; все это были какие-то обрывки сведений, вырванные ценою больших усилий. Одно все же казалось бесспорным: Гонсало не появлялся здесь уже в течение многих месяцев. Несомненно, он должен был сейчас находиться в долине. В поселке полицейских окружала тяжелая атмосфера недоверия и недоброжелательства. Когда кто-нибудь из них показывался, жители прятались, на вопросы отвечали неохотно, часть населения, и без того немногочисленного, вообще перебралась в лес. Один из сыщиков, с дрожью в голосе, сказал Миранде: – Я предвижу момент, когда нам в спины всадят пули, и останется неизвестным, кто стрелял. Инспектор из Куиабы улыбался и, в свою очередь, заметил: – Здесь, коллега, не Сан-Пауло. В этих дебрях никто не может чувствовать себя в безопасности. Оставив нескольких из своих людей сторожить в поселке и в особенности следить за старым торговцем кашасой, Миранда на следующий день выехал опрашивать работников плантаций. Но весть о прибытии полицейских из Сан-Пауло уже успела распространиться среди испольщиков и батраков. Они встретили Миранду и инспектора с поклонами, отвечали почтительно, с показным смирением, но ничего определенного не сообщали. Относительно великана сказали, что только Нестор да еще, может быть, Клаудионор могли о нем что-либо сообщить, сами же они этого человека никогда и не видывали. Миранда чувствовал их глухое сопротивление, нежелание отвечать на вопросы, словно все они сговорились между собой препятствовать ему вести следствие. Когда он спрашивал о негре, про которого упоминал дед Нестора, они отвечали, что на плантациях есть много негров и что одно несомненно: дед уже давно выжил из ума. Почем они знают, куда ушли Нестор и Клаудионор, ведь мир велик, и всякий дельный человек повсюду найдет себе работу. Миранда показал им старые фотографии Гонсало. Они брали их мозолистыми пальцами и с любопытством разглядывали: многие впервые в жизни видели фотографии. Качали головой: мало ли чужого народу прошло через фазенды с тех пор, как сюда явились гринго и начали работы на берегу реки! Столько народу, что и не запомнишь все лица… Наверное, это один из гринго, заключали они, к отчаянию полицейских. Миранда чувствовал себя в глупом положении. Легкое ли дело допрашивать крестьян во время работы, когда они с лопатами или с серпами склоняются над землей или пасут скот на пастбище? Вот если бы он мог собрать их в полицейской камере в Сан-Пауло, все пошло бы по-другому! Но здесь, под палящим солнцем, это невозможно… Кроме того, он чувствовал, как им постепенно овладевает страх. Некоторые взгляды казались ему угрожающими, и не раз он был готов выхватить револьвер и направить его на крестьян. Он ясно видел в их взглядах скрытую угрозу, но через мгновение она исчезала, уступая место выражению покорности и смирения, и ему не к чему было придраться. Он перестал допрашивать работников фазенды: то ли потому, что не мог от них добиться ничего определенного, то ли потому, что ему всюду мерещилась засада. Ведь если кто-нибудь – Нестор, Клаудионор или этот Гонсало, о котором столько говорилось в полиции, – стал бы в него стрелять, все эти люди, на вид такие смиренные, были бы заодно с преступником. Миранда был убежден, что Гонсало находится теперь в долине и, чтобы его захватить, надо отправиться по ту сторону гор, на берега реки Салгадо. Вернувшись с фазенды, он сказал инспектору: – Вы возьмете на себя розыски и поимку Нестора и Клаудионора. И выясните также, нет ли здесь других коммунистов. Я беру с собой несколько человек и отправляюсь в долину. Гонсало там, и я разыщу его. – Вы не хотите даже еще раз допросить торговца кашасой? Я думал… – Да, я допрошу его. Он, несомненно, кое-что знает. Вечером, предварительно узнав, что старик торговец не переступал за это время порог своего дома, Миранда в сопровождении инспектора и еще одного сыщика отправился его допрашивать. – На этот раз он заговорит! – заверил Миранда своих спутников. Но старик опять принялся божиться, что ему ничего не известно, кроме того, что он уже рассказал. Великан давно не появлялся в поселке. Он не знает, что это за человек, не имеет никакого понятия о том, что значит слово «коммунизм». Старик воздевал руки к небу, а Миранде становилось ясно, что старик знает гораздо больше, чем говорит. Перед домом собралась небольшая толпа и слушала. Здесь были крестьяне, стражники Венансио Флоривала, выделенные полковником из охраны полицейских, проститутки, нищие. В их позах, даже в позах стражников, Миранда видел немую угрозу себе и своим людям. Казалось, все они были возмущены грубостью, с какой он допрашивал старика. Инспектор из Куиабы уже раза два успел ему шепнуть: – Осторожнее. Вы подвергаете себя опасности. Но Миранда думал: «Если я проявлю трусость, они потеряют всякое уважение, обнаглеют и тогда… бог знает, что тогда может случиться». Он решил применить силу и, рассердившись, дал старику пощечину. – Говори или тебе будет плохо!.. Миранда увидел, как толпа, стоявшая у двери, всколыхнулась. Он вытащил револьвер, инспектор и другой сыщик сделали то же самое. Так, с револьверами наготове, они подошли к двери и приказали любопытным разойтись. Толпа медленно разошлась. У двери остались лишь два стражника, но выражение их лиц было зловещим. Они мрачно смотрели вглубь хижины, где сидел старик, закрыв лицо руками, и всхлипывал. Миранда решил быстро со всем этим покончить. – Рассказывай все, что знаешь! – проговорил он, толкнув старика ногой. – Если не скажешь… спущу с тебя шкуру! Старик плакал и повторял: «Ничего я не знаю, ничего», – и это было все. Миранда схватил его за ворот грязной рубахи, заставил встать, толкнул к стене. Продолжая держать револьвер наготове, приказал: – Выкладывай, что знаешь, и поживее! – Он занес руку и уже готов был нанести новый удар, но в эту минуту в дверях раздался сдавленный голос одного из стражников: – Сеньор, не бейте старика. Если хотите, арестуйте его; если хотите, убейте или прикажите мне застрелить его. Но не поднимайте руки на старика, который мог бы быть вашим отцом. Не поднимайте руки, потому что, если вы его ударите, я вас застрелю… – И он навел на Миранду винтовку. Сыщик выпустил старика и посмотрел в сторону двери. Второй стражник тоже прицелился. Зрители возвратились, хотя и держались в некотором отдалении. Инспектор сказал: – Лучше всего отправить старика в Куиабу и там допросить. Миранда был полон бешенства и страха. Стражник, сплюнув в его сторону, поддержал инспектора: – Да, это лучше, иначе может пролиться кровь. Но в ту же ночь старик бежал. Как, с чьей помощью – это осталось неизвестным. Может быть, ему помогло все население поселка, а может быть, и сами стражники предоставили ему эту возможность. Двум полицейским было поручено сторожить его в хижине до утра. Старик притворился спящим, за ним уснули и полицейские, а на утро старика и след простыл. Инспектор из Куиабы, внешне очень почтительный с Мирандой, в глубине души радовался его затруднениям. – Здесь вам не город, дорогой коллега, и ваше искусство здесь не поможет. Здесь надо действовать очень осторожно, в противном случае я не могу поручиться за вашу жизнь… Миранда видел, как страх овладевал сыщиками, приехавшими с ним из Сан-Пауло: нельзя доверять никому, даже стражникам… Он чувствовал, как и в нем самом растет страх; теперь он готов был выхватить револьвер в любую минуту. Вторая новость, полученная им в это утро, лишний раз показала, до какой степени местное население было ему враждебно. Проститутка, сообщившая первые и почти единственные сведения, – та самая, с которой он, приехав сюда, ночевал, – лежала теперь в постели больная: к ней ворвались ночью и жестоко ее избили. Кто это сделал? Люди, явившиеся с фазенды, местные жители, ее соседки по дому? Никто не знал, никто никого не выдал. На утро поселок был почти пуст, лишь несколько нищих грелось на солнышке. Полицейские чувствовали себя в осаде, ждали нападения из-за каждого угла. Одни лишь стражники полковника оставались спокойными и покуривали, пуская густые клубы дыма. Инспектор из Куиабы предложил перебраться в дом Венансио Флоривала и оттуда послать несколько хорошо вооруженных людей за горы, в долину реки. Но Миранда обещал Барросу, что он сам поймает и доставит Гонсало… Что станет с его репутацией, если не он, а кто-нибудь другой отправится в долину, где непременно должен был находиться этот великан? – Нет, я сам отправлюсь в долину во главе нескольких самых храбрых людей. А вы возвращайтесь на фазенду, продолжайте свою работу. Попытайтесь разыскать Нестора, Клаудионора и старика. Старик не мог далеко удрать. А он знает много, это несомненно… Инспектор показал на ближайшую гору. – Недалеко, правда… Но там никого не поймать… – Это ваша задача, постарайтесь ее выполнить. Моя задача – поймать Жозе Гонсало, и я это сделаю… Через несколько дней я привезу его сюда… – Посмотрим… – улыбнулся инспектор. – Вы в этом сомневаетесь? Инспектор из Куиабы ясно видел за напускной храбростью Миранды скрытый страх. Да, этому молодому человеку было страшно – страшно перед этими крестьянами, этим таинственным миром, столь чуждым городскому жителю. И еще яснее выражался страх в глазах двух других сыщиков из Сан-Пауло. В глубине души инспектор радовался: в конце концов, именно ему удастся поймать знаменитого Гонсало после того, как эти пришельцы из Сан-Пауло будут окончательно деморализованы. О том, чтобы их окончательно вывести из строя, позаботится долина. Но Миранде он ответил: – Нет, нисколько не сомневаюсь. И желаю вам удачи. Только будьте осторожны. По сравнению с кабокло долины, здешние жители – сущие ангелы. В долине – прибежище бандитов, которые поселились там, ибо им не на что больше надеяться в жизни. Будьте осторожны… Под охраной молчаливых стражников Венансио Флоривала, в сопровождении двух сыщиков из Сан-Пауло и двух из Куиабы Миранда направился в горы. Они ехали на отличных лошадях, предоставленных в их распоряжение управляющим полковника. На первый взгляд долина показалась им гораздо менее страшной, чем поселок. Они остановились на берегу реки, в том месте, где был расположен лагерь «Акционерного общества долины реки Салгадо»: деревянные домики для североамериканских специалистов – истинное торжество комфорта в этой дикой глуши на краю света – и десятки бараков для рабочих. Музыка фокстротов неслась из радиоприемников, напоминая об улицах больших городов; сложная техническая аппаратура сверкала на солнце. Вот приборы, привезенные из Соединенных Штатов для исследования почвы и подпочвенных пластов, а вот – для выявления таящихся здесь залежей марганца. Все это свидетельствовало о цивилизации и совсем не походило на жалкий, утонувший в грязи поселок. Работы по сооружению аэродрома сильно продвинулись вперед: десятки рабочих срубали деревья, разравнивали почву. Бригада медиков под руководством профессора Алсебиадеса де Мораиса из университета Сан-Пауло возглавляла работы по оздоровлению этого небольшого участка огромной долины – островка среди непроходимой селвы. Магазин в деревянном здании с большим и разнообразным набором товаров обслуживал жителей лагеря всем необходимым. В другом деревянном здании помещалась контора акционерного общества. Об этом возвещала вывеска на дверях. Все это, и в особенности присутствие светловолосых американцев, одетых в трусы и рубашки с отложными воротничками (некоторые из приезжих отпустили себе живописные усы и густые бороды), делало эту опушку селвы похожей на ателье киностудии, где готовится съемка экзотических сцен. Дикий пейзаж казался декорацией, лишился своей естественности из-за гринго и их машин. В конторе Миранда беседовал с главным инженером. Это был худощавый, скупой на слова янки, сильно искусанный москитами. Миранда объяснил ему цель своего прибытия, рассказал о Гонсало, об угрозе, которую представляет присутствие этого коммуниста для работы акционерного общества. Бразильский инженер, помощник американца, служил переводчиком. Главный инженер изъявил готовность помочь Миранде чем только сможет, например предоставить ему каноэ с мотором на носу (новшество, введенное здесь американцами), чтобы он смог спуститься в поисках Гонсало вниз по реке. Инженер полагал, что если этот Гонсало еще в долине, то, вероятнее всего, он находится среди кабокло, живущих ниже по течению реки. Однако, по мнению обоих инженеров – американского и бразильского, – Гонсало бежал еще до прибытия второй экспедиции. Это предположение подтверждалось тем, что его плантация была заброшена: дикие растения разрослись на маниоковом поле и заглушили всходы маиса. Главный инженер лишь недавно прибыл в долину; он не участвовал в предыдущей экспедиции, когда был подожжен лагерь. Но и он и его бразильский коллега слышали о «великане из долины» и о его таинственном исчезновении. Нельзя было допустить, чтобы преступник, так рьяно разыскиваемый полицией, осужденный на многие годы тюрьмы, искавший убежища в диких лесах, остался здесь, когда тайны селвы уже начали раскрываться. Во всяком случае, для успокоения совести Миранде следует спуститься вниз по реке и поискать там следы этого человека. Главный инженер предложил ему также двух солдат военной полиции из отряда, охранявшего лагерь. Живущие на берегу реки кабокло – зловещие существа и, по всей видимости, не очень-то симпатизируют людям компании. Именно поэтому, учтя опыт первой экспедиции, американцы не стали набирать рабочих среди кабокло и не рисковали плыть вниз по реке. Пока много работы и здесь, а исследование и освоение всей долины лучше отложить до изгнания кабокло. Бразильский инженер сказал, что время от времени к лагерю приплывают кабокло, привозят в своих каноэ убитых ими на охоте животных и продают их за несколько мелких монет. При этом с ними всегда возникают споры: им хочется купить какую-нибудь безделицу в лавке акционерного общества, а продавать из нее что-нибудь посторонним строжайше запрещено. Это обстоятельство еще больше осложняет отношения между американцами и кабокло. Мнение бразильского инженера было непоколебимо: Гонсало бежал, скрылся в лесах, затерялся в неисследованных внутренних районах штатов Мато-Гроссо или Гойаз. Одно ясно: среди рабочих акционерного общества его нет. Рабочие набраны в Куиабе и соседних городах, и до сих пор никакая агитация не нарушала нормального хода работ. Среди них нет ни одного, хотя бы отдаленно похожего на человека, изображенного на фотографиях, привезенных Мирандой. Если Гонсало еще в долине, он может быть только среди кабокло… Плавание Миранды по реке продолжалось больше недели. Каноэ несколько раз спускалась и поднималась по реке, и в лодке вместе с пассажирами плыл страх. Особенно страшно бывало по ночам, когда приходилось причаливать к берегу, у самой опушки селвы. Сыщики испуганно переглядывались: их жизнь была во власти кабокло долины. Эти кабокло со зловещими лицами обычно скрывались при приближении лодки и шуме ее мотора. В большинстве случаев Миранда находил пустые хижины, брошенные плантации. Допрашивать кого-нибудь из кабокло было сущим мучением. Гонсало? Никогда здесь не было человека с таким именем. Великан, похожий на этот портрет? Был здесь один великан, хороший человек, но он давно отсюда ушел, – едва только явились гринго. Пожар лагеря? Они ничего не знают; пожар, наверное, возник по вине одного из гринго, не умеющих обращаться с огнем в лесу. Кабокло смотрели на фотографии, узнавали улыбающееся лицо («Это Дружище!»), но отрицательно покачивали головами: нет, этот человек совсем не похож на великана из долины. От них трудно было добиться чего-нибудь большего, чем несколько односложных слов. Казалось, что они очень устрашены видом солдат, вооруженных винтовками. Они смотрели в сторону, ни разу не взглянули прямо в лицо Миранде и его спутникам. И если только могли, старались скрыться в чаще еще до прибытия лодки. Хижины и плантации пустовали. Миранда побывал на плантации Гонсало. Дикие заросли заполонили весь двор, вторглись в хижину, где не оставалось решительно ничего, что могло бы навести на след. Было видно, что уже много месяцев здесь никто не бывал. «Вероятнее всего, этот человек бежал», – подумал сыщик. И тем не менее Миранда все еще не был окончательно убежден. В жестах кабокло, в их недомолвках ему чудилось нечто вроде угрозы. Они не говорят правды, по крайней мере всей правды, – в этом Миранда был убежден. Спрятавшись в прибрежной чаще, они следили за ним, за передвижениями его лодки. Он не раз уже замечал лицо кабокло, скрытого за деревьями, а в тишине ночей слышал звук шагов по сухой листве и шорох раздвигаемых лиан. Страх возрастал, усиливался. Полицейские привыкли допрашивать арестованных в камерах под надежной охраной, захватывать людей в городах – на фабриках или в домах. Но здесь все было против них. Они распухли от укусов москитов, одного из сыщиков била лихорадка, и он, лежа на дне каноэ, заклинал Миранду Христом-богом вернуться. Ночами полицейские не могли уснуть, опасаясь засады в чаще. Они чувствовали, что кабокло окружают их: невидимые за деревьями, следуют за их лодкой днем, подкрадываясь к ней во время ночных привалов полицейских. Иногда им даже случалось замечать прячущегося кабокло. Но как преследовать, как отважиться вступить в страшную селву, где за каждым деревом таилась ядовитая змея, где нет тропинок, где человек может заблудиться и погибнуть, не найдя обратного пути? И несмотря на все, несмотря на страх, овладевший им и его людьми, Миранда не решался отказаться от преследования. Что он скажет Барросу, если возвратится без Гонсало? В самом ли деле великан бежал из долины? Но почему ему казалось, будто кабокло над ним смеются? Эх, если бы он мог заполучить этих кабокло, а вместе с ними и жителей поселка и работников фазенды к себе в Сан-Пауло, в камеры полицейского управления… Там бы он заставил их говорить, открыть всю правду. Но в этом лесу, среди змей, москитов и диких зверей, от рева которых по ночам бросает в жар и холод, он ничего не мог поделать… Показания Ньо Висенте заставили его решиться на возвращение. Положение становилось все более затруднительным. Его помощники, совершенно деморализованные, боялись лихорадки, уже свалившей одного из них. Только уязвленное самолюбие заставляло Миранду плавать вверх и вниз по реке в своей каноэ; теперь и ночи они проводили в лодке, опасаясь внезапного нападения. Встреча с Ньо Висенте и разговор с сирийцем Шафиком, только что возвратившимся из очередного путешествия, заставили его отказаться от дальнейших поисков. Старый кабокло сам явился к Миранде. Он оказался разговорчивее других. Он живет в долине очень давно, поселился здесь раньше всех остальных, знает все и может утверждать, что великан отсюда ушел. Он, Ньо Висенте, видел, как тот складывал вещи перед уходом. Ньо Висенте признался сыщикам: он всегда подозревал, что этот человек скрывается от правосудия. Когда появились гринго, великан ушел. Сказал, что больше не чувствует себя здесь в безопасности. Куда он ушел, – этого Ньо Висенте не знает, но по слышанным разговорам, по отдельным фразам «Дружища», он заключил, что тот направился в Амазонию[157]. Все это подтвердил и Шафик. Сириец дал хинину больному сыщику и угостил всех кашасой. Да, великан ушел. Никому не приходило в голову, что он мог оказаться коммунистом. Его считали только убийцей, скрывающимся от властей. Когда прибыли гринго и сгорел их лагерь, великан решил убраться. И Шафик может даже сказать куда: в Боливию. Великан просил его, когда он, Шафик, отправлялся в одну из своих предыдущих поездок, о странной услуге: обменять ему бразильские деньги на боливийские, что сириец и сделал в Куиабе. Эта просьба показалась ему настолько странной, что он приставал к великану с вопросами до тех пор, пока тот в конце концов не признался, что с приходом американцев ему здесь опасно оставаться и он намеревается эмигрировать в Боливию. Когда каноэ с мотором взяла курс на лагерь инженеров, один из кабокло пошел к Гонсало, в его убежище в селве, сказать, что розыски кончились. А в лагере среди рабочих на строительстве аэродрома стоял негр Доротеу и смотрел, как возвращалась каноэ. Было очень трудно убедить кабокло не расправляться с полицейскими во время их розысков на реке. Ячейка рабочих компании поддерживала связь с Гонсало через Нестора, который теперь тоже переселился в селву. В лагере, пока врачи оказывали помощь заболевшему лихорадкой сыщику, Миранда написал отчет Барросу, доказывая, что, вне всяких сомнений, Жозе Гонсало бежал в Боливию, и возлагал ответственность за это бегство, а также за исчезновение Нестора и Клаудионора на «эту бездарность» – инспектора охраны политического и социального порядка Куиабы… Отсюда же, из лагеря, была послана телеграмма полиции Ла-Паса с описанием Гонсало и требованием его ареста. Американцы привезли с собой передатчики самого новейшего образца и поддерживали прямую связь даже с Нью-Йорком… 21
После встречи с Жоаном в Куиабе Гонсало в значительной степени изменил свой первоначальный план. Невозможно помешать акционерному обществу обосноваться в долине. Значит, надо заложить основы партийной работы среди рабочих, законтрактованных компанией. Доротеу нанялся рабочим в Кампо-Гранде, и вместе с ним поступили на работу еще несколько товарищей, приехавших из Мато-Гроссо. Негр привез известие о судебном решении по делу, начатому акционерным обществом против кабокло. Гонсало установил связь между тремя фронтами работы: кабокло долины, с которыми находился он сам, рабочими лагеря – под руководством Доротеу – и крестьянами – на фазендах Венансио Флоривала, возглавляемых Нестором и Клаудионором. Таким образом, когда для кабокло придет время выступить, и рабочие и крестьяне смогут их поддержать. Аресты в Сан-Пауло и в Куиабе заставили произвести еще некоторые изменения: Нестор, которого разыскивала полиция, также скрылся в селве и теперь служил связным между Гонсало и Доротеу. Клаудионор остался на фазендах, укрываемый испольщиками и батраками. Партийная ячейка рабочих компании росла и уже одержала первую победу, создав профессиональный союз, объединивший трудящихся долины, и добившись его признания. Зато работа на фазендах находилась в состоянии упадка: полицейские экспедиции, следовавшие одна за другой, сломили и без того еще слабый дух сопротивления крестьян. Большинство из них ничего и слышать не хотело о борьбе, а у Клаудионора не было достаточного опыта, чтобы успешно вести пропаганду. Некоторые кабокло, узнав о решении суда, добровольно ушли с берегов реки. Правда, таких оказалось немного; большинство же, согласившись с Ньо Висенте, решили продолжать обрабатывать свою землю и защищать ее любыми способами. Когда к ним явился со своими сыщиками Миранда, кабокло подумали, что дело идет об их выселении. Поэтому-то они и выслеживали каноэ на всем протяжении ее пути. Гонсало пришлось долго уговаривать Ньо Висенте отправиться к полицейским и убедить их, что его, Гонсало, здесь больше нет. Старик ни за что не хотел идти разговаривать со шпиками. Он пошел только после того, как Гонсало, узнав о возвращении Шафика, прибег к его посредничеству. Гонсало обратился к Шафику лишь после долгих колебаний. До сих пор он очень мало доверял сирийцу: ничего определенного о его личности Гонсало не было известно. Но надо заставить полицейских убраться из долины, а этого можно добиться, только убедив их, что Гонсало бежал. Пока здесь будет рыскать полиция, невозможно вести работу. И Гонсало вызвал Шафика в свое убежище. Сириец явился в сопровождении одного из кабокло, и Гонсало имел с ним продолжительную беседу. Наступала ночь, где-то у берега должна была причалить для ночлега каноэ сыщиков. Гонсало отпустил себе большую черную бороду, закрывавшую грудь и придававшую ему вид «блаженного» из тех, что ходят по сертану, возвещая конец света. Рассказал Шафику свою историю: он приговорен ко многим годам тюрьмы, его разыскивает полиция, его обвиняют в коммунизме. Полиция уже более или менее убеждена в том, что он бежал, но для окончательной уверенности надо, чтобы кто-нибудь дал более конкретные показания. Например, Шафик. Сириец слушал молча, слегка нагнувшись вперед, стараясь разглядеть лицо великана в окружавших их потемках. В заключение Гонсало сказал, что отдает в его руки свою свободу и жизнь. Если полиция его схватит, – это почти верная смерть. Шафик протянул ему руку: пусть Гонсало не тревожится, он, Шафик, исполнит просьбу Гонсало. И потом сам уедет отсюда. В Парагвай. Он начал об этом подумывать с того момента, как здесь появились американцы со своими машинами. Если он здесь останется, кончится тем, что его арестуют и снова отправят в Кайенну. Особенно для него это опасно теперь, когда здесь назревают события… Гонсало ему ничего не рассказывал, он ни о чем не спрашивал – Шафик уважает чужие тайны. Но он предвидит, что здесь произойдут важные события. И он, Шафик, не останется здесь – иначе ему придется за многое расплачиваться. И действительно, через несколько дней он, ни с кем не простившись, уехал. Какое ему было дело до того, что готовилось в долине? Он одинокий человек: единственное благо, которое он хотел сохранить, была свобода, даже если для сохранения этого блага ему и придется жить вдали от всех и всего. А Гонсало остался в долине ждать момента, когда начнется изгнание кабокло с их земель. 22
Однако Коста-Вале, казалось, не торопился. Получив решение судьи штата Мато-Гроссо, он вступил в спор с полковником Венансио Флоривалом. Тот, стремясь расширить пределы своих владений до берегов реки, предложил изгнать кабокло немедленно: отряд военной полиции, подкрепленный наемными головорезами, выкинул бы этих несчастных кабокло из долины – и делу конец. Коста-Вале держался другой точки зрения: к чему такая поспешность? Ну хорошо, кабокло будут изгнаны, а что дальше? Земли останутся в запустении до прибытия японских колонистов, которые еще в пути. Гораздо лучше на некоторое время оставить там кабокло, чтобы они продолжали обрабатывать землю и сажать маниок и маис. В итоге, когда настанет время поселить японских колонистов, земля будет, по крайней мере, возделана и чем-то засеяна. И он изложил полковнику свои планы: на этих плодородных землях нужно будет наряду с крупными разработками марганца создать большие рисовые плантации, образцовые фазенды. Венансио Флоривал, исполненный верности традициям феодального землевладения, выслушав эти планы, покачал головой. Не будет ли намного лучше поделить эти земли между ними – Коста-Вале, Венансио Флоривалом, комендадорой да Toppe, мистером Карлтоном, с тем что каждый будет обрабатывать их для себя, а акционерное общество только использует марганцевые месторождения? В конце концов, долина огромна, и компания будет действовать далеко не на всем ее протяжении. Коста-Вале засмеялся: – Вы отстали, Венансио. Вы не заглядываете вперед. Научились наживать деньги, сажая кофейные деревья и выращивая скот, используя землю только под пастбища… – И наживаю на этом, слава богу, немалые деньги! – Но упускаете еще больше. Нет, сеньор Венансио, не будем делить эти земли, оставим их за акционерным обществом, создадим колонии японцев, организуем крупные плантации. Это пока… Ибо потом… – А что потом?.. – Ведь не один же марганец имеется в этих краях. Последние изыскания говорят о наличии огромных месторождений нефти. – Нефти? Ну и что же… Американцы все равно никому не позволят добывать нефть в Бразилии; зачем им создавать себе конкуренцию?.. Это же всем ясно. – Это верно для сегодняшнего дня. Но кто вам сказал, что так будет всегда? Завтра все может обернуться по-другому. Понимаете? Убедить Венансио Флоривала было, однако, нелегко. Кончилось тем, что Коста-Вале согласился, чтобы полковник захватил земли, простирающиеся между горой и рекой. Это было что-то вроде ничьей земли; участки эти даже не были включены в земли, предоставленные акционерному обществу федеральным правительством. – Ладно, пользуйтесь, берите в свои руки. А мне дайте возможность осуществить мои планы. Я вам набиваю карманы деньгами, а вы еще мешаете мне… – усмехнулся банкир. – А кабокло? Вы знаете, что они спутались с коммунистами. Пришлось даже вызывать полицию. – Когда настанет время прогнать кабокло, я вас извещу. И вы этим займетесь… У Коста-Вале в конце этого года было по горло работы. Связь с мистером Джоном Б. Карлтоном и его финансовой группой привела к значительному расширению дела. Теперь «Акционерное общество долины реки Салгадо» стало центром целого ряда компаний: оно оперировало громадными капиталами, выписывало партии иммигрантов из Японии, владело страховыми обществами, занималось экспортом кож, каучука и хлопка, контролировало газеты, в частности «А нотисиа», рекламные предприятия и агентства по распространению статей, как, например, «Трансамерика» и книгоиздательства. Небольшое издательство Шопела, специализировавшееся на выпуске книг бразильских писателей, выходивших малыми тиражами, было преобразовано в крупное издательство и приступило к выпуску переводов американских «бестселлеров»[158] и книг о Соединенных Штатах, в которых пропагандировался американский образ жизни; оно же стало издавать также антикоммунистические произведения. И над всем этим стоял Коста-Вале. Его главным бразильским компаньоном была комендадора да Toppe, но он не мог ожидать от старухи серьезной помощи в руководстве столь многими и при этом столь различными делами. Она была поглощена своими текстильными фабриками и общественной деятельностью. В последнее время значительную долю времени у комендадоры занимала подготовка к свадьбе ее племянницы с Пауло Маседо-да-Роша. Что же касается Шопела, то он был хорошим подставным лицом и не больше… Он полезен, ибо для того, чтобы заработать деньги, готов на все. Однако если бы в его руки на самом деле было передано руководство каким-либо предприятием, это могло бы привести к самым дурным последствиям. Люди, подобные Шопелу или Артуру Карнейро-Маседо-да-Роша, были совершенно необходимы для успешной деятельности предприятий, но при условии, чтобы они не вмешивались непосредственно в принятие решений. На долю Коста-Вале выпала основная тяжесть работы, именно ему доверяли американцы, именно он обладал настоящим деловым духом. Как банкир не похож на Венансио Флоривала, который неспособен видеть дальше своего носа! Он неспособен заметить, например, скрытую конкуренцию со стороны немцев. А между тем немцы все больше и больше проникали в правительство, даже – в военное министерство, не говоря уже о контролируемой ими через Филинто Мюллера федеральной полиции и департаменте печати и пропаганды. Похоже было, что Варгас все больше склоняется на их сторону, как бы видя в нацистах своих лучших друзей в области международной политики. Коста-Вале не потерял еще надежды на образование коалиции крупных капиталистических держав, направленной против Советского Союза. Мистер Карлтон много говорил ему о предстоящей в скором времени войне между гитлеровской Германией и коммунистической Россией – войне, которая должна была покончить с коммунизмом и вместе с тем до такой степени ослабить Гитлера, чтобы он не мешал Соединенным Штатам. Однако до сих пор позиции немцев, как показал Мюнхен, лишь укреплялись. И это находило отклик в Бразилии, сказывалось на политике ее правительства, в результате чего Артур Карнейро-Маседо-да-Роша начал встречать серьезные препятствия при осуществлении некоторых проектов Коста-Вале и его американских друзей. Так, например, получилось с концессией на организацию новой авиационной линии в Европу: проект ее был разработан Карлтоном и Коста-Вале, однако под давлением немцев концессия была предоставлена итальянцам[159]. А дело с хлопком? О, это было скандальное дело, в котором оказались замешаны ближайшие помощники диктатора. Какой удар по американцам!.. Некий Лукас Пуччини, еще вчера мелкий чиновник министерства труда, заработал колоссальное состояние на этой операции с хлопком – мошенничестве, ставшем возможным исключительно благодаря режиму диктатуры и поддержке со стороны германских банков. Хлопок, который американцы надеялись скупить по низким ценам, как они это делали все годы, попал на этот раз в руки немцев, и цена на него оказалась страшно взвинченной. Немцы пытались подорвать некоторые предприятия Коста-Вале, глухая борьба велась даже среди членов правительства. Коста-Вале всячески стремился избежать конфликтов в настоящий момент, когда, как он считал, необходимо объединить все силы внутри и вне страны, чтобы покончить с коммунистами во всем мире и, в частности, в Бразилии. Однако он не боялся борьбы. Американцы казались ему солидными и решительными; в алчности немцев было что-то авантюристическое, почти легкомысленное – именно поэтому Коста-Вале не принял их предложений в Берлине. К тому же существовали и причины географического порядка: даже в том случае, если мир в конце концов окажется разделенным между американцами и немцами, Латинская Америка, а стало быть и Бразилия, останется в сфере влияния Соединенных Штатов. Шопел, который сохранял постоянство в своих симпатиях к немцам, хотя и работал теперь на американцев, верил в возможность того, что Бразилия окажется экономически связанной с нацистской Германией и ее политика будет направляться из Берлина Гитлером. Но Коста-Вале отвергал такую возможность, хотя поэт, вздымая вверх свои толстые руки, описывал будущий мир, как частную собственность Гитлера, Геринга и Геббельса. Несмотря на все эти разногласия, несмотря на международное напряжение, дела «Акционерного общества долины реки Салгадо» шли хорошо. В долине развертывалась деятельность компании, и хотя крупные работы по добыче марганца еще не начинались, средства поступали от других предприятий компании. Прибыли умножатся завтра, когда разразится эта неумолимо приближающаяся война. Когда она наступит, Коста-Вале начнет добывать марганец в долине, и немцам придется платить за него на американских рынках хорошую цену. И вот – в свете всех этих сложных событий, что представляют собой затерянные на берегу реки кабокло, как не какую-то незначительную деталь? Коста-Вале прочел на днях последнюю книгу Эрмеса Резенде, вызвавшую сенсацию в кругах интеллигенции: это было исследование о бразильской деревне, основанное на наблюдениях, сделанных социологом во время его путешествия в долину. Банкир был полностью согласен с выводами Эрмеса: лень – главная характерная черта крестьянства. Только прибытие иммигрантов могло бы обеспечить успех какому-либо серьезному начинанию в этом районе. Эрмес облек все это в форму рассуждений, носящих якобы прогрессивный характер: он проливал обильные слезы по поводу условий существования земледельца, но на земледельца же возлагал и ответственность за его нищенское положение. Он подрывал, таким образом, идею аграрной реформы, завоевывавшую все большую популярность в среде интеллигенции. Книга Эрмеса Резенде понравилась, однако, не одному Коста-Вале: она вообще имела большой успех. Сакила написал длиннейшую рецензию, в которой труд социолога анализировался с различных точек зрения и оценивался как самое значительное произведение бразильской демократической культуры. Шопел также разразился похвалами на страницах одной из газет. Что же касается критика Армандо Ролина, то он в своей рецензии буквально изливался в восторгах: «Эрмес Резенде своей выдающейся книгой поднял бразильскую культуру до новых, доселе недосягаемых высот. Эта книга заслуживает издания и на английском языке, чтобы весь цивилизованный мир мог оценить ее по достоинству». Группа интеллигентов во главе с Сакилой и Шопелом устроила банкет в честь Эрмеса Резенде. Только «Перспективас» – новый журнал, посвященный вопросам культуры, который начал выходить под редакцией архитектора Маркоса де Соузы, осмелился выступить против книги Эрмеса в статье, подписанной каким-то псевдонимом. Автор статьи разоблачал ее как антинаучный труд, как лжесоциологическое исследование и в заключение утверждал, что эта книга защищает феодализм, господствующий в сельском хозяйстве страны, и пропагандирует проникновение американского капитала в Бразилию. Статья эта вызвала шум, равный по своим масштабам успеху книги. Многие приписывали ее Сисеро д'Алмейде, иные расценивали статью как свидетельство разрыва коммунистов с Эрмесом. Появление журнала Маркоса де Соузы, издававшегося в Сан-Пауло, но широко распространявшегося и в Рио, пробудило большой интерес в среде интеллигенции. Этот журнал отличался от всех остальных: его страницы открыты не только для проблем культуры и искусства, но и некоторых политических вопросов, которые не могли не заинтересовать читателей. В первом номере журнала была опубликована пространная статья по поводу Мюнхенского соглашения, которое было охарактеризовано, вопреки оценке всех газет, как шаг к войне. Во втором номере различные деятели, в том числе занимающие видное положение в стране, высказались по вопросу о национальной промышленности. И все это – наряду с литературными статьями, поэмами, обсуждением вопроса о бразильском романе и т. д. Некоторые из опубликованных в двух первых номерах материалов дали основание для полемики, а статья о книге Эрмеса в третьем номере вызвала сенсацию – номер разошелся в течение нескольких дней. Маркос де Соуза был доволен: он чувствовал, что журнал – полезное дело. Он увлекся им и подолгу спорил с Сисеро по поводу материалов, которые предстояло опубликовать. Все это время он поддерживал связь с Жоаном и был очень взволнован, когда получил от руководства партии поздравления по поводу первых номеров. Руководители партии активно сотрудничали в журнале, от них и поступила статья об Эрмесе. Маркос был занят, с одной стороны, журналом, с другой – окончанием строительства группы небоскребов в Сан-Пауло для Лузитанского банка; он редко теперь бывал в Рио. За последние месяцы он виделся с Мануэлой лишь несколько раз. Поэтому Маркос поразился, получив письмо, в котором она сообщала ему свой новый адрес – в пансионе на Фламенго. Что произошло с Мануэлой, почему она оказалась вынуждена покинуть свою квартирку в Копакабане? Когда Маркос закончил постройки в Рио и прекратил свои регулярные поездки в столицу, он решил, что так, возможно, и лучше. Ему становилось все труднее и труднее относиться к Мануэле только как к другу, скрывать от нее свою любовь. Иногда он чувствовал к ней такую нежность, что не знал, как сдержаться и не высказать ей всего, что было у него на душе. Его удерживала одна мысль: Мануэла много выстрадала, он не имел права волновать ее сейчас, когда она едва пришла в себя. Он боялся говорить о любви, чтобы не обидеть ее. Разве она не считала его своим другом, от которого у нее нет секретов? Так было лучше – находиться от нее вдали, узнавая о ее жизни только из писем. Быть может, так ему удастся побороть любовь и она перейдет в дружбу, в которой нуждается Мануэла, – в то единственное чувство, на которое она способна после всего, что ей пришлось испытать. Однако, получив от Мануэлы неожиданное известие о переезде на другую квартиру, Маркос не удержался и вылетел в Рио. Оставив чемоданы в отеле, где он обычно останавливался, он побежал к Мануэле по ее новому адресу. Девушка протянула ему руки. – Неблагодарный! Что произошло? Почему она переехала? Но разве он не знает, что театральная труппа распущена? Они не захотели последовать совету Маркоса – выступать в кинотеатрах предместий с пьесами, которые могли бы заинтересовать народ, и в результате прогорели. Последний месяц они проработали даром. Это было печально, особенно сейчас, когда «Ангелы» – труппа Бертиньо Соареса – с таким успехом выступила в муниципальном театре с пьесой Юджина О'Нейла[160]. Теперь Мануэла получает скромное жалование статистки балета в муниципальном театре и не в состоянии оплачивать квартиру в Копакабане. Ей пришлось переехать в этот пансион, вот и все. Все? Нет! Она получила приглашение вступить в ансамбль «Ангелов», который ввиду достигнутого успеха преобразуется в профессиональную труппу. Но она отказалась, приглашение ей было передано Шопелом, который, помимо всего прочего, имел наглость прочесть проповедь по поводу ее знакомств… – По поводу твоих знакомств? – Да, по поводу того, что я теперь имею дело с коммунистами, что я и ты… ну в общем, ты понимаешь… – И она возмущенно закрыла руками лицо. – Я попросту его выгнала. Наговорила ему такого, что он никогда не рассчитывал услышать. Он ушел, доведенный до бешенства. Думаю, теперь больше никогда ко мне не обратится… – Да, незавидное у тебя положение… – пошутил Маркос, чтобы отвлечь ее от разговора о Шопеле, об «Ангелах», об этих недостойных намеках, о всей этой грязи, в которую все еще пытались втоптать Мануэлу. – Бедность не порок… – засмеялась Мануэла. – Важно при всем этом сохранить чувство собственного достоинства. Кстати, не только Шопел предложил мне помощь. И Лукас… – сказала она, понизив голос. – Твой брат? – Да. Похоже, что он очень богат. Так, по крайней мере, он мне сказал. Я сообщила, что переезжаю, и он пришел ко мне. Узнав, чем это вызвано, Лукас запретил мне покидать квартиру. Заявил, что сам будет ее оплачивать, что он в состоянии это сделать и нет причин, почему бы ему этого не делать. Лукас меня очень любит, ты ведь знаешь? – Но почему же ты не согласилась? Он твой брат, тут нет ничего особенного. – Я понимаю. Но, знаешь, Маркос, я столько пережила, что, мне кажется, я теперь – другой человек. Я ни от кого не хочу помощи, хочу сама себе зарабатывать на жизнь. В конце концов, у меня есть мое жалование, пусть, правда, скудное, но мне его хватает. Почему нужно жить обязательно в Копакабане, в отдельной квартире, а не здесь, в комнате пансиона? Лукас сразу начал строить планы – он хочет организовать для меня балетное турне, оплатить все расходы за свой счет. А я ничего этого не хочу. Я могу устроиться сама: мне обещан контракт в одной труппе, которая начнет свои выступления в начале года. Это хорошая труппа… – Она назвала имя известной артистки, ставшей во главе этой новой труппы. Никогда Маркос не испытывал к Мануэле такой нежности, как сегодня. Ему захотелось предложить ей деньги, чтобы она могла создать балетную труппу, – такую, о которой мечтает, дать ей те деньги, что она не приняла от Лукаса, как не приняла от Шопела приглашение вступить в ансамбль «Ангелов». Но он не сделал ей этого предложения: все равно она бы его наверняка отклонила, а он ни на мгновение не хотел смешиваться с теми, кто обращался к ней с нечистыми помыслами. – Почему ты молчишь? – неожиданно обратился к ней Маркос. Он взял ее за руку. – Как будет рада Мариана, когда она узнает. Она всегда так верила в тебя, Мануэла… – Мариана… – улыбнулась Мануэла. – Да, ей и тебе я обязана тем, что не превратилась в падшую женщину. Из меня хотели сделать проститутку или самоубийцу, а Мариана меня спасла… Ты что-нибудь знаешь о ней? – Да. Хорошая новость – у нее ребенок. – Мальчик? – Да. Его назвали Луисом Карлосом в честь Престеса. Я ее видел, она очень довольна… – Надо будет послать ей подарок для ребенка… Ты знаешь, Маркос, я так обрадована этим известием, будто у меня самой родился сын. Может быть, еще настанет день, когда и у меня будет ребенок… Мариана научила меня не отчаиваться. Маркое встрепенулся: – Ты кого-нибудь полюбила? – Да что ты, ничего подобного… Я живу, как монахиня, тебе это хорошо известно. – Однако какая-то легкая дрожь в голосе архитектора заставила ее задать вопрос: – Почему ты так думаешь? – Нет, я так не думаю… – Он рассмеялся застенчиво и смущенно; это не был его обычный непринужденный смех. Мануэла задумалась. Они вышли вместе, пообедали в ресторане, зашли в кино, но досидели только до половины сеанса, потом отправились пешком на Фламенго. Маркос был необычно молчалив, и Мануэла не могла понять, что с ним. – Ты что-то скрываешь от меня. Друзья мы или не друзья? Я от тебя никогда ничего не утаиваю, рассказываю все, что со мной происходит. Что тебя заботит? Ты не можешь мне рассказать? Это какая-нибудь политическая тайна? – Нет, у меня нет тайн… даже политических. Ты видела журнал? Как ты его находишь? Они заговорили о журнале, о шуме, вызванном рецензией на книгу Эрмеса Резенде, о новостях в литературных и артистических кругах. Была жаркая летняя ночь, под руку прогуливались парочки. Неподалеку от них у парапета набережной целовались двое влюбленных. Они так увлеклись поцелуями, будто для них не существовало ни прохожих, ни яркого электрического освещения. Увидев это, Мануэля улыбнулась; Маркос, однако, снова замолчал. Так они дошли до пансиона. – Не понимаю, что с тобой сегодня. Никогда тебя таким не видела… – еще раз озабоченно сказала Мануэла. – Да, нет, ничего особенного, просто много забот с журналом. Мы готовим четвертый номер. На этот раз у нас будет сенсационный материал о кабокло, обитающих на берегах реки Салгадо. Им в ближайшее время угрожает изгнание с земель, которые они расчистили и обрабатывали в течение многих лет. Суд в Мато-Гроссо решил, что эти земли принадлежат акционерному обществу Коста-Вале. Там побывал один журналист – некий Жозино Рамос, ты его не знаешь; он кое-что сфотографировал и сделал немало наблюдений. Это репортаж, который всколыхнет и Коста-Вале и американцев… Не знаю, допустят ли они, чтобы после этого журнал продолжал выходить… Кабокло будут изгнаны. Это страшная история. Ты даже не можешь себе представить… – Сколько печальных вещей на свете… – сказала Мануэла. – Не понимаю, почему это так. Как тяжела жизнь… – Тяжела жизнь… – как эхо повторил Маркос. Мануэла взяла его за руку. – Мы сегодня оба печально настроены… Надеюсь, завтра будем чувствовать себя лучше. – Завтра я семичасовым самолетом возвращаюсь в Сан-Пауло… – Возвращаешься завтра утром? Но ты ведь только что прилетел… А я-то думала, что проведешь со мной рождество… – Я прибыл только для… – он хотел было сказать «для того, чтобы повидать, тебя», но удержался, – …для одного срочного дела, и оно уже разрешено. У меня сейчас очень много работы в Сан-Пауло. Она смотрела на него, в ее взгляде сквозил тревожный вопрос. Маркос отвел глаза, он с трудом сдерживал себя: эта прогулка по берегу моря при свете луны была для него трудным испытанием, как совладать с собой и не сказать ей о своей любви. Он отвел взгляд и поэтому не заметил всей нежности, излучавшейся из голубых глаз Мануэлы. Он протянул ей руку. – Ну, до свиданья, Мануэла .. – Когда мы теперь встретимся? – Не знаю… как-нибудь… Я тебе напишу. Медленными шагами пошел он по набережной. Ей хотелось позвать его обратно. Прекрасна мягкая звездная ночь Рио – эта ночь, зовущая к любви, как бы толкала их в объятья друг к другу. На углу Маркос обернулся. Мануэла долго махала ему рукой. Он на мгновение остановился, но тут же пошел дальше. Мануэла опустила голову, глаза ее наполнились слезами. Что с ним? Почему он так странно держался? Так странно, что были моменты, когда она начинала думать… думать… Нет… Это невозможно, от него она не могла ждать ничего, кроме сердечной дружбы и братской ласки. У нее – печальное прошлое, как могла она надеяться, что он когда-нибудь сможет ее полюбить?.. Он помогал ей, у него золотое сердце, исключительная доброта… Ждать, чтобы он полюбил ее… Это такая же неосуществимая мечта, как и то, что ей когда-нибудь удастся создать свою балетную труппу. Она во всем терпела неудачу, так с ней было всегда: неудачной была ее безумная любовь к Пауло, принесшая ей столько страданий, когда не осуществилась ее надежда иметь ребенка; неудачной была ее театральная карьера. И теперь, когда ее снова захватила любовь, на этот раз настоящая, родившаяся в полном взаимопонимании, эта любовь оказалась невозможной, несбыточной мечтой. Она проведет рождество и новогоднюю ночь в одиночестве, Маркоса не будет с ней, а она так на это надеялась… Она останется одна, предоставленная самой себе… И, главное, она ни в коем случае не может допустить, чтобы Маркос обнаружил истинный характер ее чувств по отношению к нему, силу этой горячей любви, переполняющей ее сердце. Она его любила как друга, она и должна была проявлять себя только как лучшая из подруг. Когда она его полюбила? Этого она сама не знала, но в ночь, когда она шла с ним под руку по набережной Фламенго, чувствуя, что он молчит и страдает от неизвестной ей причины, она поняла, как много значит для нее Маркос, почувствовала, что полюбила его навеки… Это не была безумная девическая страсть, которую она испытывала к Пауло, страсть, полная иллюзий и обманов. Это была любовь, родившаяся в страдании, нежная, как дуновение ветерка, как старинная колыбельная песнь… Но она вынуждена скрывать ее в глубине души, заглушая стоны сердца, полного любви и страсти. Комендадора да Toppe проворно поднялась с кресла, протянула Маркосу худые, старческие руки, вглядываясь в него маленькими проницательными глазками. – Кто жив, тот, в конце концов, даст о себе знать… Я было собиралась поручить полиции вас разыскивать. Уже две недели, как я только и делаю, что звоню к вам в контору. Она старилась все больше и больше и, тем не менее, не утрачивала юной подвижности взгляда и жестов; напоминала собой старую морщинистую обезьянку, увешанную драгоценностями. Комендадора держалась с Маркосом одновременно и властно и фамильярно. Маркос начал оправдываться: когда комендадора позвонила ему по телефону в первый раз, он находился в Рио; затем был очень занят, никогда ему еще не приходилось так много работать – он до рождества должен сдать много проектов. Вот почему он не имел никакой возможности к ней приехать. В действительности же он сделал все от него зависящее, чтобы оттянуть эту встречу. Он знал, зачем вызывала его командадора: свадьба Пауло и Розиньи была назначена на конец января, и старуха хотела, чтобы Маркос взял на себя убранство ее палаццо для предстоящего грандиозного празднества. Маркос многое сделал для комендадоры: выстроил для нее целые кварталы домов. Но ни за какие деньги он не хотел принять участие в том, что было связано с Пауло Маседо-да-Роша: это представлялось ему оскорблением по отношению к Мануэле. Еще раньше он уже отказался участвовать в интимной вечеринке – холостяцком обеде, данном в честь Пауло его друзьями. Затея Бертиньо Соареса и Шопела закончилась шумным скандалом в ресторане. Пауло, напившийся так, что едва держался на ногах, начал, по своему обыкновению, бить бутылки, крушить столы и ломать стулья. Разумеется, скандал не получил отклика в газетах, но о нем шли толки в обществе. Этим праздником Пауло собирался открыть то, что поэт Шопел назвал «веселым месяцем прощания с холостой жизнью»: ряд обедов, кутежей, оргий, в которых должны были принять участие писатели, артисты, политические деятели. В высшем свете только и было разговору, что об этой затее; все находили ее очень забавной. Маркос пытался избежать встречи с комендадорой, но это оказалось невозможным. Старуха продолжала настаивать и назначила, ему приехать к обеду, на котором должен был присутствовать и Коста-Вале. Банкир тоже пожелал встретиться с Маркосом и обсудить с ним кое-какие строительные проекты. Маркос, здороваясь с комендадорой, в глубине залы увидел банкира. – Не принимаю никаких оправданий… Или вы хотите, чтобы мне пришлось отложить свадьбу Розиньи? – Отложить свадьбу, почему? Как я могу помешать свадьбе Розиньи? – Не прикидывайтесь дурачком… А декорирование дома? К архитектору подошел Коста-Вале. – Как поживаете, дорогой Маркос? За последнее время вас что-то совсем не видно. Они прошли в соседнюю залу, где их дожидались Розинья и Алина. В присутствии девушек разговор перешел на салонные темы и так продолжался в течение всего обеда, пока сестры не уехали на спектакль «Ангелов»; труппа Бертиньо Соареса пожинала в Сан-Пауло лавры. Собеседники перешли в гостиную и возобновили прерванный разговор – старая комендадора хотела получить от Маркоса проект декорирования ее палаццо и садов для свадебных торжеств: Бертиньо Соарес, Шопел, Мариэта и Пауло задумали превратить палаццо старухи в нечто похожее на дворец из «Тысячи и одной ночи», и Маркос должен был взять на себя осуществление этого плана. – Розинья в восторге от нашей затеи. Мы все рассчитываем на вас. Старуха сообщила ряд подробностей о подготовлявшемся празднестве: такой свадьбы в Бразилии еще не бывало. Сам начальник протокольного отдела Итамарати приедет руководить свадебной церемонией и грандиозным балом. Все приглашенные получат роскошные подарки; уже наняты лучшие повара; первоклассные парижские ателье круглые сутки шьют туалеты для невесты, ее сестры и приглашенных дам. Гости приедут даже из Европы, будут потомки старинной итальянской аристократии, наследники императорской короны Бразилии[161], не говоря уже о присутствии представителей аргентинского и уругвайского высшего общества; сам президент республики и все министры обещали быть на этом празднике, который должен продемонстрировать мощь паулистской индустрии и послужить символом объединения новых промышленников со старинными фамилиями времен империи и владельцами поместий. Все это комендадора перечисляла в тоне легкой иронии, как бы желая сказать архитектору: «Вы можете, если вам угодно, над этим смеяться, но все-таки мы сильны и могущественны». Однако Маркос и не думал смеяться: он молча выслушивал перечень первоклассных вин, выписанных в невероятном количестве из Франции, Испании, Чили, Италии, Португалии. Комендадора настойчиво подчеркивала грандиозный характер празднества: – Похоже, что весь мир хочет принять участие в создании счастья этих двух детей. Коста-Вале улыбнулся. – Вы истратите на это свыше тысячи конто. Я не против праздников, они необходимы, но… – Ну и что же!.. – перебила комендадора. – Было время, когда я ничего не имела и была бедна, как Иов. А разве у вас самого временами не возникает желания отомстить тому времени, когда вы были бедны? Я хочу устроить праздник, какого здесь еще никогда не видывали… Маркос еще раз извинился: он – не декоратор, для этого дела он не годится. Он архитектор, строитель домов, небоскребов, крупных ансамблей из камня и цемента. Это он умеет – ведь не одно здание он уже построил для комендадоры. Но преобразить дом и сады в волшебную сказку… нет, этого он на себя взять не может. Для большего блеска будущего торжества комендадоре следует обратиться к кому-нибудь другому; есть много хороших специалистов. И Маркос начал называть имена. Комендадора повелительным тоном прервала его: – Я хочу, чтобы на этом празднике все было самое лучшее. Чтобы на него работали самые умелые мастера: лучшие портные, лучшие повара и самый знаменитый архитектор. А самый знаменитый архитектор – это вы. Поручите декорирование тому, кому найдете нужным, но ответственность возьмите на себя… И кроме того, я уже дала в газеты сообщение, что вы осуществляете художественное оформление праздника. Маркос почувствовал раздражение: какое право имеет эта старуха миллионерша обращаться с ним, как со своими портными и поварами? – Вы поступили опрометчиво, комендадора, потому что я еще раз вам повторяю: я не декоратор и не возьмусь за эту работу. Равным образом я не соглашусь поставить свое имя под проектом, который выполнит кто-то другой. Простите, но таково мое последнее слово: я не могу принять вашего заказа. Маркос увидел на морщинистом лице комендадоры признаки гнева. Это же заметил Коста-Вале и поспешил вмешаться: – Что за вздор! Мелочь, которой незачем придавать значения… – Властным жестом он остановил комендадору, готовую излить свой гнев. – Комендадора капризна, она хочет, чтобы свадебное торжество ее племянницы было верхом совершенства по блеску, и она права. То, что она проявляет настойчивость, приглашая именно вас, следует расценивать как хвалу вашему искусству, сеньор Маркос. Но, с другой стороны, мне понятны и ваши доводы. Вы не декоратор, вы архитектор. Несомненно, он прав, комендадора. – Теперь он обращался к миллионерше, как бы заставляя ее сохранять спокойствие и не порывать с Маркосом. – Вы, желая похвалить вашего гостя, кончили тем, что обидели его. А у нас есть более серьезные вопросы для обсуждения с Маркосом, нежели декорирование празднества Розиньи. Поручите это дело Бертиньо Соаресу и Мариэте, они все сделают… Комендадора сдержала себя, ей удалось даже улыбнуться. – Хорошо, если вы отказываетесь, мне приходится смириться. Коста-Вале принес портфель, вынул из него бумаги и планы, разложил их на столе, сел, вытянул поудобнее ноги, провел рукою по лысине и заговорил спокойным тоном: – Теперь перейдем к более серьезным делам… Я читал ваш журнал: интересно. Даже очень интересно. В особенности последний номер с материалами о кабокло долины реки Салгадо. Этот репортаж принадлежит перу корреспондента газеты «А нотисиа», не так ли? – Бывшему корреспонденту. За этот репортаж его выгнали из редакции. Разве сеньору об этом не известно? – Мне? А почему я должен об этом знать? Какое я имею отношение к редакции «А нотисиа»? Он с минуту помолчал, как бы дожидаясь ответа на свой вопрос. Пристально посмотрел на Маркоса, словно принимая в это время какое-то решение. – Ну, хорошо, а если бы даже я знал? Ведь, в конце концов, этот журналист был послан газетой в долину сопровождать экспедицию. Ему было дано определенное задание. А он злоупотребил оказанным ему доверием и стал писать против тех, кто оплатил ему поездку… – Стал писать правду. – Сеньор Маркос, давайте говорить серьезно, для этого я вас и пригласил. Вы на меня работали, я вас уважаю, восхищаюсь вашим талантом. Как вы мыслите, какие у вас идеи, – это меня не интересует, это ваше личное дело. Вы напечатали репортаж о кабокло, в котором всячески поносилось «Акционерное общество долины реки Салгадо». Если бы я захотел, ваш журнал в настоящий момент уже не существовал бы. Скажу вам больше: он не закрыт только потому, что я этого не допустил. Вместо того чтобы прекратить издание вашего журнала, я предпочту убедить вас, что я прав. Да, горстка кабокло в долине, еще с полдюжины скрывающихся там от полиции преступников занимают земли, которые по закону им не принадлежат… – Движением руки он предупредил возражение Маркоса. – Подождите. Что полезного для страны могут сделать эти кабокло? Ничего. А что сделаем мы? Мы поселим там японских колонистов, превратим эти невозделанные пространства в огромные рисовые плантации. Там, где сейчас стоят глинобитные хижины, я хочу построить образцовые жилища для колонистов. То, чего я хочу, – это прогресс, цивилизация. Вы скажете, что на этом я и комендадора наживаем деньги. Конечно. Но разве это не справедливо? Мы ведь вкладываем свои капиталы в дело цивилизации этого дикого края. – За счет полей кабокло… – Не будьте сентиментальны… Вот взгляните сюда… – Он развернул карту. – Я хочу, чтобы вы разработали проекты построек, которые мне нужны в долине. Вот здесь, вдоль берега реки – дома для колонистов, а здесь, в центре работ – здания промышленных предприятий и административных учреждений. Заказ на несколько тысяч конто, контракт, превышающий все, что у вас до сих пор было. «Они позвали меня, чтобы купить», – подумал Маркое. Коста-Вале перешел к подробностям своего плана: называл количество домов для колонистов, число этажей служебных помещений компании, размеры домов для рабочих, служащих, инженеров. – Здесь возникнет целый город… Разве это не стоит ваших кабокло? Я мог закрыть ваш журнал. Вместо этого я предпочел убедить вас, пригласить сотрудничать в моем… в нашем деле… – Он показал на комендадору. – Уверен, что работа увлечет вас… «Если он примет предложения Коста-Вале – а как он может его не принять: ведь это целое состояние, только безумец его отвергнет! – то он согласится взять на себя и художественное оформление праздника…» – думала комендадора. «Они чувствуют на себе, что наш журнал существует и борется. Поэтому они хотят меня купить…» – думал Маркос и на этот раз даже не испытывал раздражения. Как-то во времена забастовки в Сантосе он почувствовал, что переживает внутренний кризис: его убеждения, симпатии, мечты о мире, где нет несправедливости и нищеты, противоречили всем его деловым связям с врагами его убеждений, работе для этих врагов. Но сегодня, когда банкир и комендадора предлагают ему контракт на огромную сумму, он чувствует себя более сильным, чем эти властители жизни: журнал оказался ощутимым и полезным, и только теперь он понял все значение слов товарища Жоана о растущих силах тех, кого представляют коммунисты. – Нет, все это для меня значит меньше, чем судьба кабокло долины. Вам это может показаться невероятным, но я скажу: я настолько же не гожусь для проектирования жилищ колонистов и зданий вашего акционерного общества, как не гожусь для декорирования свадебного празднества Розиньи. И по одной и той же причине: и то и другое основано на бедствиях и нищете тысяч людей. Я с удовольствием буду строить дома для кабокло долины, которые заменят им теперешние лачуги, но для этого у нас должно быть правительство, заботящееся о кабокло. А для вашего акционерного общества, которое даже не столько ваше, сколько американцев, я ни за какие деньги в мире ничего строить не стану! – Это неслыханно! – вскричала комендадора. – У вас хватает дерзости прийти и вести коммунистическую пропаганду у меня в доме!.. – Я пришел не по собственной инициативе. – И Маркос поднялся. – Спокойствие, – холодно произнес Коста-Вале, – спокойствие, комендадора. Маркос, будьте любезны, не уходите еще. Вам угодно быть вместе с кабокло и против нас – я не могу вам в этом препятствовать. Это очень жаль, потому что вы знаменитый архитектор. Однако смотрите, как бы вам потом не пришлось раскаяться… – Я не имею обыкновения раскаиваться. Коста-Вале улыбнулся своей обычной светской улыбкой. – Мы пока еще не враги, мы только противники. Время покажет, кто из нас прав. Прибытие Мариэты Вале, поглощенной заботами о приготовлениях к празднику, разрядило обстановку последних минут беседы. Маркос поспешил откланяться. Комендадора на прощание спросила его еще раз: – Итак, это ваше последнее слово? Коста-Вале проводил его холодным взглядом. Когда архитектор исчез за дверью, банкир сказал: – Я организую бойкот его конторы. Потеряв контракты, он сбавит тон и пошлет к чорту и кабокло и коммунистов. Пора начать учить этих господ. Комендадора согласилась: – Они зарабатывают на нас деньги и против нас же выступают!.. Пришли последние времена… Но кому же я поручу теперь декорирование праздника?.. 23
Все газеты единодушно утверждали, что палаццо комендадоры буквально преобразилось в волшебный сказочный дворец. Надо было воочию видеть его, чтобы оценить все это великолепие. О подобном празднестве в Бразилии еще не слыхали: его описаниями были заполнены иллюстрированные журналы, которыми жадно зачитывались в мещанских семьях. Каждая сеньора, присутствовавшая на свадьбе, получила на память какую-нибудь драгоценность, каждый сеньор – дорогой подарок. Портрет невесты в парижском платье красовался на первых страницах газет и журналов, и романтически настроенные девицы вздыхали, любуясь фотографией облеченного во фрак Пауло Карнейро-Маседо-да-Роша, с печальным видом стоящего перед алтарем. Сам кардинал приехал совершить обряд бракосочетания. Сотни гостей, высшее общество Рио, Сан-Пауло, Буэнос-Айреса, бразильская императорская фамилия, один европейский экс-монарх, находившийся проездом в Бразилии, – присутствовали на свадьбе. Один из журналов напечатал фотографии некоторых подарков, полученных молодоженами: дом в Гавеа – подарок комендадоры, автомобиль – подарок семьи Коста: Вале; затем следовал бесконечный перечень драгоценностей, серебряных и хрустальных сервизов и других даров. На многих снимках фигурировала и Мариэта Вале – даже на той, где молодожены засняты в момент посадки на самолет, который должен был доставить их в Буэнос-Айрес, где они собирались провести свой медовый месяц. Газеты писали о туалетах, обаянии, неувядаемой красоте жены банкира. После совершения брачного обряда Мариэта, поздравляя, обняла Пауло и шепнула ему на ухо: – Будь я на двадцать лет моложе, то это я сегодня выходила бы за тебя замуж… – Ты моложе их всех… – ответил он, замечая в глазах любовницы первые признаки старости. – Не задерживайся в Буэнос-Айресе. Я жду тебя. Мариэта была довольна. Пауло перестал говорить о назначении в Париж; женитьба заставит его вести более упорядоченную жизнь; впредь он будет принадлежать ей больше, чем до сих пор. Был доволен и Артур Карнейро-Маседо-да-Роша: этот выгодный брак снимал с него всякую тревогу за будущее сына. Теперь ничто не сможет помешать Пауло достичь самых высших постов в дипломатической службе, не говоря уже о пяти тысячах конто приданого Розиньи. И комендадора была довольна: она купила для своей старшей племянницы мужа из лучшей аристократической семьи Сан-Пауло. Наступит день, она купит мужа в таком же роде и для младшей племянницы. Таковы были ее честолюбивые желания, и она их осуществляла. Этот брак, о котором столько писалось (газетная хроника превратила жениха и невесту в героев романа для сентиментальных девиц или в персонажей американских фильмов), если верить газетам, – даже отвлек на время внимание всей страны от напряженности международного положения и от внутренних затруднений: все сосредоточилось на этих молодых людях, вступавших в брак. Один издающийся большим тиражом журнал напечатал в виде новеллы историю «романтической любви» Пауло и Розиньи как пример для всей молодежи. Это произведение начиналось так: «Они познакомились розовым вечером и сразу же почувствовали, что рождены друг для друга. Это была любовь с первого взгляда…» Один только Эузебио Лима, сидя у себя в кабинете в министерстве труда, казалось, совсем не был доволен шумихой, поднятой вокруг свадьбы, и, показывая на журнал, где была помещена эта новелла, говорил, обращаясь к Лукасу Пуччини и Шопелу: – Уверяю вас: это скандал, самый настоящий скандал! – Но почему? – спросил поэт, который объяснял себе неудовольствие Эузебио тем, что он не был приглашен на свадьбу. – Почему? Я вам объясню почему, сеньор Шопел, и вы, как человек умный, согласитесь, что я прав. Для чего эта невероятная шумиха, эти неслыханные затраты на свадьбу, о чем подчеркнуто, громко заявляется во всеуслышание? Только и разговоров, что об этой свадьбе, будто война в Испании уже кончилась, будто Гитлер никогда и не существовал, а война еще не стояла у наших ворот… – Он понизил голос. – И все это, когда в нашей стране люди умирают от голода… Зачем еще больше возбуждать ненависть простонародья? – Ты прав, – поддержал Лукас. – Мне пришлось в уличной толпе слышать не очень лестные комментарии по поводу этой свадьбы… – Комментарии? Это бы еще ничего!.. – Он выдвинул ящик своего рабочего стола, доставая из него листовки. – Вот почитайте-ка коммунистические материалы относительно этого празднества. Их распространяют повсюду – на фабриках, в рабочих кварталах, в предместьях… Он разложил на столе листовки: суровые памфлеты, полные гнева и осуждения. Шопел и Лукас склонились над ними. Эузебио взял одну из листовок и подал ее Шопелу. – Прочтите вот эту, Шопел, потому что в ней говорится и о вас. На днях мне пришлось присутствовать на профсоюзном собрании, само собою разумеется, контролируемого нами профсоюза: там секретарь – парень из полиции. Ну, так вот, даже на этом собрании один рабочий заговорил о свадьбе, о празднествах, о газетной рекламе. Он произвел подсчет: на деньги, затраченные комендадорой на этот праздник, она могла бы прокормить рабочих своих фабрик, не помню уж, сколько-то там месяцев; могла бы одеть, не помню, сколько тысяч человек… В общем, тщательно сделанные расчеты; они, знаете ли, произвели впечатление. Шопел нашел в листовке место, касавшееся его: «толстый, как свинья, питающийся объедками со столов богачей, разбогатевший на крови народа, он на свадебной оргии ел за четверых и пил за восьмерых…» Смуглое лицо мулата побледнело от страха. Дрожа, он пробормотал: – Но я… я же был нездоров… Я не мог ничего есть… Нелегальная листовка устрашила его: ведь, чего доброго, эти коммунисты придут к власти… Эузебио продолжал: – Доктор Жетулио очень хорошо поступил, не поехав на эту свадьбу. Комендадора всячески добивалась его присутствия. Но он знает, что делает… Лукас Пуччини, положив ногу на ногу, заговорил авторитетным тоном: – Эти люди очень отстали, они воображают, что живут во времена черных рабов. Они не видят, как изменился мир – теперь необходимо считаться с рабочими. Если мы сами не пойдем на какие-либо уступки, рабочие отнимут у нас все. Вот посмотрите, как поступаю я у себя на фабрике: обращаюсь с рабочими так, словно я сам один из них; всегда прислушиваюсь к их требованиям. Сейчас собираюсь открыть рядом с фабрикой ресторан с обедами по удешевленным ценам. Вместо того чтобы настраивать рабочих против себя, я делаю из них своих сторонников… И это вовсе не мешает мне наживать деньги… О своих успехах он говорил с явной гордостью: судьба ему благоприятствовала, дела его шли хорошо. Эузебио, отошедший на второй план перед своим бывшим протеже, поддержал Лукаса: – Именно так и надо поступать. Такова и политика доктора Жетулио с его законами о труде. Люди, подобные комендадоре, готовы перевернуть вверх дном весь мир, едва лишь слышат об этих законах. Они не понимают, что мы таким способом оберегаем их же деньги. Они не только отсталые люди, сеньор Лукас, они неблагодарные… В глубине души Эузебио никак не мог простить, что его не пригласили на свадьбу. Теперь он обратился к Шопелу: – Мы ведем здесь, в министерстве, огромную работу, направленную на то, чтобы помешать коммунистам контролировать профсоюзы, устраивать забастовки. Работаем и в министерстве, и в полиции. А эти люди выбрасывают миллионы на устройство празднества, не понимая, что этим они только дают пищу для коммунистов, прямо вкладывают им в рот… – Что касается меня, – сказал Лукас, – то я не использую богатства во вред своим рабочим. Напротив, они убеждены, что я залез в долги, чтобы только не закрыть фабрику, не оставить их без работы… Такова моя тактика: я такая же жертва, как и они; я также хочу социализма. Скажу вам: если бы у нас еще существовали политические партии, я бы основал социалистическую партию… – Он поднялся, засунул руки в карманы элегантных брюк и остановился перед Шопелом. – Дорогой мой поэт! Паулистские аристократы больше не играют никакой роли. Лучшее, что они могут сделать, – это уступить место нам, новым людям, людям нашего времени, времени Гитлера и национал-социализма. Они ничего не понимают, умеют только разрушать и тратить. Это «труха», как выразился о них доктор Жетулио. Сущая правда. Шопела это начинало развлекать. Когда Эузебио метал громы и молнии против публичного ажиотажа вокруг праздника, поэт подумал: «Он взбешен потому, что его не пригласили на свадьбу, что он не принят в высшем обществе». А когда Лукас Пуччини принялся ругать методы паулистских промышленников, Шопел объяснил это себе так: «Он не может простить Пауло, что тот спал с его сестрой; это, и только это заставляет его так говорить». Однако после того, как Эузебио показал коммунистическую листовку и Шопел нашел свое имя рядом с именами Коста-Вале, комендадоры, Пауло и мистера Карлтона и прочел про себя, что он – враг народа и «обожравшийся боров», он взглянул на дело иначе. «Они правы, – подумал Шопел. – Все это возбуждает народный гнев, а коммунисты этим пользуются». В его голосе прозвучал страх и одновременно горькая жалоба: – А я-то считал, что коммунисты уничтожены… Неужели нет никакой возможности покончить с ними?.. 24
«Нужно покончить с коммунистами» – таков был заголовок в вечерней газете, где описывались инциденты, разыгравшиеся на текстильной фабрике комендадоры да Toppe вскоре после свадьбы Пауло и Розиньи. Комендадора, желая, – как она об этом возвестила своим друзьям, – чтобы решительно все радовались по поводу великого события, купила большую партию макарон и приказала раздать их своим рабочим. Со дня свадьбы прошло уже две недели; на фабриках комендадоры шли толки о празднестве, о затраченных на него огромных суммах, о подаренных гостям драгоценностях, о виски и шампанском, которые текли, как вода. По рукам ходили коммунистические прокламации. На одной из них было две фотографии. На первой изображалась жалкая лачуга рабочего, его исхудалые, одетые в лохмотья дети; на второй – разукрашенное для празднества палаццо комендадоры, гости во фраках, декольтированные, увешанные драгоценностями женщины. Кричащий контраст этих двух фотографий вызвал среди рабочих озлобленные комментарии. Особенно возмущены были женщины – а они составляли на фабриках большинство, – вспоминая о дожидавшихся их дома детях, плачущих от голода. «Нет, не шампанское пьют эти господа, а кровь рабочих», – было написано в листовке, и работницы, читая у станков эти слова, с трудом сдерживали свое негодование. Тогда-то поэт Шопел, напуганный словами Лукаса и Эузебио, посоветовал комендадоре сделать что-нибудь для рабочих; пусть у них создастся иллюзия, что и они приняли участие в празднестве бракосочетания. Он поделился с комендадорой некоторыми соображениями Лукаса и Эузебио, выдав их за свои собственные, упомянул о коммунистических листовках. Коста-Вале, в кабинете которого происходил разговор, поддержал поэта: – Шопел прав. Вокруг этого праздника было слишком много шума. И тот же Шопел подал идею: каждому рабочему – пакетик с полкило макарон. Поэту хотелось жить со всеми в ладу, и уже давно он старался сделать что-нибудь приятное для Лукаса Пуччини. Благосостояние молодого человека возрастало; он все больше зарабатывал денег, укреплялся и его престиж, он был своим человеком во дворце Катете, – и, как знать, может быть, не сегодня-завтра он окажется полезным для Шопела? В тот самый день, когда Лукас поносил паулистскую аристократию, он рассказывал, что приобрел большую часть акций одной фабрики в Сан-Пауло, вырабатывавшей макароны и другие продукты питания. Шопел привез ему заказ комендадоры, и Лукас его поблагодарил, обещав доставить всю партию макарон расфасованными в изящных пакетиках, на которых будет отпечатано розовыми буквами: «Нашим добрым рабочим на память о свадьбе Пауло Карнейро-Маседо-да-Роша и Розы да Toppe». Несколько дней спустя торжествующий поэт явился к комендадоре. Мариэта Вале в эту минуту читала старухе письмо, полученное ею утром от Пауло, в котором тот описывал бесконечные приемы, устроенные в честь супружеской четы в Буэнос-Айресе. Она сердечно приветствовала поэта: – Еще неделя, Шопел, и они будут здесь… Шопел показал пакетик макарон с розовой надписью. – …и будут с восторгом встречены рабочими, которые примут их как своих благодетелей… Пакетик переходил из рук в руки. Сузана Виейра со своей обычной кокетливостью захлопала в ладоши. – Вот это любовь!.. Ах, как трогательно… – Идея Шопела… – похвалила комендадора. – Отличная идея! Наш поэт показал себя превосходным политиком! – Но какой, однако, расход!.. Полкило, не так ли? А сколько всего таких пакетиков? Шопел назвал цифру – несколько тысяч. Сузана пришла в еще большее возбуждение. – Каких огромных денег это стоит, комендадора? Настоящий дар матери своим детям… – Чего же хотите, моя милая?.. Надо подумать и о рабочих, – ведь, в конце-то концов, мы с ними связаны… – Огромные деньги… Но, несомненно, это красивый жест… – восхищалась Сузана. Шопел сообщил, что он уже велел сфотографировать для опубликования в газетах горы пакетиков, сложенные на фабрике Лукаса, и уже договорился с редакциями газет и агентством «Трансамерика» о репортерах и фотографах, которые явятся завтра на фабрики комендадоры присутствовать при раздаче подарков. В конечном итоге, заявил он, деньги, затраченные на макароны, окупятся той популярностью, какую стяжает себе комендадора, а это – выгодное употребление капитала. Поэт был наверху блаженства: благодаря своей идее продемонстрировал этим людям, что он им действительно необходим, не говоря уже о благодарности со стороны Лукаса Пуччини, выразившейся в десяти процентах комиссионных от стоимости макарон. «Поэту на сигары», – сказал Лукас, вручая ему чек. – На вашу почтенную голову, комендадора, изольются тысячи благословений! – торжественно заключил Шопел. Но благословения не излились. Журналисты, приглашенные Шопелом, позже рассказывали, а фотографии подтверждали их рассказ о неожиданной и бурной реакции рабочих, едва лишь, незадолго до окончания рабочего дня, началась раздача полукилограммовых пакетиков с макаронами. Раздачу производили служащие конторы. Фотографы заняли удобные позиции для съемки; журналисты готовились услышать от рабочих – и главным образом от работниц – слова благодарности по адресу комендадоры. Были розданы первые пакетики, произведен первый снимок: красивая блондинка-машинистка из конторы протягивает пакетик старой работнице-мулатке. В это время чей-то голос крикнул: – Это издевательство! Служащие, занимавшиеся раздачей, в удивлении остановились. Но управляющий фабрикой приказал им продолжать. Какой-то рабочий вскочил на станок, откуда он был виден всему цеху. – После того как они истратили свыше тысячи конто на жратву и пойло, чтобы набить брюхо богатеев, теперь суют нам эту дрянь? Сосут нашу кровь и еще хотят купить нас подачками!.. Фотографы снимали. Рабочий поднял руку с зажатым в ней пакетиком, швырнул его в сторону журналистов и фотографов. – Жрите сами ваши макароны, а нам платите столько, чтобы мы могли жить! Нам не надо милостыни! И, как по команде, со всех сторон в служащих конторы, в журналистов, в управляющего полетели пакетики с макаронами. Макароны рассыпались по полу у станков. Управляющий схватился за голову. В остальных цехах произошло то же самое: пакетики с макаронами летали по воздуху, а на складе готовой продукции мишенью для них послужил большой портрет комендадоры. Управляющему удалось ретироваться в контору, откуда он позвонил в полицию. Один из рабочих побежал по цехам, громко предупреждая: – Они вызывают полицию!.. Так как рабочий день кончился, рабочие поспешно стали расходиться. В несколько минут фабрика опустела. Оставались лишь журналисты, фотографы, конторские служащие. Пол был усыпан макаронами. Один из фотографов поднял несколько нерассыпавшихся пакетиков. – Сделаю себе в воскресенье макаронную запеканку… Управляющий говорил журналистам: – Вы, сеньоры, – свидетели, какие они неблагодарные твари! Этих людей остается только отправить в хлев. Они не понимают человеческого обращения. Прибыла полиция: три машины с сыщиками под предводительством Миранды. Принялись расспрашивать присутствующих. – Особенно неистовствовали женщины… – рассказывал один из журналистов, – …и, говоря между нами, что за нелепая мысль дарить рабочим по полкило макарон после устройства празднества в тысячу конто… – И не предупредив нас… – возмущался Миранда. – Разве можно устраивать такие вещи, не поставив заранее в известность полицию? Мы отрядили бы сюда несколько человек, и все прошло бы гладко… Миранда хотел выяснить, как начались беспорядки. Какой-то фотограф, как ему сказали, заснял рабочего, подстрекавшего массу. Где этот фотограф? Выступил вперед пожилой человек – старый фотограф из газеты. – Да, – объяснил он, – я пытался сделать такой снимок, но в самый момент съемки кто-то из рабочих швырнул пакетик и сбил аппарат. Это была неправда: он успел сделать снимок, но не хотел выдавать рабочего полиции. Однако личность агитатора установил управляющий: это – рабочий из мотального цеха; за ним уже следили, так как он не раз высказывал бунтарские идеи. Его зовут Маурилио. Имеются еще и другие мужчины и женщины, в достаточной степени подозрительные. Управляющий назвал имена. – Завтра, – пообещал Миранда, – мы произведем на фабрике чистку. Поэт Шопел узнал о случившемся от репортера агентства «Трансамерика». Это произошло в кабинете Сакилы, с которым Шопел разговаривал о поэзии. Поэт побледнел. – Какой ужас! Комендадора придет в бешенство. Сегодня же возвращусь в Рио, пока она меня еще не вызвала… Сакила рассмеялся. – А статья, которую вы собирались написать о «трогательном поступке комендадоры»? Вы, Шопел, – великий поэт, наш самый великий современный поэт. Но вы не знаете рабочих и ничего не смыслите в рабочем движении. Напишите лучше хорошую поэму, а коммунистов предоставьте мне… Сакила опубликовал, используя агентство «Трансамерика», серию статей, направленных против Советского Союза. Эти статьи, изобиловавшие громкими, псевдореволюционными фразами, появлялись в крупных буржуазных газетах, и цензура департамента печати и пропаганды с удовольствием пропускала их. Что касается Сезара Гильерме Шалела, то, действительно, эти события вдохновили его на поэму, которая была напечатана крупным шрифтом в новом роскошнейшем лузитано-бразильском журнале, издаваемом совместно португальским министерством пропаганды и бразильским департаментом печати и пропаганды. В этой поэме Шопел выражал свое безысходное отчаяние по поводу эгоизма людей, их холодной материалистичности: Мой бог, я от всего хочу отречься: От женщин, от мечтаний, от богатств… Хочу поэтом стать смиренным, одиноким… 25
Профессор медицинского факультета университета в Сан-Пауло Алсебиадес де Мораис, руководитель работ по оздоровлению долины реки Салгадо, не был удовлетворен положением дел и признавался в этом Венансио Флоривалу, когда они в канун карнавала[162] вместе летели на самолете из Куиабы в Сан-Пауло. Наедине с собой, в долине, говорил профессор владельцу фазенды, он долго размышлял о бразильских проблемах, об ответственности, возложенной на избранных – вершителей политических и экономических судеб страны. Размышления привели его к печальным выводам: никогда еще страна не стояла так близко к краю пропасти, никогда еще ей так сильно не угрожала катастрофа. – Сеньор доктор, не надо преувеличивать… Разговоры о том, что Бразилия находится на краю пропасти, я слышу с раннего детства. Но, как видите, и по сегодняшний день мы еще не скатились в эту пропасть… А теперь эта опасность грозит нам меньше, чем когда-либо: у нас сильное правительство; с политическими распрями, которые причиняли нам столько зла, покончено… Доктор покачал головой. – Покончено? Они никогда еще не были такими ожесточенными. Неужели полковник не видит опасности? Для профессора медицины она почти осязаема: рабочие никогда не были такими дерзкими, как теперь. Что он скажет об истории с макаронами комендадоры? Очень показательный случай. И даже в долине, в этой глуши, разве кабокло не продолжают занимать земли, которые правосудие объявило принадлежащими «Акционерному обществу долины реки Салгадо»? Кто мог подумать, что кабокло, вчера еще рабы, проявят такое упорство? И разве рабочие в долине не организовали уже свой профсоюз и не предъявили требований об удвоении оплаты сверхурочных часов именно сейчас, когда акционерное общество решило ускорить темп работ? – Да, эта история с кабокло – чистейшее безобразие. Я уже говорил Коста-Вале, что необходимо выгнать их вон, и как можно скорее. Но у него на этот счет свои соображения… – Очень спорные, полковник. И профессор излил душу в словах, которые у него никогда не хватало мужества высказать самому Коста-Вале: он боялся банкира. Коста-Вале – большой человек, говорил профессор бывшему сенатору, и он, Алсебиадес, принадлежит к числу его безусловных поклонников. Но, тем не менее, приходится признать, что его нынешняя политика может причинить стране серьезный ущерб: она, несомненно, усилит влияние коммунистов. Полковник удивился: – Но как, сеньор доктор, как? А вот как… Это политика американцев, политика Рузвельта. Она, может быть, хороша для такой великой, могущественной державы, как Соединенные Штаты. Я не стану отрицать достоинства американского правительства и его государственной системы, но для Бразилии такая политика опасна. Достаточно посмотреть, какими сомнительными личностями окружил себя Коста-Вале. Некоторые из них более чем подозрительны: например Эрмес Резенде и некий Сакила, выгнанный из партии коммунист, ныне – руководитель отделения агентства «Трансамерика» в Сан-Пауло. По существу, эти люди враждебны Новому государству, враждебны курсу международной политики правительства; все они – замаскированные заговорщики… Полковник принялся защищать Эрмеса Резенде: – Социолог – не коммунист. Правда, у него свои представления о социализме, несколько крайние. Но, в сущности, он славный малый, любит хорошо покушать, совершенно безобидный… – Безобидный… Не он ли назвал Гитлера «кровожадным зверем»? Профессор пришел в возбуждение: если и есть человек, способный спасти мир от красной опасности, – это Гитлер. А между тем что происходит? Ответственные влиятельные люди, такие как Коста-Вале, финансируют издательства, газеты и пресс-агентства, распространяющие так называемые демократические, а в действительности – прокоммунистические идеи. Издательство, основанное Шопелом и теперь находящееся в руках банкира, которое так хорошо начало свою деятельность с издания трудов Плинио Салгадо, теперь принялось печатать американских и английских философов, чьи экстремистские, подрывные идеи не останутся незамеченными для тех, кто прочтет хотя бы несколько страниц из их книг. Он, профессор Алсебиадес, во время своего пребывания в долине ознакомился с некоторыми произведениями этих врагов авторитарной формы правления… Издавать их – значит работать против самих себя; приставлять ружье к груди тех, кто только и способен выступить против коммунистов, приставлять ружье к груди фашистов – немцев Гитлера и итальянцев Муссолини. Профессор трагически развел руками: янки причиняют Бразилии великое зло, их влияние чрезвычайно опасно. – Но, сеньор доктор! Ведь у них – деньги, а мы зависим от этих денег… Нет, это не так, возражал профессор, деньги есть и у немцев, и немцы пытались вложить в Бразилии свои капиталы. Почему Бразилия продолжает оставаться в зависимости от Соединенных Штатов? Это чистейший абсурд, причины которого он не может понять. Немцы готовы финансировать индустриализацию страны, готовы помочь тому, чтобы Бразилия превратилась в великую державу. Немцам нужна могущественная, богатая, индустриализированная Бразилия, которая на американском континенте могла бы противостоять Соединенным Штатам. Каждый патриот легко поймет, какие преимущества дает сотрудничество с немцами. Сверх всего – гарантия быстрого искоренения коммунизма… Он не может понять, почему Коста-Вале, обладая землями долины реки Салгадо, предпочитает предоставлять их янки, имея возможность договориться с немцами… Результаты налицо: глухая борьба среди членов правительства, угрожающая даже его устойчивости, используется коммунистами в своих целях. Полковник Венансио Флоривал почесал покрытую седоватыми взъерошенными волосами голову: все это было чрезвычайно сложно. Конечно, профессор медицины в какой-то мере прав, но и Коста-Вале ведь не малое дитя: он не стал бы вбивать гвоздь без шляпки… Если он предпочел американцев, то, верно, прежде взвесил все возможности – в этом доктор Алсебиадес был уверен. А думать, будто действия Коста-Вале способствуют усилению коммунистов, – это дикий вздор. Самый непримиримый враг коммунизма в Бразилии – это Коста-Вале. Профессору нужны доказательства? Кто ходатайствовал перед доктором Жетулио о прекращении преследования Плинио Салгадо и других интегралистов после путча в мае 1938 года? Это был Коста-Вале, озабоченный тем, как бы коммунисты не извлекли для себя выгод из создавшейся ситуации. А что до него, Венансио Флоривала, он твердо убежден, что наступит час, когда все объединятся – американцы и немцы, Жетулио и Плинио Салгадо, начальник полиции и министр просвещения, Эрмес Резенде и профессор Алсебиадес. Это произойдет, когда Гитлер двинет свои войска на Москву… В этот час профессор увидит, что все подадут друг другу руки, чтобы сообща уничтожить коммунизм. И этот час скоро придет: бог не допустит, чтобы он не наступил… Самолет приземлился. Такси доставило путешественников к подъезду отеля, где останавливался Венансио. Была суббота накануне карнавала, и на улицах уже появлялись первые маски. На углах стояли продавцы серпантина и конфетти. В городе господствовало праздничное настроение. Венансио Флоривал, прощаясь с профессором, широко улыбнулся. – Забудьте ваши опасения, сеньор доктор. Постарайтесь в дни карнавала вознаградить себя за время, проведенное в скучном одиночестве в долине… Из такси, в котором он должен был ехать домой, профессор Мораис почти оскорбленно ответил: – Я осуждаю эту коллективную оргию, называемую карнавалом. Не собираюсь принимать в ней участия, – у меня есть свои принципы, полковник… Улыбка Венансио сменилась раскатом неучтивого смеха. – Вам же хуже, сеньор доктор! Небольшое развлеченьице никому не приносит вреда. Что касается меня, то я намерен закончить вечер в «Голубом шаре» в обществе Мерседес… Эти испанки – огонь! А я еще далеко не старик, сеньор доктор! 26
Почти в то же время Жозе и Мариэта Коста-Вале высаживались из другого самолета в Рио-де-Жанейро. Карнавал они всегда проводили в Рио. Этот праздник в столице нельзя было сравнить с карнавалом в Сан-Пауло. Карнавал – прежде всего, столичный праздник, а для Мариэты он еще означал возможность провести четыре дня в обществе Пауло: танцевать с ним на великосветских балах, пить шампанское, совершать всякие безумства, допускаемые во время карнавала, пьянеть от одного взгляда Пауло. Мариэта была возбуждена, ее истомило ожидание этих дней, она торопила носильщиков, грузивших чемоданы в авто. Она редко виделась с Пауло после его возвращения из Буэнос-Айреса. Молодожены провели в Сан-Пауло у комендадоры всего лишь несколько дней, и Мариэта имела возможность остаться с Пауло наедине только один раз в чудовищно жаркий вечер после долгого и обильного обеда. Ей хотелось ласки, а он чувствовал себя усталым, отяжелевшим от обеда и вина, его клонило ко сну. Но, разумеется, он был очень нежен, повторял ей заверения в любви, говорил о том, как он по ней скучал, но одновременно клевал носом и с трудом сдерживал зевоту. Она хотела, чтобы он рассказал ей о своих планах на будущее, но он не пожелал распространяться на эту тему, заговорил о другом и в конце концов заснул. Она, взбешенная, ушла от него и, вернувшись домой, разразилась слезами. Вечером явился Пауло: пришел просить прощения. Но дом был полон народу, и им удалось поговорить наедине всего лишь несколько минут в саду. Он просил у нее прощения, и она с восторгом простила. А потом Пауло и Розинья уехали в Рио, куда отправилась и комендадора, которой невмоготу было оставаться в Сан-Пауло, где до сих пор все говорили о «случае с макаронами». Из Рио Пауло прислал Мариэте письмо: он еще раз объяснял свое поведение в тот злополучный вечер влиянием чрезмерной усталости и снова клялся в любви. Очень нежное письмо, страстное, полное ласковых слов и непохожее на его обычные послания, исполненные злословиями по адресу знакомых – письма иронические и без всяких сентиментальностей. Мариэта объяснила тон письма раскаянием Пауло в недавней размолвке, связалась с ним по междугородному телефону, чтобы сказать, что она его уже давно простила, что никогда еще она так его не любила, как теперь. От телефонного разговора у нее осталось впечатление, что Пауло в это время нервничал. Но она тут же забыла об этой детали, поглощенная заботами о туалетах, заказанных ею для карнавальных балов. Теперь она вознаградит себя за длительную разлуку с Пауло! В Рио появится возможность встречаться с ним наедине, это не Сан-Пауло, где в доме банкира ежедневно собирается много гостей, здесь не потребуется исполнять обязанности хозяйки. Планы Мариэты были хорошо продуманы: она убедит молодого человека – она уже зондировала почву у комендадоры – оставить службу в Итамарати и посвятить себя управлению фабриками тещи. Она рассчитывала, что ей удастся убедить Пауло, и надеялась в лице комендадоры и Розиньи найти верных союзниц. Она спросит, что для него надежнее: продолжать ли дипломатическую карьеру, всецело зависящую от колебаний политического курса, или мало-помалу заменить комендадору во главе ее предприятий? Они встретились вечером на балу. Мариэта была прекрасна: маскарадный наряд Марии-Антуанетты очень шел к ее облику аристократической дамы. А бедняжка Розинья так и не могла научиться одеваться: даже самые дорогие туалеты к ней не шли, и она, сидя рядом с Пауло, молчаливая и подавленная, походила скорее на мещаночку из предместья, попавшую на бал по недоразумению, чем на миллионершу – супругу самого элегантного молодого человека. Мариэта улыбнулась при виде такого контраста – Розинью она совершенно не принимала в расчет. Маски расступились и дали пройти супружеской паре: Коста-Вале с Мариэтой подошли к столику, за которым сидели Пауло, его жена и Шопел. Мариэта продолжала усмехаться. «Боже, до чего неэлегантна Розинья! На это стоит посмотреть», – думала она. Шопел первым увидел чету Коста-Вале, поднялся и приветствовал Мариэту: – Ваше величество! Позвольте самому смиренному из подданных поцеловать вашу руку. Пауло и Розинья тоже поднялись со своих мест. Не успев еще поздороваться, Розинья от удовольствия захлопала в ладоши и начала рассказывать Мариэте: – Знаешь новость, Мариэта? Ах, нет! Ты не можешь еще ее знать – это секрет. Она только завтра будет напечатана в «Диарио офисиал»…[163] – Что такое? – бледнея спросила Мариэта. – Пауло получил назначение в Париж. Через две недели мы уезжаем… – Поздравляю вас, сеньор хитрец!.. – сказал Коста-Вале. – Париж – это стоящее дело… – Это – лучший свадебный подарок… – добавила Розинья. Оркестр заиграл самбу. Мариэта с трудом произнесла: – Потанцуем, Шопел? Поэт толстыми ручищами обнял ее за талию. Лицо его сверкало от пота. Несколько минут они танцевали молча. Мариэта механически двигалась в танце, не отвечая даже на бесконечные приветствия друзей и знакомых. Спустя некоторое время она спросила: – Ты знал об этом назначении? «Почему мне всегда приходится участвовать в развязках романов Пауло? Он развлекается, а я должен утирать слезы его возлюбленных!» – внутренне возмутился Шопел и ответил: – Я узнал об этом только сегодня… Воцарилось продолжительное молчание. Вдруг Мариэта сказала: – Я думаю тоже отправиться в Париж. Вот уже почти два года, как я не была в Европе… – Ах! Если бы и я мог поехать… – завистливо вздохнул поэт. – Принять ванну цивилизации на прославленных берегах Сены! – Затруднение для меня… – объясняла Мариэта почти совершенно спокойным голосом и с легкой улыбкой торжества на тонких губах, – затруднение для меня в занятости Жозе. Ему совершенно невозможно путешествовать. Но теперь я воспользуюсь отъездом Розиньи и Пауло и поеду вместе с ними… «Ага! От нее Пауло не так легко будет избавиться, это не Мануэла… У нее есть деньги и, кроме того, совершенно нет стыда…» – думал Шопел, высказывая вслух свое полное одобрение планам Мариэты: – Вы превосходно поступаете, дона Мариэта. Никому не вынести безвыездно два года подряд в Бразилии. Здесь задыхаешься, задыхаешься и тупеешь… Из-за своего столика, в одиночестве – Розинья танцевала с Коста-Вале – Пауло следил взглядом за Мариэтой. Предстояло мучительное объяснение с упреками и жестокими словами. Надо быть готовым к взрыву отчаяния со стороны любовницы. Но Париж стоит неприятного ужина… 27
Это случилось на второй день карнавала, когда на улицах царило особенно бурное оживление, когда, позабыв все на свете, весь город пел и танцевал; в этот день Жоан первый раз в жизни увидел своего сына. Трибунал безопасности приговорил Зе-Педро, Карлоса и остальных товарищей, арестованных в прошлом году, к тюремному заключению – от шести до восьми лет. Осужденные уже были отправлены на далекий остров Фернандо-де-Норонья, затерявшийся среди Атлантического океана между Бразилией и Африкой. Один лишь молодой португалец Рамиро еще оставался в Сан-Пауло в госпитале, так как был болен. Жестокие пытки, которым он был подвергнут, почти совсем его искалечили, и ему предстояла операция. После операции и его отправят в темном трюме грузового парохода на пустынный и суровый остров. Жозефу выпустили из сумасшедшего дома. Она не выздоровела. Жила у своих родителей и никого не узнавала, даже собственного ребенка. Тихая помешанная, она лишь постоянно повторяла слова, запечатлевшиеся в ее памяти в страшные ночи пыток. Со здоровьем Руйво тоже было плохо: он снова похудел, казалось, состоял только из кожи и костей; не переставая кашлял, каждый вечер его била лихорадка. Но он не жаловался, не бросал работу, и пришлось в порядке партийной дисциплины обязать его более или менее регулярно посещать доктора Сабино. В тяжелых условиях нелегального существования, в которых они все теперь находились, систематическое лечение было невозможно. После ареста Карлоса и Зе-Педро полиция не давала партийной организации ни минуты покоя. За последние месяцы она побывала по всем имеющимся у нее адресам, арестовывала людей направо и налево, избивала их, грозила им наказанием, обещала большую награду за выдачу Жоана и Руйво. Теперь, при отсутствии контроля со стороны парламента, полиции отпускались огромные средства; кадры сыщиков были утроены; огромная сеть шпионов и осведомителей охватила весь город: действовала на каждой фабрике, в домах, где почти все швейцары были связаны с полицией, в учебных заведениях – всюду. В таких условиях организовать встречу товарищей представляло собой сложную задачу; проводить собрания становилось все труднее: за квартирами сочувствующих шла постоянная слежка. Полиция зажимала партийную организацию в кольцо, затрудняла ей малейшее движение, настойчиво разыскивала районное руководство. Постоянные полицейские облавы влекли за собой аресты все новых и новых товарищей. Сделать на стене надпись стало отчаянным делом, почти неизменно заканчивавшимся арестом исполнителей, особенно с тех пор, как были введены в действие радиопатрули и машины с сыщиками все ночи напролет колесили по улицам. Полицейские агенты проникали на фабрики в качестве рабочих, и ячейки в полном составе попадали в лапы полиции, прежде чем рабочие успевали распознать провокаторов. Это была трудная, мучительная задача: заполнять постоянно образовывающиеся бреши в организации. Нередко случалось, что полиция арестовывала весь местный комитет, и тогда работа целого городского района оказывалась дезорганизованной. А вербовка новых кадров в таких условиях требовала особенной бдительности: ведь люди, связанные с полицией, только и ждали, чтобы их приняли в партию. Долгие месяцы молчаливой и упорной работы, месяцы без значительных уличных выступлений, когда самый малый успех обходился ценою свободы товарищей, ценою существования низовых ячеек. Трижды за этот период пришлось спасать нелегальную партийную типографию от напавшей на ее след полиции. В первые два раза успели спасти маленький печатный станок и шрифты. Но в третий раз пришлось бросить все шрифты, бумагу, уже отпечатанные материалы и почти из-под самого носа полиции, когда сыщики уже окружали дом, унести только один станок. Наступил тяжелый период, и на время пришлось прервать печатание листовок. Наборщики стали приносить в карманах из типографий, где они работали, шрифты, и так, мало-помалу, ценою повседневной самоотверженной работы была восстановлена партийная типография. Нечего и говорить, каких трудностей стоило находить помещения, где бы могли скрываться члены секретариата. Руководители – в особенности Руйво и Жоан – не должны были подолгу оставаться на одной и той же квартире: полицейские шпионы могли ее обнаружить. В этот период члены партии показали всю свою преданность делу. Нашлись, конечно, и такие, кто дезертировал, испугавшись тюрьмы, или заговорил, не выдержав пыток, но они составляли меньшинство. Члены партии сопротивлялись и продолжали работу. После событий на фабрике комендадоры полицейский террор стал еще более жестоким. Много рабочих было арестовано, а фабрику буквально наводнили агенты полиции. Демонстрация студентов на площади Сан-Франсиско в знак протеста против гитлеровской угрозы Чехословакии, была разогнана полицейскими дубинками. Для шпионской сети полиция использовала и членов бывшего «Интегралистского действия». Газеты требовали «еще более решительных мер для подавления коммунизма». Сыщики носили при себе фотографии Руйво, заснятые в один из его прошлых арестов; показывали их дворникам, швейцарам, прислуге, разносчикам, посыльным, добавляя, что изображенный на них человек выкрасил себе волосы в черный цвет. Фотографий Жоана у них не было, и тут им приходилось ограничиваться более или менее точным описанием его примет, полученным от Эйтора Магальяэнса. В таких условиях Жоан был вынужден со все возраставшим нетерпением дожидаться благоприятного случая для встречи с Марианой и своим сыном. Он решил для этого воспользоваться последним днем карнавала, когда весь город пел и танцевал. Жоану пришлось нарядиться в карнавальный костюм, надеть маску и в таком виде пройти по улицам, где веселилась толпа. На каждом шагу его останавливали, приглашая принять участие в круговой самбе или хороводе. Он вырывался и шел дальше: ему хотелось поскорее увидеть Мариану, прижать ее к сердцу; взглянуть на ребенка, о котором он столько мечтал. Наконец он добрался до места, где его ждала жена. Тихий квартал казался совершенно необитаемым, – должно быть, все ушли на праздник. Маркос де Соуза устроил встречу в доме одного сочувствующего, тоже архитектора, – своего приятеля. Маркос, прося предоставить ему помещение, рассказал приятелю только часть правды, и хозяин дома ничего не знал о том, кто такой Жоан. Мариана явилась сюда с ребенком еще с утра. Как только пришел Жоан, хозяин с ними распрощался: – Я ухожу на карнавал. Мой дом – в вашем распоряжении. Оставшись наедине, они слились в долгом и крепком объятии, неспособные в первый момент выговорить хотя бы слово. Глаза Марианы увлажнились. Ее рука гладила голову, худое лицо и волосы мужа. Жоан целовал жену в глаза, в лицо, в губы. Она с сокрушением смотрела на него: – Какой ты худой! Жоан улыбнулся. – Как ты хороша… Это была правда: никогда еще Мариана не представлялась ему такой прекрасной; материнство придало ее красоте новые простые и изумительные черты и сделало эту красоту совершенной. – Пойдем… – сказала она и потянула его за руку. В соседней комнате на кровати архитектора спал ребенок. Жоан замер на месте, затаил дыхание, глаза его застилало туманом, он еле видел. – Мой сын… – Он взглянул на Мариану. – Похож на тебя… К счастью, он в мать… – А глаза у него твои… – сказала Мариана. – Когда мне становится грустно, достаточно взглянуть в его глаза, и тогда кажется, что ты со мной. Он мне очень помогает, Жоан: целыми часами я с ним разговариваю. Я ему рассказываю, он отвечает лепетом… и это меня радует… Как хорошо, Жоан… Услышав голоса, ребенок проснулся, зашевелил ручками, открыл глазки. – Твои глаза, видишь? Точь-в-точь… В это время под окнами прошла, направляясь на карнавал, веселая компания в масках, и этот шум испугал ребенка. Мариана взяла малютку на руки, чтобы его успокоить. Жоан смотрел на мать и на ребенка, и сердце его учащенно билось. Он вспоминал, какой была Мариана два года назад, когда он ее впервые увидел, придя на день ее рождения для того, чтобы передать партийное задание. Сколько событий произошло за эти два года… И сама Мариана уже не была прежней неопытной девушкой, которая, поддавшись первому побуждению, отправлялась расписывать лозунгами стены, подвергая себя опасности. Теперь это была женщина-коммунистка, полная чувства ответственности, готовая без единого протеста перенести длительную разлуку с мужем. Жоан знал о том, как идет работа Марианы: ее комитет был самым активным в городе, ей удалось уберечь свою организацию от полиции, и даже в период беременности она не прекращала работы. Когда родился ребенок, она поручила его заботам матери и снова все свое время отдавала партии. Сколько раз приходилось Жоану слышать от товарищей, которые даже не подозревали об узах, связывавших его с Марианой, восторженные похвалы товарищу Изабеле (это была ее нынешняя подпольная кличка); ее выдвигали как пример самоотверженности, ума, революционной бдительности и серьезности характера. Он даже слышал историю об одном товарище – студенте, недавно принятом в партию, – который влюбился в Мариану и предложил выйти за него замуж. Жоану рассказали об этом случае, об отчаянии Марианы, не знавшей, как отказать юноше, не обидев его, и вместе с тем не открыть ему, что она замужем. Однако затруднение разрешилось само собой: живот Марианы увеличивался с каждым днем, молодой человек это заметил и все понял. По улице прошла вторая шумная компания масок. Ребенок вглядывался любопытными глазенками, стараясь определить, откуда исходят эти необычные для его слуха звуки. Мариана протянула сына Жоану. – Мама, которая целыми днями с ним возится, говорит, будто ты совсем не любишь маленьких… Жоан принял от нее сына. За него, за других малюток, за ребенка Жозефы борются они, стараясь изменить этот мир. Сейчас, держа на руках сына, он как бы осязал цель этой борьбы, смысл своей тяжелой, суровой жизни. Он нежно прижал к груди своего малютку. Мариана обняла сына и отца, склонила голову на плечо Жоана. Она заметила задумчивое выражение его потемневших глаз, оторвавшихся от малютки. – О чем ты думаешь? – Ты знаешь, с того дня, как он родился, мне ничего так не хотелось, как увидеть его и каждый день смотреть на него и на тебя тоже. Нужно ли об этом говорить? Мариана поцеловала мужа, нежно взяла из его рук ребенка. – Такой день наступит… И в этот день будет праздник куда лучше, чем нынешний карнавал… Так, втроем, они прильнули друг к другу. Ребенок улыбался Жоану, и глазки его блестели. А Жоан нежно прижимал к груди своего сына! 28
Тогда же, в феврале 1939 года, два человека встретились и узнали друг друга в толпе солдат и штатских на границе Франции и Испании. В ту зиму трагические колонны беженцев пересекали Пиренеи[164]. Нацистские летчики из легиона «Кондор»[165] кружились над уходившими людьми, били по ним из пулеметов, оставляя преступный след – трупы стариков, женщин и детей. Повозки, запряженные ослами и мулами, подталкиваемые уставшими людьми, детские коляски, превращенные в тележки, – самые разнообразные и примитивные средства передвижения были приспособлены для перевозки скудного имущества беглецов. Одеяла, простыни, тряпье, старомодные чемоданы, ящики, изображения католических святых – таков был их скарб. Вместе с ним везли парализованных дедушек и бабушек, а также новорожденных младенцев. Итальянские солдаты из фашистских легионов Муссолини и мавры генерала Франко свирепо преследовали по пятам беглецов. Случалось, что кое-кто отставал, тогда цепи вражеских солдат отрезали их от основной массы, и для них все было кончено. Белизну снега обагряла кровь. Под лишенными листвы деревьями лежали трупы. Женщина, еще совсем молодая, шла, неся на руках безжизненное тельце ребенка. Рядом с ней, опираясь на костыль, шел и плакал старик – может быть, дедушка мертвого малютки. Аполинарио, в форме майора испанской республиканской армии, старался поддержать порядок среди своих солдат. – Мы не беглецы. Мы отступаем как солдаты Республики, сохраняя дисциплину и порядок… Его авторитет был велик, легенды создавались вокруг имени этого молодого бразильского офицера; его подвиги были воспеты в боевых песнях. Вокруг снег и холод, голые скалы, страшная зима поражения, зловещие колонны отступавших. Аполинарио вспомнились описания другого отступления на северо-востоке Бразилии, в пору засухи[166]. Но здесь было еще страшнее: все население – тысячи и тысячи семей – покидало свою проданную родину, оставляя все, что любило, что составляло до сих пор его существование. Население уходило в чужие края, чтобы вновь начать жизнь в стране – с чужим языком, с чужими обычаями. Взоры обращались назад, на пройденный путь, как бы прощаясь с родными пейзажами, с землей отечества. Три роты республиканских солдат, последними пересекавшие Пиренеи, с трудом пробирались сквозь толпы беглецов. Аполинарио командовал одной из рот, и ему был дан приказ прикрывать отступление двух других рот и гражданского населения: франкисты приближались. Аполинарио сказал одному из своих офицеров: – За нами остается честь отступать, сражаясь. Покажем фалангистам, чего стоят республиканские солдаты… Они удерживали горный перевал, пока отступали две другие роты и охраняемая ими масса гражданского населения. Солдаты Франко и Муссолини рвались вперед, одержимые жаждой убивать. Их встретил сосредоточенный огонь роты Аполинарио. Так, сражаясь, защищая каждую пядь горной тропы, рота Аполинарио отступала к границе, давая время спастись гражданскому населению. Это были последние республиканские солдаты, и Аполинарио перешел с ними границу только после того, как ее перешел последний штатский. Французские крестьяне приносили испанским беженцам пищу и вино. Здесь, по ту сторону границы, уже находились две другие роты и огромная масса беженцев. Была ночь, мороз, ледяной ветер, голод. Солдаты срубали деревья и разводили костры, вокруг которых собирались измученные беглецы. И в эту ночь Аполинарио вновь повстречался с сержантом Франтой Тибуреком, ставшим теперь лейтенантом. Чех, руководивший группой солдат, которые раскладывали костры, тотчас же узнал своего старого знакомца. – Ба! Да это же бразилец… За годы войны Аполинарио видел столько разных лиц, сталкивался с людьми стольких национальностей, что в первую минуту не распознал, кто этот лейтенант, где он с ним встречался. – Так вы меня не припоминаете? Франта Тибурек, сержант, чех из бригады имени Димитрова в те времена, когда еще существовали интернациональные бригады… После их ликвидации я остался в Испании… Мы встречались с вами, вспомните… И вдруг вся сцена возникла в памяти Аполинарио: он вспомнил сержанта, перебегавшего поле и принятого ими за нациста – убийцу крестьянского семейства, вспомнил, как затем этот сержант дал ему газету с известиями о забастовке в Сантосе и как потом они вместе пили за здоровье Престеса и Готвальда. Они обнялись, и чех сказал: – Кончилась наша война… Но если они воображают, что она закончена навсегда, они глубоко заблуждаются. Наступит пора, когда испанский народ снова вернется к своим очагам, и в этот день я желал бы опять быть с ним вместе… Он обернулся назад, к испанской границе; где-то там далеко находилась могила Консоласьон – девушки из Мадрида, которую он любил. Так же, как и Аполинарио, после роспуска интернациональных бригад он оставался в Испании. Оторвал взгляд от испанской земли и пошел рядом с бразильским офицером. – Завтра мы должна отправиться в ближайший пункт – кажется, он называется Пра-де-Мольо – и там сдать оружие французским властям… Аполинарио утвердительно кивнул: – Да, я уже это знаю… Ледяной ветер проникал сквозь шинели, обжигал. Франта Тибурек вдруг остановился и неожиданно спросил: – А как идут дела в вашей стране? – Плохо. Фашистское правительство, полицейский террор. Убивают наших товарищей… Лицо чеха – честное лицо рабочего – отразило волновавшие его чувства. – Вы, конечно, знаете, что происходит в Чехословакии? Теперь, когда с Испанией покончено, Гитлер готовится напасть на мое отечество… С момента мюнхенского сговора я нахожусь в том же положении, что и вы… Мысли мои – в Праге. Эти лондонские и парижские политиканы продали и Испанию, и Чехословакию… – Они еще гнуснее, чем Гитлер… – заметил Аполинарио. – Трудно решить, кому отдать предпочтение: шакалам или тиграм… Они пошли молча. У зажженных костров грелись солдаты, женщины, старики. Одна женщина нежным голосом пела ребенку колыбельную песенку. Франта Тибурек сказал: – Так или иначе, но я возвращусь в Прагу. Партии сейчас очень нужны люди. Я возвращусь во что бы то ни стало. Там сейчас трудная пора. – Он закурил. – А вы знаете, что здесь происходит? Всех бросают в концентрационные лагери. – Знаю… – Голос лейтенанта громко и решительно звучал в тишине ночи: – В первые дни они еще могут дать некоторые поблажки. Но затем все сведется к тюремному режиму. Как будто преступники мы, а не Франко, будто мы – враги Франции… Я выполню долг солдата до самого конца, но после того как мы сдадим оружие, я попытаюсь бежать. Так или иначе, доберусь до Праги. И действительно, на следующий день французские жандармы приказали и солдатам и штатским отправиться в Пра-де-Мольо. Там уже их дожидались представители властей. Произошла печальная церемония сдачи оружия. Солдаты складывали винтовки на землю, некоторые при этом плакали. Поблизости от деревни участок земли был обнесен колючей проволокой: это лагерь, где им предстояло впредь находиться. Подготовку к побегу взял на себя Аполинарио. В качестве командира роты он пользовался некоторыми мелкими преимуществами: мог выходить из лагеря для переговоров с представителями власти. Нетерпение Франты Тибурека возрастало. Он дошел почти до отчаяния, когда в середине марта стало известно о вступлении гитлеровцев в Прагу и ликвидации Чехословацкой республики[167]. Аполинарио удалось добыть крестьянскую одежду для себя и для Франты. Французские товарищи снабдили их деньгами и адресами. В одну из ночей они бежали. В Париже они расстались: Франта пытался пробраться в Прагу, а Аполинарио даже не знал, куда ему направиться. Газеты писали о предстоящей войне Гитлера против Советского Союза. Нацисты угрожали Польше. Весна наступала при зловещих предзнаменованиях. – Прощай, друг… – сказал чех, обнимая бразильца. – Может быть, мы с тобой еще встретимся: ведь мир так мал… – Малы и мелки только некоторые люди… – возразил Аполинарио. – Видишь: со всех сторон опасность, нацисты наступают. И тем не менее, я никогда еще не был так уверен в нашей победе, как теперь. Мы потеряли Мадрид, потеряли Прагу, и все же, прощаясь с тобой, я уверен, что испанцы и чехи не побеждены. – Сталин хотел защитить Чехословакию, но Бенеш на это не согласился. Он, как и многие другие, предпочтет рабство у Гитлера власти народа. И все же никто не сможет помешать нашей победе. Я это знаю… – Мы идем трудной дорогой, пересекаем болото. Но конец этого пути – ясный и счастливый, я в этом уверен. На границе я видел одного старого крестьянина. Переходя на французскую землю, он обернулся к испанской земле и сказал: «До свидания, мы еще вернемся, мать!» Я испытывал малодушие, но эта фраза старого крестьянина возвратила мне душевное мужество. Франта Тибурек улыбнулся. – Да! Мы победим, потому что мы владеем идеей, а это – самое сильное оружие. И нет, мой друг, на свете такого ружья, пулемета или пушки, которые могли бы уничтожить идею. Вот почему никому никогда не удастся уничтожить Советский Союз, ибо он создан во имя идеи братства и счастья людей. Я надеюсь встретить тебя в один прекрасный день в освобожденной Праге, когда мы будем строить социализм в Чехословакии… – И он еще раз обнял Аполинарио и, по старому славянскому обычаю, расцеловал его в обе щеки. – Приеду, разумеется, приеду… – ответил ему бразилец. Поезд отошел от утонувшей в сугробах станции. Огни паровоза осветили снежную мглу. Аполинарио махал на прощание рукой и повторял: – До свидания, друг, до свидания… Глава седьмая  1
Маркос де Соуза с озабоченным лицом быстрой, возбужденной походкой шагал по комнате. Другой архитектор, нервно размахивая руками, повторял слышанные уже из стольких уст слова: – Нет, я не в силах понять… Это был тот самый архитектор, который во время карнавала предоставил свой дом для встречи Жоана и Марианы. Он искренне сочувствовал партии и относился к ней с таким энтузиазмом, что иногда даже проявлял неосторожность в разговорах и спорах: он не давал никому в своем присутствии нападать на Советский Союз или на коммунистов. Где бы то ни было, он всегда выступал в их защиту, не задумываясь над последствиями. Маркосу уже приходилось встречать его на улице, когда он во весь голос высказывал какому-нибудь реакционеру свое восхищение политикой Сталина. Вскоре после падения Мадрида он во время подписания контракта на постройку особняка для одного богатого испанского коммерсанта учинил форменный скандал, обнаружив, что его клиент – заядлый франкист. Он порвал контракт и бросил его в лицо остолбеневшему богачу, владельцу одной из крупных кондитерских города, со словами: – Для фашистов я дома не строю… Он объяснил потом Маркосу. – Представь себе, этот кретин предложил мне выпить по рюмке малаги за здоровье генерала Франко… А я еще не опомнился от падения Мадрида… Маркос при встрече рассказал об этом инциденте Жоану, и тот с удовлетворением улыбнулся – Вот видишь? С нами гораздо больше людей, чем мы думаем. Хороших, мужественных, людей, с твердым характером, готовых отказаться от денег и выгодных контрактов… Таких большинство, Маркос. А сакилы и эрмесы резенде – исключение… Нужно объединить всех сочувствующих нам людей вокруг журнала, способствовать их политическому развитию… Они хорошие люди, это несомненно, – думал Маркос, возбужденно расхаживая по комнате. Хорошие люди, честные, с твердым характером: именно поэтому нужно избавить их от сомнений, от охватившей их тревоги. Нужно разъяснить, чтобы они поняли. Но способен ли он, Маркос, разъяснить им все, убедить их? Если он сам многого не понимал, если сам терялся в догадках, если его сердце сжималось от горечи и только вера в Советский Союз, которая никогда ему не изменяла, позволяла рассеять сомнения… У него нехватало аргументов, а каждый из тех, кто обращался к нему, наслушался ужасов от троцкистов, от называвших себя «ультра-левыми» интеллигентов и просил объяснений и разъяснений. А некоторые даже не хотели его слушать, отшатнулись и от него и от журнала. Он получил три-четыре письма, содержавших одно и то же требование: «…настоящим прошу исключить мое имя из списка сотрудников вашего журнала…» Вот здесь перед ним молодой архитектор, его друг. Он нервно потирает руки, закрывает ими лицо, на котором отражается охватившее его беспокойство Прерывающимся от волнения голосом он заявляет: – Знаешь, на что это похоже? Будто на меня обрушился только что выстроенный мной дом… В той же комнате, сидя в том же кожаном кресле, дня два назад другой его друг сказал: – Это для меня так же ужасно, как если бы я, придя домой, застал жену в объятиях другого… Маркоса де Соузу обычно называли «создателем новейшей школы бразильской архитектуры». Действительно, по его стопам новатора шли последние выпускники архитектурных факультетов в Рио и Сан-Пауло. И, несомненно, его горячие симпатии к коммунизму способствовали возникновению антифашистских и антиимпериалистических настроений в среде архитекторов. Профсоюз архитекторов стал рассматриваться как антиправительственный форпост, и начальник полиции уже отзывался о нем, как о «гнезде коммунистов». Троцкисты и другие антисоветские элементы старались внести смуту в эту среду, они задавали провокационные вопросы: спрашивали, как могут современные архитекторы увязывать свои политические симпатии с принципами советской архитектуры, столь далекой от их взглядов и даже противоположной им? Однако эта интрига не находила отклика: с одной стороны, архитекторы имели, по правде сказать, слабое представление о советской архитектуре, а с другой – считали это частным вопросом, о котором можно будет впоследствии и поспорить. Многие из них – и это случилось с самим Маркосом де Соузой – были убеждены, что их формалистическая («передовая», как они говорили) архитектура является выражением революционного искусства. Реалистический характер советской архитектуры они объясняли самыми различными мотивами: климатом, стремлением удовлетворить лишь насущные нужды населения и т. д. Как бы там ни было, обращая свои взоры к СССР, они восхищались комплексом того, что там создано на благо человека, восхищались Советским Союзом, выражали ему свою солидарность. Расхождения в области архитектуры казались им второстепенными, не имеющими существенного значения. Важно было то, что там человек освобожден от голода, от тысячелетней эксплуатации, от тьмы невежества. Важна была политика мира советского колосса, преградившего путь Гитлеру и нацистскому варварству. – Нет, я не в силах этого понять… Словно все обрушилось вокруг меня… – повторил архитектор. Маркос де Соуза остановился у окна, открыл его, прохладный ветерок проник в комнату. На небе сверкали звезды, лунный свет серебрил деревья и освежал тихую ночную улицу. Маркос вдохнул чистый воздух, полюбовался великолепием ночи, затем повернулся к другу. – Что я тебе могу сказать? – Голос его был суров, лицо серьезно и почти торжественно. – Я все понимаю? Нет, я тебя не стану убеждать, что сам во всем разобрался… До этого далеко… И я стараюсь найти объяснение советско-германскому пакту[168], но еще не разобрался в нем как следует. Я еще не говорил ни с кем из ответственных товарищей. Друг перебил его: – Как все это понять? Я не нахожу никакого объяснения. У меня это никак не укладывается в голове, я не могу этому поверить, иной раз мне даже кажется, что все это только газетная выдумка. Но, к несчастью, это не очередная клевета, а правда… Маркос снова взглянул в ночную тьму, на далекое сияние звезд. Однажды – это было давно – он рассказывал Мариане о звездах, которые были видны из окон комнаты. Девушка ожидала конца заседания секретариата; как раз в ту ночь Жоан сделал ей предложение. Где-то она, Мариана, сейчас, в дни советско-германского пакта, в дни нацистского вторжения в Польшу[169], где она и почему бы ей не прийти повидать его, разъяснить значение всего этого? Где сейчас Жоан, почему он до сих пор не вызвал его, почему не вооружил его аргументами для ответа и на выпады врагов, и на жадные вопросы друзей? Где Руйво, почему он даже не ответил на взволнованную записку Маркоса? Чего бы он ни дал за то, чтобы только повидать одного из них, поговорить с ним… Ибо они-то – в этом Маркос уверен – были в силах разрешить его сомнения, сомнения его друзей. – Да, это нелегко понять. По крайней мере, нам, сочувствующим интеллигентам, которым близки интересы партии. – Он отошел от окна. – Одно верно: если они так поступили – значит, это лучшее, что можно было сделать. Значит, у них были для этого все основания; я в этом уверен. – Он остановил свой взор на молодом архитекторе, пристально посмотрел на него. – Я ни на мгновение не переставал верить советским людям. Они хорошо – лучше, чем мы – знают, что делают. Я уверен, что этим пактом они копают могилу Гитлеру, хотя нам здесь и толкуют, что они якобы протягивают руку нацизму. Если они это сделали, значит так надо… Я не могу всего понять, но у меня к ним полное и абсолютное доверие. – Его голос, и без того тревожный, звучал все более взволнованно по мере того, как он говорил. Он как будто раскрывал другу свою душу. – Когда я прочел это известие, оно меня потрясло, мне тоже не хотелось верить. Я вышел из мастерской и растерянно бродил по улицам, потом, однако, поразмыслил: разве я могу судить, какая политика лучше для пролетариата, для советского народа, для всех народов мира? Кто стоит во главе борьбы против нацизма – я или советские люди? Кому виднее – мне или им? Молодой архитектор слушал, покоренный искренностью Маркоса. – Я припомнил всю международную деятельность Советского Союза. Она всегда была искренней и правильной во всем. Почему же ей быть неверной сейчас? Только потому, что я не способен полностью разобраться в мотивах их поступков? Если я не понимаю, это вина моя, а не их. Ведь так бывает. – Он уселся рядом с другом. – Это напоминает одну историю, случившуюся со мной еще в детские годы. Мы всей семьей путешествовали по Европе. Отец мой был врачом, я его безгранично любил, мне казалось, что нет в мире вещи, которой бы он не знал. Стояла зима, в Германии был страшный холод. Однажды, когда мы шли по улице, я почувствовал, что отморозил руки. Я сказал об этом отцу, и тот посоветовал растереть их снегом. Мне это показалось нелепым: как можно растирать руки снегом, чтобы отогреть их? Мне даже показалось, что отец подшучивает надо мной. Но он был совершенно серьезен, и я сказал себе: если он это утверждает, значит так и есть; я ему верил. Нагнувшись, я взял снег и начал растирать руки. И когда я почувствовал, как они отогреваются, меня охватила радость от того, что я не усомнился в словах отца. Сейчас со мной происходит нечто подобное. Я верю в Советский Союз, знаю, что его руководители мудрее нас с тобой, мудрее всех этих безответственно болтающих людей… Нелегко было в те дни: в печати, по радио, в кругах так называемой «демократической» интеллигенции поднялась клеветническая кампания против Советского Союза. Газеты были полны комментариев о советско-германском пакте. Сакила в длинной статье, распространенной агентством «Трансамерика» и напечатанной на первой полосе крупнейшей газеты Сан-Пауло, изощрялся на тему о «кровавом разделе мученицы Польши между гитлеровской Германией и Россией». Те же люди, что хранили молчание по поводу мюнхенского сговора и уступки Чехословакии Гитлеру, теперь рьяно возмущались. Полковник Бек[170] внезапно превратился в героя и святого. Некоторые честные люди, которые не поняли причин заключения советско-германского пакта, отстранились от коммунистов, поддавшись пропаганде Сакилы, Эрмеса Резенде – тех, кто именовал себя «чистыми демократами» и «честными социалистами». Самому Маркосу довелось выслушать от Эрмеса горькие слова. Это было на следующий день после опубликования сообщения о пакте, когда Маркос обедал в ресторане с Сисеро д'Алмейдой. Эрмес случайно зашел туда и подсел к ним. Он только что прибыл в Сан-Пауло, чтобы сопровождать в долину реки Салгадо первую партию японских иммигрантов. Социологу хотелось собрать для своей будущей книги материал о впечатлениях японских колонистов от варварской земли Мато-Гроссо. Эрмес выразил свое глубочайшее возмущение пактом, словно Советский Союз обманул его, словно он, Эрмес, всегда был на стороне СССР и вдруг оказался покинутым им. Маркос рассердился, приготовился резко ответить, но Сисеро, улыбаясь, удержал его, сказав социологу: – Послушай, Эрмес, не разыгрывай драму. Советский Союз обращался ко всем – к Англии, Франции, Соединенным Штатам, предлагая заключить соглашение, чтобы сдержать Гитлера. Вспомни выступления Литвинова в Лиге наций. И что же? Вместо того чтобы принять предложения СССР, так называемая «европейская демократия» отдала Чехословакию и Испанию на съедение Гитлеру. Так чего же вы хотели? Чтобы Советский Союз дождался, пока Гитлер заключит соглашение с Соединенными Штатами и Англией и развяжет себе руки для нападения на СССР? – Ты мне эти истории не рассказывай… Если бы Россия не протянула руку Гитлеру, он не посмел бы напасть на Польшу. Этот пакт о взаимопомощи… – Не о взаимопомощи… О ненападении… – Это слова, которые опровергаются фактами. Возьми хотя бы раздел Польши между обоими… – Какой раздел Польши? Это было вторжение Германии в Польшу. Что сделал Советский Союз? Он защитил украинские и белорусские земли, присоединенные к Польше в конце прошлой войны. И этим спас жизнь многим тысячам людей… Но Эрмес Резенде не хотел считаться ни с какими доводами. Под конец он заявил: – Сегодня мне хочется стать начальником полиции, чтобы засадить в тюрьму всех коммунистов… В книжных лавках, в кафе, где собирались литераторы, – повсюду троцкисты, возглавляемые Сакилой, устраивали настоящие антисоветские митинги. Им удалось посеять смятение в кругах интеллигенции, которое охватило и сочувствующих коммунистов; многие в этот момент не знали, что и думать. Сам Маркос чувствовал себя неспокойно. Как он сказал своему другу архитектору, он ни на мгновение не усомнился в целесообразности заключения пакта о ненападении и вступления Красной Армии в Польшу. Однако у него нехватало доводов для того, чтобы отвечать на вопросы, которые с такой жадностью ему задавались. Сисеро был в отъезде, он пообещал прислать для ближайшего номера журнала статью, анализирующую пакт и разъясняющую его подлинный смысл. Но статья еще не поступила, а Маркосу до сих пор не удалось повидаться ни с Жоаном, ни с Руйво. Война началась, газеты пестрели крупными заголовками о нацистских победах; очередной номер журнала должен был выйти в ближайшие дни. Как быть? Это был первый номер после трехмесячного запрещения, наложенного цензурой. Когда журнал напечатал репортаж о кабокло долины реки Салгадо, для него был назначен специальный цензор. Раньше, для первых номеров, цензура носила более или менее формальный характер: гранки статей посылались в цензуру и в полицию и в тот же день возвращались с разрешением на опубликование. Но впоследствии стало значительно труднее. Цензор, очевидно, получил особые указания; это был адвокатик без клиентуры, столь же недоверчивый, сколь и неумный. Он находил скрытый смысл в самых простых фразах, безжалостно вычеркивал целые абзацы, запрещал опубликование всего, что ему казалось хоть в какой-то степени подозрительным. Было адски трудно издавать журнал. Для того чтобы выпустить один номер, надо было иметь материала на пять-шесть номеров: только тогда после цензуры хоть что-нибудь оставалось. Несмотря на все это, журнал оказался под запретом: в очерке о театре автор – бывший директор труппы, где работала Мануэла, – коснулся достижений советского театрального искусства. Поскольку очерк начинался с анализа деятельности американского и французского театров, цензор решил, что речь идет о вопросах, не имеющих существенного значения, и не прочел статью до конца. В результате журнал был запрещен на три месяца, а цензор уволен. Теперь на его место прислали другого, весьма сладкоречивого субъекта, но еще более недоверчивого, чем его предшественник. Он прочитывал все внимательно, стараясь разгадать двойной смысл фраз, вычеркивая красным карандашом отдельные слова и целые периоды. Приходилось по нескольку раз переделывать материалы, обращаться то к одному, то к другому автору, чтобы добиться их сотрудничества в журнале, работать целыми днями; только это могло обеспечить ежемесячный выход журнала. И все же, несмотря на эти затруднения и неприятности, журнал служил Маркосу де Соузе источником постоянной радости в жизни. Дело не в том, что его серьезно затронула кампания, начатая Коста-Вале: Маркос только пожал плечами, когда с ним расторгли несколько важных контрактов. К тому же это ограничивалось кучкой промышленников, связанных с банкиром. За последние годы Маркос заработал немало денег, у него хватало средств на жизнь, и перспектива потерять клиентуру нисколько не тревожила архитектора. Но даже и этого не произошло: представители высшего света Сан-Пауло и Рио продолжали обращаться к нему с заказами на постройку особняков и доходных домов. Маркос пользовался большой славой, и для этой публики было особым «шиком» заявить, что их дом построен по проекту знаменитого архитектора Маркоса де Соузы. Это даже повышало стоимость здания. По-настоящему печалило Маркоса отсутствие Мануэлы. Она уехала в Буэнос-Айрес с одной иностранной балетной труппой. Маркос бережно хранил в своем письменном столе почтовые открытки, которые она ему посылала. Он дал ей уехать, так ничего и не сказав, а теперь, возможно, потерял ее навсегда. Мысль эта навевала на него тоску, и он не раз собирался бросить все, сесть на самолет и полететь к ней в Аргентину, признаться в своей любви… Но что в этом было толку, если она любила его только как друга, да и это чувство за последнее время изменилось? Не то чтобы она стала относиться к нему менее ласково, не то чтобы она проявляла меньше радости при виде его. Нет, когда они встречались, он видел, что ее лицо сияет. Но действительно, с той ночи, когда он провожал ее по набережной Фламенго до пансиона, – ночи молчания и недомолвок, она как-то переменилась. Как будто она угадала чувства архитектора, – так, по крайней мере, думал Маркос, – и стала более замкнутой, словно какая-то странная тень омрачила их чистую дружбу. Маркос почувствовал это, когда позже раза два-три навещал ее в Рио, и поэтому решил видеться с ней как можно реже. Он был уверен, что она догадалась о его любви и почувствовала себя расстроенной, а возможно, оскорбленной или, по меньшей мере, опечаленной, ибо она не могла ответить на его любовь. Они регулярно переписывались, она рассказывала ему о своей жизни. Но виделись они очень редко: Маркос был занят в Сан-Пауло журналом и своими постройками, Мануэла продолжала выступления в муниципальном театре и ожидала заключения контракта с одной драматической труппой. В апреле произошло неожиданное событие: в Рио прибыл на гастроли выдающийся европейский балетный ансамбль, руководимый знаменитым балетмейстером. Директор ансамбля решил использовать балетную труппу муниципального театра, чтобы пополнить свой состав в массовых сценах. На репетициях он сразу обратил внимание на Мануэлу: это был мастер своего дела, умевший сразу распознавать таланты. Закончив репетицию, он попросил Мануэлу остаться на сцене. Заставил ее кое-что протанцевать. Покачивая головой, восхищенно следил за ней. – Mon Dieu![171] Вторично газеты заговорили о Мануэле. Некоторые даже вспомнили ее дебют два года назад. Но теперь газетные сообщения уже не носили сенсационного характера, они были более сдержанными и в то же время более вескими: в интервью, данном одной газете, знаменитый балетмейстер с похвалой отозвался о способностях Мануэлы, о ее неоценимом таланте. Она была, писал театральный хроникер, комментировавший слова знаменитого режиссера балета, «драгоценностью, затерявшейся в хламе, заполняющем подвалы муниципального театра». Мануэла подписала контракт на весь срок турне труппы по Южной Америке. Ее выступления в Рио-де-Жанейро в двух последних спектаклях явились подлинным триумфом. Публика, которая прежде, во времена романа Мануэлы с Пауло, называла ее «танцовщицей из варьете», теперь хвалилась тем, что якобы всегда признавала ее талант, а поэт Шопел (он послал ей огромную корзину роз) напомнил журналистам, что именно он открыл этот «блестящий талант». Когда Мануэле был предложен контракт, Маркос отправил ей телеграмму с горячими поздравлениями. Мануэла ответила длинным письмом, в котором рассказывала обо всем, говорила, как она счастлива, и в то же время выражала сомнения, подписывать ли ей контракт на такой длительный срок. Если она согласится, ей придется ехать с труппой в Монтевидео, Буэнос-Айрес, Сантьяго, возможно, в Гавану и Мехико. Месяцы и месяцы вдали от Бразилии… Однако ведь здесь ее ничто не удерживает, убеждал Мануэлу Маркос, специально прибывший в Рио, чтобы присутствовать на спектакле, в котором она выступала. Когда опустился занавес, и она после нескончаемых аплодисментов смогла наконец уйти со сцены, за кулисами ее уже ожидали поклонники: литераторы, люди, знавшие ее со времен Пауло и варьете, представители высшего света в смокингах, готовые «оказать ей покровительство», журналисты, театральные хроникеры, Лукас Пуччини, весь пышущий самодовольством от сознания своего богатства, и поэт Шопел в состоянии экзальтированного возбуждения. – Я хочу лобзать твои божественные ножки, о возрожденная Павлова! – восклицал Шопел. Однако она быстро освободилась от них всех, даже от Лукаса, и со слезами на глазах подошла к Маркосу, который поджидал ее немного поодаль. – Ты ждешь, чтобы пойти со мной? – спросила она голосом, прерывающимся от рыданий. – Да, конечно… Пока Маркос ожидал ее, Лукас Пуччини, выйдя из уборной Мануэлы, подошел к нему и поведал о своих планах в отношении будущего сестры. – Когда она вернется из турне, я выхлопочу для нее у доктора Жетулио театр. Мы организуем под ее руководством балетную труппу, и там она будет звездой. Доктор Жетулио ни в чем мне не отказывает, и у меня достаточно денег для финансирования труппы, а кроме того… – и он хитро подмигнул – … можно будет получить хорошую дотацию от Национального управления театрами. При моих знакомствах нет ничего легче… Хроникер Паскоал де Тормес, «страстный любитель балета», как он сам себя называл, с энтузиазмом поддержал эти планы. Он предложил Лукасу использовать его влияние как журналиста, чтобы потребовать от Национального управления театрами необходимой финансовой помощи. Маркос, знавший журналиста лишь понаслышке, посматривал на него с удивлением: неужели этот парень действительно красит себе губы, как женщина? И вдруг вся эта обстановка показалась ему грязной и недостойной Мануэлы, подобно тому, как в тот далекий вечер в роскошном отеле Сантоса он в разговоре с Бертиньо Соаресом ощутил всю низость окружавших его людей. Эта разлагающаяся буржуазия как бы загрязняла творческий труд, искусство любого таланта. Мануэла вернулась, простилась с Паскоалом и Лукасом («о твоих планах поговорим потом…»), подала руку Маркосу. – Увези меня отсюда… У артистического входа ее ожидали на улице другие поклонники: студенты, бедная публика с галерки. Когда она появилась, раздались аплодисменты, и это было для Маркоса как бы дуновением свежего ветра. Вот где была настоящая публика! – Что тебе хочется? – спросил он ее, когда они очутились вдвоем на авениде Рио-Бранко. – Поужинать? – Мне бы хотелось пройтись, если только ты не устал. Поговорить с тобой. Они пошли по направлению к Фламенго, как и в тот раз. Мануэла некоторое время шла молча, пока они не достигли сквера Глориа, затем заговорила почти шепотом – ночь эта имела для нее такое важное значение. – Любопытно, как все меняется в нашей жизни… – Маркос не прерывал ее. – Это был мой подлинный дебют. В тот раз разыгрывалась только комедия, грязная комедия. Я, как глупая девчонка, с ума сходила от радости. Думала, что отныне все будет цветущим и ликующим. Я даже и не представляла, что надо мной смеются. В тот вечер я танцевала для двух человек: для Лукаса и для… Пауло… – Имя своего бывшего любовника она произнесла с трудом. – Сегодня все было иначе… Сегодня я танцевала как бы вопреки им всем, понимаешь? – Понимаю… – Ты знаешь, как я удивилась, когда увидела столько людей, ожидавших меня за кулисами… Неужели мне никогда не освободиться от них, неужели, даже презирая их, я танцую для них? – Они снобы, ничего не смыслят в искусстве. Но поскольку тебя похвалил крупный иностранный балетмейстер, для них – это все. – Знаю… И это-то меня больше всего и угнетает. Получается, что все, что я делаю, как будто на ветер… – Но ведь не они же одни существуют на Свете… Ты видела, у выхода… – Да, для меня было подлинной радостью видеть этих людей, ожидавших меня у выхода, таких простых и искренних. Знаешь, когда я пожимала им руки, мне казалось, что я пожимаю руку Мариане… Они оба улыбнулись, как будто Мариана шла рядом с ними, направляя их разговор. – Я действительно танцевала в этот вечер для Марианы. Перед выходом на сцену я подумала: ей я обязана тем, что нахожусь здесь и танцую. Ей и… тебе… тебе, Маркос! Я никогда не говорила, скольким я тебе обязана. – И она взяла его руку и прижала к сердцу. – Мне ты ничем не обязана… – Маркосом владели самые противоречивые чувства. – Я тебе действительно обязан многим… – Друг мой… Теперь я знаю цену слову «дружба» – вы оба меня научили этому… Не только дружбе, но и другим чувствам… – Она сказала это и бросила робкий взгляд на Маркоса, но архитектор смотрел на небо, как если бы мысли его витали далеко. – Одно я тебе хочу сказать, Маркос: что бы там ни случилось, я никогда не обману вашего доверия – твоего и Марианы. Никогда никто не использует меня против вас. – А планы Лукаса?..– улыбнулся Маркос. – Ты думаешь, я соглашусь? Ты ведь знаешь, что нет… Она заставила его усесться на садовой скамейке, открыла сумку, вытащила большой пакет с деньгами. – Лукас дал мне это сегодня за кулисами. Сказал, что это от него подарок, чтобы я заказала себе платья для турне. Артистка, по мнению Лукаса, должна изысканно одеваться. Сначала я хотела отказаться… Ты знаешь… – Она замолчала, посмотрела на землю. – После того как Лукас вынудил меня лишиться ребенка, он для меня уже не тот, что прежде… – Маркос нежно погладил ее по голове. Мануэла снова взглянула на него. – Однако затем я поразмыслила и решила принять деньги. Не знаю, сколько тут, я не считала. Я хочу, чтобы ты передал их Мариане для партии. Я как-то узнала, что дочь Престеса находится у своей бабушки в Мексике[172]. Нельзя ли что-нибудь послать девочке? В общем, пусть делают с этими деньгами, что хотят. Если бы я могла помогать больше, помогать лучше… Маркос спрятал пакет в карман. – Я передам Мариане… – Он взял руки Мануэлы. – Когда же мы теперь снова увидимся? – Когда? – с волнением переспросила она. – Ах, Мануэла, если бы ты знала!.. – Что? – чуть ли не мольба послышалась в ее голосе. Но он высвободил ее руки и поднялся. – Ничего… Ничего… Она смотрела на него, – неужели он не понимает? Или он ее не любит, он ей просто хороший друг? Она тоже встала, и они молча пошли рядом. – Ты, должно быть, устала… – сказал он. – Иди, ложись, завтра я приду попрощаться с тобой… Она кивнула в знак согласия. Почему она не бросилась ему в объятия, не призналась ему в любви? Но ее прошлое стоит между ними, как стена, думала она. Мануэла снова опустила голову. Все, что у нее оставалось, – это ее искусство. На другой день, перед отъездом на аэродром, Маркос навестил ее в театре, в перерыве между репетициями. Она ему протянула газету, где Паскоал де Тормес в изысканном стиле расхваливал ее, а одновременно и поэта Сезара Гильерме Шопела, «этого Колумба новых талантов, этого выдающегося представителя нашей интеллигенции». – Какая гадость… – сказала Мануэла. Маркос тут же распрощался с ней: труппа должна была отправиться через несколько дней, и он не хотел присутствовать при ее отъезде. Он обнял ее, сказал несколько любезных слов, но ничего такого, что ему хотелось бы ей высказать. Она была не в силах вымолвить хоть слово. Внезапно вырвалась от него и вся в слезах убежала к себе в уборную. Маркос на мгновение замер в нерешительности, подобно растерявшемуся ребенку, потом медленными, тихими шагами вышел из театра. И вот теперь он страдал от ее отсутствия, жадно перечитывал аргентинские газеты, сообщавшие об успехах труппы и особенно выделявшие Мануэлу. Триумф молодой балерины превзошел все ожидания. Музыкальные и театральные критики не скупились на самые восторженные похвалы. Ее фотографии украшали обложки журналов Буэнос-Айреса. Маркос считал, что потерял ее навсегда, что она пойдет по своему пути, что с каждым разом они будут все больше и больше отдаляться друг от друга. Только журнал «Перспективас» интересовал Маркоса в этот период, и даже трехмесячное запрещение не умерило его энтузиазма. Он использовал это время на то, чтобы заказать переводы целого ряда иностранных статей, отредактировать и приспособить их к условиям Бразилии, и для того, чтобы обеспечить журнал отечественными материалами. Он хотел при возобновлении издания в сентябре выпустить сенсационный номер. Никогда он не вкладывал столько энергии в работу, как в эти три месяца. Как будто ничто другое не могло поднять его настроение, отвлечь от мыслей о Мануэле – ни архитектура, ни проекты новых построек, ни работа его мастерской. Только спустя много лет у Маркоса де Соузы наметился перелом во взглядах на свою архитектурную работу: он стал подвергать ее глубокому критическому анализу. Но уже и сейчас его перестали волновать проекты небоскребов для банков и крупных компаний, особняков для миллионеров, как будто он вкладывал в их замысел и разработку только свои познания, а не душу. Иногда он повторял самому себе: «Я старею» и думал о своих сорока годах – он был почти вдвое старше Мануэлы… Он отправил в набор часть материалов для номера, который должен был выйти после снятия запрета (плакаты, расклеенные на стенах, объявляли его выход в сентябре), когда началась война. И вот теперь вдруг началось смятение в кругах интеллигенции, почти внезапная изоляция коммунистов и сочувствующих, были брошены грубые обвинения по их адресу, создалась напряженная, неприятная обстановка… Маркос старался осмыслить происходящее. «Советские товарищи правы, они безусловно правы», – говорил он себе. Были моменты, когда все казалось ему ясным и доступным для понимания. Но, когда появлялся кто-либо из впавших в отчаяние друзей, Маркос чувствовал, что еще не может на все дать правильные политические объяснения, что еще не в состоянии убедить других. И его охватывало тревожное чувство: «Мы останемся одни, в изоляции…» Его беспокойство нарастало; время шло, гранки журнала уже лежали у него в мастерской, а ему все еще не удавалось установить связь с партией. Так было до тех пор, пока как-то к нему не пришел, наконец, связной и не условился о встрече. В далеком домишке в полночь его ожидал Руйво. При электрическом освещении лицо его казалось мертвенно бледным, но глаза горели – у него была повышена температура; рука, которую пожал Маркос, была как у скелета. Его хриплый голос звучал, как всегда, дружелюбно: – Ну, маэстро Маркос, как дела? – И, заметив тревожное выражение лица архитектора, спросил: – Что с вами? Больны? Или расстроены пактом? – Расстроен, очень расстроен… Руйво засмеялся, и смех вызвал у него тяжелый приступ кашля. – Из-за этого многие расстраиваются. Представляю себе, чего только ни говорят в кругах интеллигенции… Маркос упрекнул его: – Если вы это себе представляете, чем же объяснить ваше молчание? Вы даже не можете вообразить, в каком мы смятении… Мы совершенно изолированы, покинуты всеми. А вам понадобился чуть ли не месяц, чтобы назначить эту встречу… Они сидели друг против друга, Руйво дружески положил ему руку на колени. – Это мне нравится… Люблю критику… Но подумайте о другом, маэстро: о ком нам следовало позаботиться сначала, о вас или об основе партии – рабочем классе? Или вы полагаете, что враг работает только в вашей среде, что он не пытается посеять смуту, вызвать раскол в среде рабочего класса? Если бы вы знали лишь о половине той работы, которую мы проделали за это время… Маркос бросил беглый взгляд на Руйво: его ввалившиеся щеки больного, крашеные волосы, тяжело дышащая грудь – все это тронуло его, он почувствовал, что его раздражение исчезает. На что он мог жаловаться, живя в хорошем доме, великолепно питаясь, имея комфортабельный автомобиль, когда другие убивают себя на работе во имя построения нового мира? Он согласился: – Вы правы. Беру свою жалобу обратно. Руйво покачал головой – Нет, даже вся работа, которую мы провели, не может служить оправданием для задержки этой встречи. Мы должны были сделать это раньше. Но случилось так, что Жоана сейчас здесь нет, а я, вместо того чтобы встретиться с вами, больше недели пролежал в постели. В такую минуту и, представьте, – свалиться… Прошу понять и извинить меня. Маркос замахал руками: как он может просить у него прощения? – Мне следовало понять, что если вы еще меня не вызвали, значит не могли. – Расскажите мне все, что происходит среди интеллигенции, – попросил Руйво. Маркос начал рассказ, прерываемый вопросами собеседника и его краткими комментариями. Когда Маркос закончил, Руйво поднялся, но заговорил не сразу; перед ним в памяти как бы вставал весь рассказ архитектора. – Маркос, ведь это же прекрасно! – Что? – удивленно спросил Маркос. – Как это один из них сказал? «Будто на меня обрушился только что выстроенный мной дом…» Не так ли? И другой: «Как если бы я застал жену в объятиях другого!» Прекрасно! Вот как они любят Советский Союз, Маркос, – как свое творение, как свою жену! Неважно, что они в первый момент не разобрались. Они представители мелкой буржуазии, в голове у них еще много путаницы, они видят различие между Гитлером и Чемберленом, между Петеном и Муссолини. А между тем Гитлер и Чемберлен – оба псы, только один – английский бульдог, а другой – немецкая овчарка. Чего хотят ваши друзья интеллигенты? После того как французское правительство нарушило свое соглашение с Чехословакией, после того как европейские лжедемократы предали Испанию, после того как Советский Союз сделал все для заключения с Францией и Англией договора, чтобы обуздать Гитлера и не допустить войны, – чего же они хотят? Чтобы Советский Союз дождался, пока Англия и Франция подпишут договор с Гитлером о вторжении в СССР? На это наши советские товарищи не могли пойти, Маркос: это было бы преступлением против советского народа и против всех народов мира, это означало бы дать врагам революции оружие для того, чтобы уничтожить революцию. Он говорил с трудом, дыхание его было прерывистым, воспаленные глаза горели, бескровные руки покрылись потом, но слова были горячи, как огонь. «Он – это пламя», – подумал Маркос. – Наши друзья еще не разобрались. Они поймут, Маркос: факты докажут им правильность советской политики. И тогда у них появятся угрызения совести, оттого что они усомнились в Советском Союзе. Ты не должен расстраиваться, что они сразу не могут во всем разобраться. Факты дадут нам в руки аргументы, помогут разъяснить положение всем честным людям. Они поймут, как важен выигрыш времени, которое дало Советскому Союзу заключение этого пакта, а когда они это поймут, им станет ясно истинное значение ведущейся сейчас войны лжи и клеветы против страны социализма. И тогда они убедятся, насколько мудра советская политика. Одно доказательство у тебя уже перед глазами: если бы не эта политика, часть Украины и Белоруссии, находившаяся под властью Польши, сегодня была бы уже в руках немцев, вместо того чтобы быть освобожденной для социализма. Разве не так? Он перешел к доводам, разъяснениям, заставил Маркоса самого сделать критический анализ международного положения. Шли часы, а больной Руйво, только что вставший с постели, казалось, не чувствовал усталости. – Теперь я все понимаю, – сказал Маркос. – Я был уверен, что пойму, что найду объяснение… И теперь я могу говорить с другими, спорить… Он все более воодушевлялся: – Мы напишем для журнала передовую, против которой нельзя будет найти возражений! Мне кажется, мы не должны посылать ее в цензуру: там наверняка ее запретят. Надо нанести удар, напечатав эту статью любым способом, но минуя цензуру, выпустить журнал в продажу, а потом не беда, если его и конфискуют. Все равно днем раньше, днем позже, его запретят. Руйво не согласился с этим: – Ничего подобного. Наоборот, мы должны отстаивать журнал как можно дольше. Он нам очень нужен. Вместо того чтобы писать о советско-германском пакте, надо дать передовую о войне; в ней следует выступить в защиту мира, отстаивать необходимость сохранения мира, разъяснять опасность распространения войны. Что касается пакта… – Да, но как же нам с ним быть? Вовсе не говорить о пакте, будто нам стыдно касаться этого вопроса? – возмутился архитектор. Руйво поднялся и сразу вернулся с пачкой отпечатанных листовок. – Говорить о нем мы будем. Будем разъяснять его значение. Но это уже задача партии. Вот обращение партии по этому вопросу; распространите эти листовки среди своих друзей. И продолжайте работать над журналом, постарайтесь отстоять его. Нам сейчас придется трудно, маэстро Маркос, очень трудно. Реакционеры обрушатся на нас, как никогда раньше, даже в самые худшие времена. Они обрабатывают общественное мнение, стараясь изолировать, оклеветать нас, чтобы никто не выступил в нашу защиту, они стремятся подготовить путь для завоевания Гитлером мирового господства. Предстоят тяжелые времена. И журнал нам сейчас нужен больше, чем когда-либо. Маркос бросил взгляд на листовки: там были факты и аргументы, которые Руйво изложил ему в ходе беседы. Руйво продолжал: – Но эти тяжелые времена продлятся недолго. Скоро засияет солнце… И тогда всем станет ясна историческая перспектива, и ваши друзья будут славить Советский Союз… – Когда же это будет? Смотрите сколько стран уже захватил фашизм… Испания, Албания[173], Чехословакия… А что мы видим здесь… Реакционеры набрасываются на партию, как звери… Доживем ли мы до того времени, о котором вы говорите, или его увидят только наши внуки? Руйво улыбнулся. – Доживем ли? Значит, вы не осмысливаете назревающих событий? Разве вы не в состоянии уже сейчас предвидеть исход начавшейся войны? Помяните мое слово, маэстро Маркос де Соуза: через несколько лет наша партия станет легальной… Самой, что ни на есть легальной… – Вы так думаете? В самом деле? – Думаю? Нет, это не то слово. Я убежден! Неужели вы полагаете, что Гитлер завладеет миром? Или думаете, что Франция, Англия и Соединенные Штаты покончат с Гитлером и его шайкой убийц? Достаточно, Маркос, обратить взоры к Москве, чтобы увидеть будущее мира… 2
В первые месяцы войны, когда все газеты были посвящены, казалось, исключительно сообщениям о разгроме Польши и вероятном вмешательстве в военный конфликт Муссолини; когда из номера в номер печатались статьи, доказывавшие военную слабость Советского Союза, – в это самое время произошло событие, которому бразильская пресса уделила также много внимания: молодой португалец Рамиро бежал из госпиталя военной полиции, где он находился на излечении. «Опасному коммунисту удалось бежать», – возвещали крупным шрифтом вечерние газеты, публикуя большую фотографию Рамиро. Как только стало известно о побеге, полиция буквально обшарила Сан-Пауло, его пригороды, ближайшие города – она охотилась за беглецом. Кроме того, полиция тщательно разыскивала молодую красивую женщину (полицейские, видевшие ее в госпитале, единодушно говорили о ее красоте), которая два-три раза навещала узника; несомненно, она была соучастницей побега, потому что только она могла принести ему солдатскую форму. Переодевшись солдатом, Рамиро бежал. Он лежал в госпитале военной полиции, где наряду с ним лечились солдаты и сержанты этой же самой полиции; и в дни посещений больных – по пятницам – палаты наполнялись солдатами, приходившими навещать своих друзей. Именно на этом и был построен план бегства Рамиро. Мариана, выдав себя за его сестру – она старалась говорить с португальским акцентом, – добилась разрешения навестить его. Один из представителей администрации госпиталя, тронутый беспомощным и подавленным видом Марианы, разрешил ей беспрепятственно посещать «брата». За два посещения молодая женщина сумела тайком передать Рамиро солдатское обмундирование. После второго посещения Рамиро оделся в военную форму, и в тот самый момент, когда посетители должны были покинуть госпиталь, смешался с ними (солдат да и только!), прошел охрану, счастливо миновал часовых у дверей, откозырял им и исчез. Мысль о бегстве не оставляла его со дня осуждения. Когда трибунал безопасности вынес приговор, он находился в тюрьме, почти неспособный двигаться; после перенесенных пыток он нуждался в операции. Полицейский врач, осмотревший его, объявил о полной невозможности отправлять его в таком состоянии на остров Фернандо-де-Норонья. Сначала необходимо было его оперировать. Товарищ по заточению, Маскареньяс, после ухода врача, подошел и сел на край койки. Молодой Рамиро был печален: тяжело расставаться с товарищами, осужденными вместе с ним. Когда вошел доктор, он пытался подняться, – это ему не удалось. Маскареньяс спросил его: – Кажется, ты жалеешь о том, что тебе нельзя отправиться на Фернандо-де-Норонья? – Лучше отправиться с вами, чем оставаться здесь совсем одному. Маскареньяс, который во время болезни португальца относился к нему, как родной отец, сказал: – Да, здесь ужасно. Я чувствую, что задыхаюсь среди этих стен… – А в госпитале будет еще хуже… – с грустью произнес Рамиро. – Все равно нельзя будет выйти из палаты. – Как бы тяжело ни было на острове – все же лучше, чем здесь. Там, по крайней мере, есть свободное пространство, видно море… Я тоже предпочел бы остров. Однако не надо терять надежду… – А что же делать? – Из госпиталя можно бежать… – произнес Маскареньяс, понижая голос. Он любил этого юношу, как сына. Это он, Маскареньяс, ввел его в партию, был свидетелем его мужественного поведения в тюрьме в дни пыток. Этот юноша, почти мальчик, всего лишь полгода член партии держал себя как старый революционный боец. Рамиро мог быть полезен партии: он мог вырасти в крупного партийного работника. А в пору свирепых преследований, непрекращающихся арестов такой человек был бы драгоценным приобретением для партии. Узнав, что полицейские не решаются отправлять Рамиро в ссылку, Маскареньяс тотчас же сообщил об этом Карлосу и Зе-Педро и предложил им план побега юноши. Таким образом партия, с которой они поддерживали связь, была поставлена об этом в известность. Только маленький португалец Рамиро ни о чем не знал. Маскареньяс отложил разговор с ним до самого кануна своей отправки в ссылку. – Бежать? Ты думаешь, это возможно? – Вполне. Ты будешь находиться в госпитале военной полиции; надзор там не так тщателен, как в управлении полиции или здесь, в тюрьме. – Как это сделать? – Ты должен отправиться в госпиталь. И там ждать. Когда явится посетитель и выдаст себя за твоего родственника, не выражай удивления. Это будет кто-нибудь из партийных товарищей. Он обо всем с тобой договорится… В тот же самый вечер Маскареньяс, Зе-Педро, Карлос, учитель Валдемар, железнодорожник Пауло и некоторые другие товарищи были переведены в центральное управление полиции, откуда их и отправили на остров Фернандо-де-Норонья. Рамиро видел, как их увозили, но он уже больше не печалился, что не едет с ними: его целиком захватила мысль о побеге, надежда вновь вернуться к партийной работе. Обнимая его на прощание Маскареньяс сказал: – Если побег удастся, работай и борись за нас всех! Рамиро с нетерпением дожидался перевода в госпиталь и еще с большим нетерпением – обещанного посещения партийного товарища. Но этот товарищ явился лишь после того, как Рамиро оперировали. И оказался не им, а ею. Комитет, где работала Мариана, взял на себя подготовку побега Рамиро. Один из товарищей предупредил Мариану. – Чем меньше лиц будет в это замешано, тем лучше. Мариана долго обдумывала поручение и в конце концов решила взять на себя самую опасную его часть: установление связи с Рамиро. Она отправилась в госпиталь, выдала себя за сестру арестованного, сумела растрогать дежурного и добилась разрешения на свидание. Она села у постели Рамиро, в тот день впервые поднявшегося после операции. В течение нескольких минут она держала себя так, будто действительно была его сестрой: говорила о семейных делах, сообщала вымышленные домашние новости, пока не убедилась, что их никто не подслушивает. Тогда она посвятила его в план побега. На следующей неделе она принесла ему, спрятав у себя под платьем, необходимую для побега одежду. Снабдила его деньгами, заставила выучить наизусть нужные адреса, даже вручила ему маленький револьвер. В пятницу она принесла ему солдатское кепи и сказала: – На той неделе нужно попытаться. Авто будет ждать на втором углу, направо… Прощаясь, она крепко пожала ему руку. – Все пройдет хорошо… Он удержал ее. – Если меня схватят, не беспокойся. Я не выдам. Мариана улыбнулась. – Я в этом не сомневаюсь. До свидания, мы еще встретимся. Для Рамиро это была неделя страшного нервного напряжения. Особенно, когда врач в понедельник освидетельствовал его и сказал: – Ну, молодой человек, настало время встать на ноги и возвращаться в казарму… Завтра я уже могу тебя выписать, освободим место для другого. Рамиро побледнел: все его планы рушились. Его волнение было настолько явным, что врач спросил: – В чем дело? Ты не хочешь вернуться домой? – Сеньор доктор… Я не солдат… Я арестованный… Политический… Я уже осужден. Выйдя отсюда, я буду отправлен на Фернандо-де-Норонья. Приговорен к восьми годам. Врач внимательно вгляделся в юношеское лицо Рамиро. – А что такое, чорт возьми, ты сделал, чтобы заработать восемь лет? – Принимал участие в забастовке, меня осудили как коммуниста, – ответил Рамиро, пытаясь расположить к себе врача. – Сеньор доктор, будьте добры, позвольте мне остаться здесь до конца недели. В пятницу ко мне придет сестра. Если к этому времени меня отправят в ссылку, я уже не смогу ее увидеть перед отъездом. А вы, сеньор, знаете: мало кто возвращается с Фернандо-де-Норонья… Врач покачал головой. Рамиро показалось, что он ему отказывает, и тогда португалец в мольбе сложил руки: – Сеньор доктор! Вы врач, ученый человек. А я простой рабочий и осужден за то, что просил прибавки заработной платы. Мне предстоит прожить восемь лет, не видя своей семьи. Дайте мне возможность остаться здесь на три дня, и я смогу хоть еще раз увидеться с сестрой. Врач, продолжая покачивать головой, бормотал: – Совсем ребенок… восемь лет… Боже мой!.. В это время вошел санитар, находившийся в соседней палате у другого больного. Врач обратился к нему: – Вот этот больной должен еще остаться здесь на неделю или дней на десять. Медленно рубцуются швы. Слегка кивнул головой и вышел. Рамиро вздохнул свободно. В пятницу он бежал. «Я должен бороться за себя и за моих осужденных товарищей, за Зе-Педро и Карлоса, за Валдемара и Маскареньяса!..» 3
Коста-Вале вышел из автомобиля, быстрыми шагами пересек садик перед палаццо и вбежал в открытую дверь, прямо в гостиную, где его уже дожидалась комендадора да Toppe. – Он приедет! – необычно взволнованно сказал банкир старухе миллионерше, пожимая руку. – Артур только что мне сообщил об этом по телефону… – Садитесь, – пригласила комендадора. – Что вы предпочитаете перед завтраком? Виски или коктейль? – Виски… Лакею было отдано распоряжение; комендадора сделала знак своей младшей племяннице, чтобы та вышла. И только после этого, оставшись наедине с банкиром, она дала волю своей радости: – Он всегда все сумеет устроить… Этот Артурзиньо со всеми его дворянскими глупостями в некоторых случаях совершенно незаменим. Он один умеет убеждать Жежэ. Говоря откровенно, я уже перестала надеяться: Жетулио теперь настолько на стороне немцев, что я боюсь, как бы, проснувшись в одно прекрасное утро, нам не пришлось узнать, что, поддерживая Гитлера, он ввязался в войну. – Приезд мистера Карлтона облегчил работу Артура. Американцы встревожены тенденциями Жетулио. Если он будет продолжать в таком же роде, то, дорогая, придется на его место поставить кого-нибудь другого. Судя по тому, о чем мне намеками сообщил по телефону Артур, американское посольство произвело нажим на Жетулио. А сообщения о прибытии Армандо Салеса в Буэнос-Айрес и отклики, вызванные в американской прессе его манифестом, также подтвердились… – Что за манифест? – Армандо выпустил манифест, – его написал наш милейший Тонико Алвес-Нето. Они вместе приехали из Португалии в Аргентину. Манифест обвиняет Жетулио в том, что он проводит пронемецкую политику и изменяет политике доброго соседства с Соединенными Штатами. Далее в манифесте Армандо представляется американцам как человек, способный заставить Бразилию выступить на стороне союзников. Нью-йоркские газеты зааплодировали и воспользовались случаем, чтобы ударить по Жетулио. Очевидно, он встревожился и решил принять участие в нашем маленьком празднестве. – Очень хорошо. Что касается меня, мне хочется, чтобы эта война продолжалась возможно дольше. Ведь это настоящая золотая жила, мой друг. Я экспортирую текстиль в Южную Африку настолько интенсивно, что мне пришлось увеличить штат для сверхурочных работ. И фабрики мои работают день и ночь… – Хитрые глазки комендадоры блеснули лукавым огоньком. – Ведь мне нужны денежки, чтобы покрыть затраты Пауло и Розиньи в Париже. Вы не можете себе представить, какие огромные счета… Этот дворянчик дорого мне стоит. У него совсем нет рассудка. Вы слыхали о его последней истории? – Какой истории? – спросил банкир, мало заинтересованный тем направлением, которое принимал разговор. – Пауло в пух и прах разнес одно кабаре на Монмартре. Я думала, вы должны об этом знать, – ведь там присутствовала Мариэта. – Возможно… Она в одном из писем что-то об этом упоминала. Хорошенько не помню. – Какой ужас! Кажется, Пауло напился шампанского, и, когда ему объявили, что наступил час закрытия кабаре, он не пожелал уйти и, по своему обыкновению, начал все бить и крушить. А счет прислали мне, чудовищный счет! К счастью, благодаря войне мне совсем не приходится жаловаться на барыши. Иначе этот дворянский отпрыск получил бы у меня на орехи… – Простое мальчишество… – процедил сквозь зубы Коста-Вале, желая перевести разговор на интересующую его тему. Но комендадора продолжала свое: – А Мариэта? Когда она вернется? – Она на днях должна выехать из Лиссабона. – Мне очень хочется, чтобы она поскорее приехала – сообщила мне новости о Розинье. Супруга довольна? Коста-Вале сделал нетерпеливое движение. – Думаю, что да. Однако, комендадора, поговорим о серьезных делах. Я распорядился вызвать Венансио Флоривала – нам необходимо поселить в долине японцев до приезда Жетулио. Нужно договориться сейчас, потому что завтра нам предстоит все это обсудить с Карлтоном. Он прибудет с первым же самолетом вместе с Артуром. Нам надо о многом переговорить. – Он взялся за портфель, принялся извлекать из него документы. Комендадора придвинула кресло. Наконец-то «Акционерное общество долины реки Салгадо» должно было официально начать разработки марганца, и президент республики обещал присутствовать на торжественной церемонии открытия. Его приглашали в долину еще в то время, когда на строительстве закладывался первый камень, но тогда это не удалось: полиция, встревоженная разоблачениями Эйтора Магальяэнса, отсоветовала президенту туда ехать. Но с тех пор прошло много времени, все в долине было спокойно, и самый облик ее изменился. На берегу реки был построен аэродром, на котором можно было приземлиться, следуя непосредственно из Куиабы; воздвигались строения, было проведено электричество и установлены машины, местонахождение залежей марганца точно определено – все подготовлено к началу работ, к пуску предприятия. На месте прежнего лагеря вырос небольшой городок из деревянных зданий, и в нем поселились многие сотни рабочих. Правда, не удалось искоренить лихорадку, и мероприятия по оздоровлению долины, выполненные под руководством профессора Алсебиадеса де Мораиса, свелись лишь к созданию лучших условий жизни для инженеров и высших технических служащих компании. Правда, кабокло, как и прежде, оставались на своих землях, хотя им и было прислано официальное решение суда о выселении. Все эти факты мало беспокоили Коста-Вале: пусть злокачественные лихорадки, малярия и тиф косят рабочих (трупы уже больше не бросали в реку: одной из красивых достопримечательностей поселка стало небольшое кладбище), – это его мало заботило. Началось паломничество крестьян и батраков, которые являлись с предложением своих услуг акционерному обществу, стараясь бежать от еще более тяжелых условий рабского труда на фазендах. Таким образом, дешевых рабочих рук было вдоволь. На небольшом холме, где возвышались изящные коттеджи инженеров и старших служащих, были созданы условия комфорта и гигиены – для них профессор Мораис распорядился провести канализацию и вырыть артезианские колодцы, которые давали хорошую воду (он действительно оздоровил тот небольшой участок долины, где они обитали), – все остальное имело мало значения. В магазине были приготовлены огромные запасы хины, – чего большего могли желать рабочие? И кабокло, жившие в долине, мало беспокоили Коста-Вале. Он никогда и не рассчитывал на то, что они уберутся прочь, как только получат официальное решение суда и признают права акционерного общества на все земли вдоль побережья реки. Но когда они увидят солдат военной полиции, которые прибудут сюда для расселения японских колонистов, им останется или немедленно убраться вон, или же наняться батраками на новые фазенды Венансио Флоривала. Полковник распространил свои владения до самого берега реки; здесь предстояло очищать от девственных зарослей большие пространства, и никто лучше кабокло не подходил для этой работы. Наступал час, когда должна была начаться операция по изгнанию кабокло. В самом деле, японцы уже находились в Сан-Пауло и были готовы для отправки в Мато-Гроссо. Следовательно, надо было выселять кабокло, и на том месте, где сейчас стояли их глинобитные хижины, поспешно возводить деревянные домики и заселять их японскими иммигрантами. Празднества открытия работ акционерного общества назначили на декабрь; было приглашено огромное число гостей. Мистер Карлтон только что прибыл из Соединенных Штатов. Президент республики в конце концов дал свое согласие приехать. Коста-Вале рассказал комендадоре, сколько еще срочных мер предстояло провести для торжественного открытия разработок. – Венансио Флоривал взял на себя выселение кабокло. В десять-пятнадцать дней будут выстроены деревянные дома для колонистов. Организовать доставку гостей я поручил Шопелу. Рассчитываю, что в нашем распоряжении будет с десяток самолетов. И вот, когда наша долина начнет выдавать марганец, Пауло сможет крушить столько кабаре, сколько ему заблагорассудится… Комендадора снова перевела разговор на политику президента: – Вы не думаете, что Жетулио в конце концов вступит в войну на стороне немцев? Говорят, на него нажимают генералы. – Да, Дутра[174] и целая генеральская группа. Они уверены в победе Гитлера. И не только они: и начальник полиции, и люди из департамента печати и пропаганды, и чиновники из министерства труда разделяют эту точку зрения. Артур мне говорил, что его положение в министерстве час от часу становится все затруднительнее. Но вся эта публика не видит дальше собственного носа. Вот в чем наше превосходство над ними… – Вы считаете, что Гитлер проиграет войну? – Комендадора в сомнении покачала головой. – Я думаю, что нет. – Разумеется, нет. Совершенно ясно, что он победит. Только здесь есть маленькая разница в деталях, которая имеет решающее значение. Гитлер овладеет Европой, ликвидирует Францию и Англию, а затем покончит с коммунистической Россией. И этим ему придется удовольствоваться. Вот тогда-то Соединенные Штаты войдут с ним в соглашение: Европа – для Гитлера, а Америка и Азия – для американцев. Вот как это будет. А мы в Бразилии, комендадора; значит, мы входим в зону американского влияния. Этого кое-кто не понимает: они думают, что Гитлер проглотит решительно все, и в этом они ошибаются. А если и Жетулио будет заблуждаться на этот счет, мы о нем позаботимся. – Он говорил властным, уверенным тоном. Выпил остаток виски и в заключение сказал: – Жетулио танцует, но руковожу оркестром я. И ему или придется танцевать в ритме нашей музыки, или найдется кто-нибудь другой, кто будет танцевать так, как этого хотим мы. 4
На быстрой пироге, легкой и хрупкой, человек, усиленно работая веслами, плывет вверх по реке. Утренняя заря занимается над деревьями и животными, голубоватый свет борется с ночными тенями селвы. Просыпаются птицы, уже звучат их трели, и человек улыбается, узнавая песню каждой из них: и сабиа, и патативы, и курио, и кардинала. Ему знакомы все эти звуки, и он умеет подражать любому из них: дедушка научил его голосам птиц в дни детства, проведенного на фазендах полковника Венансио. Бедный дедушка: всю свою жизнь он гнулся, трудясь на земле, а умереть ему пришлось в тюрьме Сан-Пауло, не поняв даже, что с ним произошло… Нестор с удвоенной силой нажимает на весла: утро разгорается все ярче, ему надо спешить, – уж очень важное известие передал ему негр Доротеу. В любую минуту могут нагрянуть солдаты, чтобы выгнать отсюда кабокло. Очень скоро к трелям птиц, к пронзительному шипению кобр, к хриплому реву ягуара, к оглушительным крикам обезьян прибавится свист пуль. Ему нужно известить Гонсало о скором прибытии солдат и затем поспешно возвратиться на свое место – к Клаудионору, к батракам фазенды. При мысли о предстоящих событиях Нестор испытывает дрожь во всем теле. Сколько времени ждут они этого часа! Но время не оказалось потерянным ни для него, ни для Доротеу, ни для Гонсало. После розысков, произведенных год тому назад Мирандой, полиция больше не возвращалась в здешние места. Несколько кабокло ушло с насиженных мест, получив решение суда, по которому их земли отходили к акционерному обществу. Но большинство продолжало оставаться на своих плантациях, как будто ничего не произошло. Уехал и сириец Шафик, боясь вторичного ареста и выдачи французским властям в Кайенне. Пирога, на которой плыл сейчас Нестор, некогда принадлежала сирийцу. Прежде чем уйти отсюда навсегда, он подарил ее Гонсало. В лавочке Шафика поселился некий гаушо. Он покупал бобы и маис у кабокло, нередко ездил в Куиабу и оказался хорошим товарищем. Во время своих поездок он установил связи с Клаудионором в поселке Татуассу, с Доротеу – в лагере экспедиции, с Гонсало и Нестором – в селве. Его звали Эмилио, он выходец из Рио-Гранде, человек громадного роста и большой силы, внешне напоминавший Гонсало, но в отличие от него любивший поговорить. И теперь именно к хижине Эмилио направляет Нестор свою пирогу, гребет изо всех сил: ему надо приплыть туда возможно скорее. Спешить ему велел Доротеу. Негр казался очень возбужденным; впервые Нестор увидел улыбку на его неизменно печальном лице. Некрасивый негр, этот Доротеу, но какой добрый! – думал Нестор. Рабочие лагеря его обожали. По вечерам, под ласковым светом звезд, они собирались вокруг него, чтобы послушать, как он играет на губной гармонике. И как замечательно он играл! Только никогда не улыбался, а во время игры становился еще более печальным – наверно, в прошлом у него было что-нибудь очень тяжелое… Нестор любил этого негра, у него он научился многому. Он видел, как растет и крепнет партийная организация среди рабочих акционерного общества, был свидетелем создания профсоюза и мало-помалу, живя рядом с Доротеу, уяснил себе, как эта профессиональная организация сможет дать новый импульс агитации среди батраков фазенд. О полицейских розысках стали уже забывать; партийная работа развивалась все шире. По праздничным дням созывались сходки батраков и сельскохозяйственных рабочих в поселке Татуассу. Нестор побывал на всех фазендах; рабочие из лагеря в свободные дни также приходили на сходки. Больше того, даже сам Гонсало уже несколько раз покидал свои тайные убежища в селве и приходил помочь как организации рабочих компании, так и батракам фазенд. Да, этот год не прошел даром, и солдат полиции ожидают некоторые сюрпризы. Многое изменилось в долине за эти месяцы. Но только не в той части реки, где плавает каноэ Нестора: там остались те же убогие плантации кабокло, те же глинобитные хижины. Зато у подножья горы, где обосновались американские инженеры, жизнь бурлила. Каждый день прибывали все новые партии рабочих, новые машины, и теперь рокот самолетов над селвсй пугал даже свирепых ягуаров. А за последние дни деятельность пришельцев развивалась в лихорадочных темпах. Доротеу сообщил Нестору, что гринго готовят грандиозный праздник открытия работ акционерного общества. Но до этого они хотят изгнать кабокло и водворить на их место японцев. Час, которого они так ждали, приближался. Нестор налегает на весла, мускулы его худых рук напрягаются до последней степени: вот-вот выпрыгнут. Проблески света все ярче прорезают мрак селвы. Птица сабиа затягивает свою утреннюю песню. Нестор различает вдали хижину Эмилио. 5
Сначала проплыли две каноэ. Люди, вооруженные биноклями, осматривали берега реки и плантации кабокло. Они причаливали к берегу, вступали в разговор с земледельцами, разглядывали участки, делали какие-то заметки. Это были инженеры и мастера акционерного общества, которым было поручено сооружение деревянных домиков для японских колонистов. Затем обе каноэ уплыли обратно, и в течение двух дней больше ничего не произошло. Однако как-то утром Эмилио, все время после предупреждения Нестора находившийся начеку, разглядел в свой бинокль большое количество лодок на моторном ходу, плывших вверх по реке. Вот они – солдаты военной полиции и первая партия японцев. Гаушо спустил свою каноэ на воду: надо было предупредить Гонсало, который находился сейчас в хижине Ньо Висенте. Большие моторные лодки; некоторые из них наполнены солдатами, другие – солдатами и японскими колонистами. Японцев пока прибыло мало: большинство их вместе с семьями осталось в импровизированном лагере, устроенном по соседству с поселком компании. Солдатам был дан приказ изгнать кабокло, предоставив транспорт тем, кто добровольно подчинится приказу, а к тем, кто станет сопротивляться, – применить силу. Люди Венансио Флоривала уже дожидались кабокло в лагере, чтобы переправить их – хотят они этого или нет – на новые земли полковника. При приближении к первой хижине кабокло солдаты взялись за оружие – они были готовы ко всему. Но ни в хижине, ни на плантации не было заметно никаких признаков жизни. Каноэ причалили к берегу, несколько солдат под начальством сержанта высадились. Да, хижина была пуста, плантация тоже. Этого никто не предвидел, на это никто не рассчитывал. Сержант вернулся за распоряжениями к лейтенанту, возглавлявшему экспедицию. Тому оставалось только почесать в затылке. Он тоже вышел на берег, и остальные солдаты, получив приказ, последовали за ним. Обошли плантацию, осмотрели брошенную хижину. Сержант заметил: – Еще вчера в этом доме жили люди. Взгляните на остатки пищи… В очаге еще тлеет огонь… Хозяева должны быть недалеко. Обыскали ближайшие участки, но не обнаружили никаких следов. Дальше начиналась селва. Лейтенант, чувствуя себя все более смущенным, возвратился к лодке, чтобы переговорить с представителем акционерного общества – молодым инженером янки, курившим трубку и изъяснявшимся на плохом португальском языке. С ним находился и старшина японских колонистов. Переводчиком служил японец, уже много лет назад эмигрировавший в Бразилию. В результате их совещания было принято решение: завладеть этим участком, оставить на нем одного из японцев, а с ним двух солдат военной полиции и десятника, которому было поручено установить здесь новый стандартный дом; снабдить их необходимой провизией. По решению американского инженера, на обратном пути они должны захватить с собой десятника. Солдаты же останутся до прибытия сюда семьи японского колониста, которому предстояло здесь обосноваться. Так началась борьба за долину реки Салгадо. По мере того как они оставляли японцев и солдат в покинутых кабокло хижинах и на плантациях, чувство тревоги у лейтенанта все возрастало; что же касается молодого американского инженера, то он, наоборот, выказывал полное удовлетворение: кабокло решили уйти сами, и это представлялось ему наилучшим выходом из положения. Акционерное общество избежит осложнений, избежит, может быть, очень неприятных сцен. Молодой американец боялся – и эту боязнь разделял с ним и главный инженер, с которым он беседовал перед отъездом, – что прибытие захваченных кабокло, привезенных насильно в лагерь, может вызвать волнения среди рабочих. Или, точнее сказать, – еще больше разжечь волнение, которое уже было возбуждено прибытием солдат военной полиции для изгнания кабокло. Попыхивая трубкой, он говорил лейтенанту на плохом португальском языке: – Мой был доволен. Кэйбокло имейт страх, бежайт, very good[175]! – Но послушайте, сеньор, я совсем не доволен. Не выходит у меня из головы, что эти проклятые кабокло готовят нам засаду. Лейтенант хотел, чтобы все лодки провели ночь на реке в ожидании возможных событий, но инженер этому воспротивился: лодки должны возвратиться, чтобы на следующий день привезти сюда новую партию колонистов и рабочих для постройки домов. Таков был полученный им приказ. Пусть остаются солдаты, если лейтенанту это угодно, но он, инженер, соблюдает интересы компании: все лодки должны вернуться. – В таком случае я остаюсь с моими людьми, – решил лейтенант. Он разместился в хижине Эмилио с сержантом и несколькими солдатами. Старшина японских колонистов с тревогой смотрел на все происходившее. Он о чем-то быстро и долго разговаривал со своим соотечественником, служившим переводчиком. Наступила ночь, все лодки уплыли. Осталась лишь одна-единственная – в распоряжении лейтенанта. В хижинах кабокло, теперь занятых японцами и солдатами, зажгли светильники, развели огонь в очагах. Ночь принесла с собой освежающий ветерок и бесконечные тучи москитов. Солдаты, сидя вокруг огня, делились впечатлениями о своем пребывании в Куиабе, рассказывали о тамошних проститутках. Лейтенант курил сигарету за сигаретой, надеясь отогнать москитов. Вдруг где-то очень далеко, где тоже находились японцы и солдаты, зазвучали выстрелы. 6
Это первое столкновение закончилось полным успехом кабокло. Они напали на четыре самые отдаленные плантации и прогнали со всех четырех их новых обитателей и солдат. Лодка лейтенанта едва успела подобрать перепуганных солдат – трое из них были ранены – и объятых паникой японцев. Один японец утонул, пытаясь спастись вплавь по реке. Воды унесли его тело, и по кровавому следу устремились стаи хищных пираний. Лейтенант собрал своих людей на одной из плантаций, и они провели там остаток ночи без сна, ожидая нового нападения. Но в эту ночь кабокло больше не появлялись. К утру один из раненых солдат умер. В течение долгих месяцев обдумывал Гснсало тактику борьбы, когда наступит час выступления. Не так давно, всего лишь два месяца назад, сюда снова приезжал Жоан и одобрил выработанный Гонсало план. Великан сказал: – Нам не удержать за собой плантаций. Даже если поднимется – я на это рассчитываю – движение солидарности среди рабочих, а может быть, и среди батраков на фазендах Флоривала, все равно это окажется невозможным. Если мы останемся на плантациях, нас всех перебьют в несколько дней. – Так что же тогда делать? – спросил Жоан. – Главное – показать наглядный пример, не так ли? Мы должны сделать жизнь для гринго здесь нестерпимой, доказать, что эта земля – наша, что богатства ее принадлежат нам. Не так ли? И пробудить в крестьянах сознание, что земля, которую они обрабатывают, должна принадлежать им. Не так ли? Так вот, это мы и сделаем. Кабокло сами не смогут выгнать отсюда американцев. Эго сделают рабочие акционерного общества, когда наступит день нашего торжества. Но кабокло поднимут на борьбу против гринго все население долины. – Как же вы собираетесь это осуществить? – Я хочу пожертвовать как можно меньшим количеством людей. Вот что мы придумали с Ньо Висенте. С нами останутся только холостяки и такие, у кого в семьях есть другие мужчины, которые смогут позаботиться о женщинах и детях. Постепенно мы переправляем семьи через селву в область алмазных разработок – пусть они поживут там. За эти месяцы мы собрали много боеприпасов: Эмилио их привозил из каждой своей поездки. Мы будем сражаться, пока хватит патронов. И, может быть, в течение нескольких месяцев нам удастся помешать акционерному обществу по-настоящему овладеть этими землями. А если движение солидарности развернется так, как мы на это рассчитываем, мы не только парализуем работу компании, но и дадим хороший урок полковнику Флоривалу. – Каким образом вы намерены вести борьбу? – Дадим им занять плантации, а по ночам будем совершать нападения то на одну, то на другую плантацию, выкуривать оттуда японцев. Партизанская война, понимаешь? В течение дня будем прятаться в селве, где им до нас не добраться. По ночам будем выходить и обстреливать их. Знаешь, кто подал мне эту мысль? Старый Ньо Висенте. Сначала я намеревался остаться с кабокло на плантациях и там умереть, как это сделали защитники поста Парагуассу. Но старик мне сказал: «Дружище, мы должны драться так, как дерутся кангасейро[176]», – и он прав. Вместо того чтобы исход борьбы решился в одном сражении, в котором мы наверняка проиграем, – мы сможем поддерживать борьбу многие месяцы. Жоан одобрил этот план. Кроме Гонсало, он повидался с Эмилио, негром Доротеу и Нестором. Выслушал их отчеты, обсудил вопросы, связанные с работой в лагере, на фазендах, в поселке Татуассу. Перед отъездом Жоана Гонсало попросил его: – Может случится, товарищ, что на этот раз мне несдобровать. Я уже столько раз избегал гибели, что, возможно, теперь они меня настигнут и покончат с Жозе Гонсало. В этом случае я хочу просить тебя об одном одолжении… – Говори. – В тот день, когда встретишь товарища Витора, скажи ему, что я исполнил свое обещание. Он велел мне, от имени партии, дожидаться здесь гринго и показать им, что эта земля принадлежит нам. Так вот, если я погибну, передай, что я до конца выполнил возложенную на меня задачу. – Будь покоен. За этот период большинство семейств кабокло было переправлено в глубину селвы. На плантациях остались лишь те, кто решил любыми способами защищать свои земли. Когда Нестор принес известие о появлении солдат, Гонсало сделал последние распоряжения. Все оставили плантации и собрались на просеке в лесу. И оттуда ночью произвели свое первое нападение. Оно увенчалось полным успехом. Солдаты и японцы, захваченные врасплох, только и думали о том, как бы убежать от пуль, сыпавшихся на них из ночного мрака. Ни одного кабокло не было убито или ранено. Однако Гонсало понимал, что в дальнейшем придется труднее. Лейтенант нетерпеливо дожидался возвращения лодок. Наконец, когда уже давно наступило утро, они появились, нагруженные японцами, рабочими, мастерами; их привез сюда тот же молодой американский инженер, который был здесь накануне. Лейтенант встретил его, трагически разводя руками. – Теперь здесь нужны только солдаты… Увидев раненых и услышав о событиях истекшей ночи, американец чуть было не выронил изо рта трубку. – Я ведь вас предупреждал… – раздраженно повторял лейтенант. – Я знал… Старшина японских колонистов, также прибывший сюда, требовал немедленного возвращения всех японцев на территорию лагеря. Американец только почесывал в затылке и не знал, что предпринять. В конце концов после долгих разговоров было решено, что лодки увезут обратно японских колонистов и рабочих, и сегодня же возвратятся с новым отрядом солдат. Нельзя было и думать о постройке домов, пока не покончено с кабокло. Когда в сумерки лодки, наполненные солдатами, снова приплыли сюда, из прибрежной чащи по ним был открыт беглый огонь. Солдаты отвечали, но стрелять из каноэ было трудно. Американский инженер, вооруженный кольтом, приказал причалить к берегу и произвести вылазку против кабокло, воспользовавшись тем, что они осмелились напасть еще до наступления ночи. Но американцу даже не удалось до конца отдать свои распоряжения: пуля угодила ему в голову – и он упал на дно лодки. Тотчас же стрельба прекратилась, лодки смогли продолжать путешествие к хижине Эмилио, где лейтенант дожидался солдат. Только здесь зажглись огни во мраке наступившей ночи: все плантации были пусты. Одна каноэ возвратилась в поселок акционерного общества, увозя труп инженера. В газетах Сан-Пауло и Рио начали появляться первые известия о событиях в долине. В эту ночь кабокло не нападали. 7
Несмотря на то, что началась русско-финская война[177] и сообщения о ней заполнили первые страницы всех газет, все же несколько столбцов было отведено молодому инженеру-янки, убитому в долине реки Салгадо. Газеты прославляли его как героя, бесстрашного исследователя селвы, паладина цивилизации, «ученого специалиста, отдавшего свои познания на службу Бразилии». Тело его было доставлено на самолете в Сан-Пауло, и вскоре из здания североамериканского консульства выступил погребальный кортеж. Национальный флаг Соединенных Штатов покрывал гроб. Посол США, представитель президента республики, министры и промышленники провожали гроб на англиканское кладбище. Пресса требовала немедленных и суровых мер против «бандитов, господствовавших в долине». В управлении охраны политического и социального порядка Баррос рычал на Миранду: – А вы мне ручались, что этот человек бежал в Боливию!.. Что там от него и следа не осталось!.. Если не Гонсало, кто же руководит действиями кабокло? Совершенно ясно, это он… Вы все ни на что не годны… Баррос готовился к встрече с Коста-Вале. Он сам просил об этом, хотел поставить банкира в известность о результатах расследования событий в долине. Как знать, может быть, ему, Барросу, поручат подавление кабокло? Он намеревался сказать банкиру: «Надо поймать Гонсало, и все будет кончено». А для поимки Гонсало годится только он, Баррос, с его многолетним опытом борьбы против коммунизма. Однако прежде чем отправиться к Коста-Вале, ему пришлось принять профессора Алсебиадеса де Мораиса с медицинского факультета Сан-Пауло. Профессор от имени многочисленных паулистских деятелей явился пригласить его принять участие в организации помощи Финляндии. Он объяснил преследуемые цели: нужно использовать войну между Россией и Финляндией для усиления кампании против коммунизма. Попутно они будут производить денежные сборы и посылать медикаменты финским солдатам. Это очень хорошая и гуманная идея, утверждал профессор, и тут же назвал среди участников ряд очень видных бразильских фамилий. Сеньор поверенный в делах Финляндии, был избран почетным президентом; среди членов правления фигурировали такие имена, как министр Артур Карнейро-Маседо-да-Роша, Коста-Вале, многие достойнейшие промышленники, известный поэт Сезар Гильерме Шопел – все наилучшие люди, как сеньор инспектор может судить сам. И он протянул Барросу подписной лист. Баррос пробежал глазами стоявшие на нем имена, а профессор в это время сказал: – Имя сеньора инспектора должно украшать этот список. – «Казначей: доктор Эйтор Магальяэнс, врач», – прочел Баррос. – Вы его знаете? – спросил профессор. – Очень одаренный молодой человек. Первоначальная идея принадлежит ему. Блестящая идея! Когда-то этот юноша тоже был коммунистом, но отрекся от своего прошлого и написал очень интересную книгу о методах красных. Это молодой человек с будущим. – С будущим, несомненно, – ответил Баррос, ставя на листе свою подпись. – Я очень вам благодарен, профессор, что вы вспомнили и о моей скромной персоне. – Никто более вас, сеньор инспектор, не достоин фигурировать в таком обществе, как это. Вам не за что меня благодарить – моими устами говорит сама справедливость. – А что вы мне скажете о событиях в Мато-Гроссо, в долине реки Салгадо? – Что я вам скажу? Очень многое. Я уже давно все это предвидел. Вот почти целый год, как я повторяю полковнику Венансио Флоривалу: надо, и возможно скорее, выбросить из долины этих кабокло. Но меня не захотели слушать… – Этих кабокло возглавляет один из самых опаснейших коммунистов всей Бразилии: некий бандит по имени Жозе Гонсало, специалист по такого рода операциям. Сеньору никогда не приходилось слышать о борьбе индейцев Ильеуса? – Профессор имел об этом очень смутное представление. – Эту борьбу тоже возглавлял Жозе Гонсало. Я знаю, что он теперь находится в долине. Наш общий друг Эйтор Магальяэнс в бытность свою коммунистом, там с ним встречался. Профессор умоляюще протянул руки. – Сеньор инспектор, когда же мы освободимся от этой коммунистической заразы? – Очень скоро, профессор. За последнее время мы поставили партию на колени. Их осталась только горсточка. Во всяком случае так обстоит дело здесь, в Сан-Пауло и в Рио, где у нас способные работники. Но в Мато-Гроссо, видите ли, сеньор… Сейчас я как раз направляюсь к Коста-Вале. Может быть, мне поручат ликвидацию коммунистов в Мато-Гроссо. Если это случится, можете быть уверены, я не оставлю от них и следа… Однако этого не случилось: дело оказалось гораздо серьезнее, чем думал Баррос. Коста-Вале совершенно невозмутимо выслушал его откровения о Гонсало. – Нам это давно известно, – сказал он ледяным тоном. – А почему вы, сеньор, его не поймали, когда представился случай? Почему вы дали ему возможность свободно разгуливать в долине и подготовить вооруженное сопротивление кабокло? И когда? Когда доктор Жетулио готов вылететь в долину на открытие рудников! Инспектор опустил голову. – Я посылал в долину моих людей, но полиция Мато-Гроссо затруднила им работу. – У меня имеется другая информация. Мне известно, что люди, посланные сеньором, едва не умерли в долине со страха и «установили», будто названный Гонсало бежал в Боливию. Не так ли? – Видя смущение инспектора, он продолжал: – Лучше будет, если сеньор выполнит свой долг в Сан-Пауло! Коммунисты и здесь снова поднимают голову. – Где? – Где? Здесь, в самом Сан-Пауло. Или сеньору не приходится ходить по улицам? Посмотрите на стены моего банка: каждую ночь на них возникают надписи. Или сеньор не умеет читать? Еще сегодня я получил по почте коммунистическое издание с обычной болтовней относительно того, будто мы и американцы хотим отнять у кабокло землю… Или сеньор никогда не покупает журнала «Перспективас»? Ну, а я покупаю… У вас достаточно работы и здесь, сеньор Баррос: надо постараться ее выполнить. Долину же предоставьте мне. Я покончу и с кабокло и с Гонсало раньше, чем они предполагают. Никого из них не останется, чтобы рассказать, как это все произошло. Он поднялся и протянул инспектору руку, давая понять, что аудиенция окончена. 8
Начальник военной полиции штата Мато-Гроссо – армейский капитан в чине полковника полиции, – Коста-Вале, секретарь японского посольства, полковник Венансио Флоривал, социолог Эрмес Резенде и главный инженер «Акционерного общества долины реки Салгадо» долго обсуждали создавшееся положение. Эрмес Резенде, в восторге от представившейся ему возможности принять участие в этом совещании, делал заметки. Он чувствовал себя новым Эуклидесом да Кунья[178] и уже набрасывал названия глав книги, которую собирался написать и которая должна была затмить славу «Сертанов»[179]. Коста-Вале изложил план мероприятий: солдаты военной полиции, подкрепленные стражниками Флоривала, должны удерживать плантации. В дневное время они будут производить вылазки против кабокло, прячущихся в селве; необходимо уничтожить всех кабокло, одного за другим. Поступать «с ними без всякого сожаления и пощады для устрашения всех остальных! Пресечь бунт в корне! Того же требовал и полковник Венансио Флоривал. С этими мероприятиями были согласны все. Затруднение возникло лишь с японцами. Коста-Вале, поддержанный американцем – главным инженером, требовал немедленного водворения японских колонистов на побережье реки еще до того, как для них будут выстроены жилища. Десятники и рабочие поедут вместе с японцами и исподволь будут строить для них дома. Ведь в конечном итоге колонисты для того и приехали сюда из Японии, чтобы заселить эти пустынные земли, а вовсе не для того, чтобы жить в лагере, рядом с конторой акционерного общества. Главный инженер, поддерживая предложение банкира, объяснял, что пребывание японцев на территории лагеря чревато опасностями: рабочие беспокоятся, косо поглядывают на новых пришельцев. Он опасается пагубных для хода работ волнений среди рабочих и столкновения между ними и японцами. Однако старшина японских колонистов запротестовал: он не хотел поселять своих людей в долине, пока она не будет полностью очищена от кабокло. Коста-Вале в конце концов разозлился; его суровый голос зазвучал еще более резко: – Что они воображают? Разве они приехали сюда диктовать нам свои условия? Они всего-навсего колонисты и обязаны подчиняться! Тогда вмешался секретарь японского посольства: в мягком тоне, на беглом английском языке он попросил позволения переговорить наедине с ответственными представителями колонистов. Эти переговоры привели к разрешению вопроса: японцы согласились отправиться на плантации, и только небольшая группа их руководителей осталась в лагере. А борьба между тем продолжалась. Кабокло уже больше не довольствовались изгнанием японцев и солдат с той или другой плантации. За ночь они овладевали плантацией и разрушали все, что колонисты успели сделать за день. Языки пламени охватывали строящиеся деревянные домики. Солдаты упали духом: ночи они были вынуждены проводить без сна в ожидании внезапного нападения; днем им приходилось охранять строительных рабочих и японских колонистов, обеспечивая для них возможность спокойной работы. А строители работали неохотно, косо поглядывали на японцев. Да и солдаты задавались вопросом: зачем, собственно говоря, приехали эти люди, говорящие на таком странном языке? По какому праву сгоняли они кабокло с их земель? Один солдат даже дезертировал – перешел на сторону кабокло. Старшина колонистов и начальник военной полиции в дневное время разъезжали по реке на моторной лодке, инспектировали работы, подбирали раненых, командовали очередными вылазками солдат в селву. Лейтенант докладывал о последних событиях. Иногда несколько дней проходило спокойно, кабокло не появлялись. А потом вдруг, среди ночи, они нападали сразу на три или четыре далеко друг от друга расположенные плантации. Набрасывались на своих врагов во мраке, сами стараясь оставаться невидимыми. Топили каноэ, поджигали строящиеся дома, опустошали плантации. И слухи об этом распространялись по всей долине, по окрестным фазендам, а людская молва разукрашивала их все новыми подробностями. «Дьявол разгуливает по долине!» – говорили старики крестьяне. На главной базе акционерного общества рабочие с нетерпением дожидались, когда вернутся каноэ, привозившие по вечерам раненых. Самые различные толки ходили по лагерю. Время шло, а эта то затихающая, то с новой силой вспыхивающая борьба продолжалась без конца. Празднества в честь открытия работ акционерного общества пришлось отложить. Коста-Вале неистовствовал, требовал от Венансио Флоривала немедленной отправки для борьбы с кабокло его стражников, – эти люди могли охотиться за кабокло в недрах селвы. Единственным удовлетворением, полученным им за эти дни, была поимка трех коммунистов, захваченных, когда они писали лозунги на фасаде его банка в Сан-Пауло. Ему сообщил об этом по телефону Баррос. Банкир сказал: – Хорошенько проучите этих бандитов! – Можете на меня положиться… Стражники Венансио Флоривала прибыли в помощь войскам военной полиции. Самолет, посланный из Сан-Пауло, произвел несколько разведывательных полетов над селвой, пытаясь определить местопребывание кабокло. Стражники углубились в лес, прокладывая тропы: пытались напасть на след ночных налетчиков. Набеги кабокло теперь натолкнулись на лучше организованную оборону: солдаты возводили вокруг плантаций ограды, стражники Венансио Флоривала стреляли без промаха. И было заметно, что кабокло уже экономят патроны. В одну из ночей кабокло впервые пришлось отступить, оставив на месте боя убитых и раненых. На следующий день лейтенант послал головы убитых кабокло (тела их были брошены в реку) на главную базу акционерного общества. Двух раненых крепко связали и бросили на дно каноэ. В поселке компании быстро распространилась весть о случившемся. Рабочие после окончания трудового дня толпились на небольшой пристани, ожидая прибытия каноэ. Им показали отрубленные головы с длинными спутанными волосами, смоченными кровью. Раненые стонали. Несмотря на протесты главного инженера, считавшего, что было бы лучше допросить пленников в помещении военной полиции, полковник Венансио распорядился привязать двух раненых кабокло к деревьям – Это должно послужить примером! – заявил владелец фазенд. – Чтобы устрашить остальных, чтобы искоренить раз и навсегда склонность к бунту. Раз и навсегда! Солдаты военной полиции удерживали рабочих в отдалении. Главный инженер поспешил на розыски Эрмеса Резенде, чтобы тот помог ему уговорить экс-сенатора. Вооружившись бичом погонщика скота, Венансио Флоривал приступил к допросу кабокло. Но они только стонали и не произносили ни слова. Главный инженер говорил Эрмесу: – Такие вещи не делаются публично… Социолог бросился почти бегом, поспев как раз в ту минуту, когда полковник принялся стегать бичом раненых кабокло. По толпе рабочих прошел глухой ропот. – Полковник, что вы делаете? – закричал Эрмес. – Вы с ума сошли! Вместе с инженером они почти силой увели охваченного яростью полковника. С лиц кабокло обильно стекала кровь. Солдаты держали винтовки наготове, направив их на рабочих. Над всем лагерем воцарилась тишина, словно для того, чтобы лучше были слышны отчаянные стоны пленников. Солдаты отвязали их от деревьев и внесли в помещение, занятое военной полицией. На следующее утро стало известно, что оба пленника ночью умерли. По мнению одних, они умерли от побоев, по мнению других, Венансио Флоривал приказал их прикончить. В то же утро самолет, взявший курс на Сан-Пауло, увозил из лагеря потрясенного Эрмеса Резенде. Он отправился сообщить о случившемся Коста-Вале. Самолет был первым и последним, вылетевшим в этот день из лагеря как только распространилась весть о смерти двух кабокло, рабочие прекратили работу. Началась забастовка. 9
– Венансио Флоривал – идиот… – заявил министр Артур Карнейро-Маседо-да-Роша, внимательно рассматривая свои ногти. Это происходило во время вечернего чая в доме Коста-Вале. – Какой зверь! – воскликнула Мариэта. Она только что возвратилась из Европы и демонстрировала новую прическу: «Последняя военная мода», – объясняла она своим приятельницам. Лицо ее осунулось, глаза были подернуты грустью. – Флоривал – скотина! – проговорил Шопел, не сводя своего воловьего взгляда с тонкого профиля Мариэты. «Она похудела и эта бледность придает ей что-то романтическое; она все еще очень интересная женщина…» – думал поэт. Эрмес Резенде, повествование которого вызвало все эти замечания по адресу полковника, торжествовал: – У полковника мировоззрение рабовладельца. Он не понимает, что мы живем в иную эпоху, что даже в пределах Мато-Гроссо нравы изменились. Я не знаю, что могло произойти, если бы мы с главным инженером вовремя не вмешались. Еще одно мгновение – и рабочие бросились бы на солдат, разнесли бы все в пух и прах; они были способны покончить со всеми нами. Когда я бежал, чтобы обуздать Венансио, я смог заметить реакцию толпы. Это было очень увлекательно в плане изучения коллективной психологии… – И он тоже улыбался Мариэте, словно все это рассказывал только для нее одной. С момента своего возвращения Эрмес, не переставая, пил. Но алкоголя оказывалось недостаточно, чтобы исчезли из памяти страшные сцены, свидетелем которых он был накануне: лица людей, исхлестанные бичом, и эти отрубленные головы с густыми, выпачканными кровью волосами. Глядя на жену банкира, он вспоминал свой роман с Энрикетой Алвес-Нето, – сегодня ему очень хотелось забыться в объятиях элегантной женщины. Социолог осушил очередной стакан джина, налил себе еще. – И вот теперь эта забастовка… – вздохнул Артур. – Забастовка на краю света, где нет политической полиции, которая могла бы принять энергичные меры… – Разве туда не послали полицию? – спросил у министра Шопел. – Послали тотчас же, как только стало известно о забастовке. Баррос направил туда целый легион опытных полицейских. Но из-за забастовки самолеты не могут приземлиться в лагере. Им пришлось полететь в Куиабу, а оттуда полиция поедет обычным путем. Но сколько из-за этого окажется потерянных дней! Положение создалось такое, что о поездке президента на празднества в честь открытия работ и думать нечего. – Да начнутся ли еще работы… – вставил Эрмес Резенде. – Вы считаете, что положение настолько серьезно? Социолог собирался изложить свои соображения на эту тему, но в дверях появился лакей и возвестил о прибытии комендадоры да Toppe. Тотчас же появилась старуха в сопровождении Сузаны Виейра и молодого иностранца – корректного блондина, которого она представила присутствующим как мистера Теодора Гранта, атташе американского консульства. Эрмес и Шопел были с ним знакомы. И пока янки склонялся перед Мариэтой, поэт тихо спросил у социолога: – Вы его знаете? – Да, это атташе по вопросам культуры… – Кто он такой в действительности, я расскажу после… – И Шопел, улыбаясь, протянул руку подошедшему к нему молодому человеку. Сузана Виейра в бурной экзальтации оповестила: – Вот герой! – Герой? Кто? – спросил Шопел. – Кто? Тео! – и она указала на молодого человека. – Завтра он отправляется в долину. Говорит, что останется там до самого конца борьбы. Представьте себе, какое мужество! В долину, кишащую бандитами… – Вы в самом деле туда отправляетесь? – спросила Мариэта. Молодой дипломат бегло говорил по-португальски. Легкий акцент придавал еще больше прелести его мелодичному, как у певца, голосу. – Да, эти явления меня глубоко интересуют. В университете я на них специализировался и даже написал работу о событиях в Канудосе[180]. – Превосходную работу… – заверил Эрмес. – Очень вам благодарен. Ваша похвала – величайшая честь. В особенности меня интересует психологические реакции примитивных народностей. Сеньор Коста-Вале был настолько любезен, что предоставил в мое распоряжение самолет. – Да, это действительно увлекательно, – сказал Эрмес. – То же самое исследовательское любопытство влекло в долину и меня: мне хотелось изучить реакцию японцев на их новую habitat[181]. – Не хотите ли завтра полететь со мной туда? – Нет. После вчерашней сцены у меня совершенно расстроены нервы. Теперь я должен подышать воздухом цивилизации. – Эрмес, расскажите мне все, что там произошло. Я об этом знаю только по слухам… – взмолилась Сузана. Она сидела рядом с молодым американцем, улыбалась ему, все время обращалась к нему, как бы давая присутствующим понять, что этот юноша – ее частная собственность. – Вы все – мокрые куры!.. – изрекла со своего кресла комендадора, особенно громко подчеркивая грубое выражение. – Что же, собственно, произошло? Венансио ликвидировал двух кабокло – что в этом особенного? Надо покончить с ними со всеми, и Венансио знает, как это сделать: он всю свою жизнь только этим и занимался. А вы все здесь сидите, охваченные ужасом… – А каковы результаты, комендадора? – возвысил голос министр Артур Карнейро-Маседо-да-Роша. – Забастовка на всех рудниках и предприятиях акционерного общества. И это – когда до дня торжественного открытия нам оставалось меньше месяца! – По моему мнению, эта забастовка была подготовлена значительно раньше. По-видимому, среди рабочих есть много коммунистов. Так считает и Баррос. Еще сегодня он мне сказал: коммунисты, которым не дают хода в крупных городах, бегут в деревни, в места, где пока нет контроля полиции. Еще хорошо, что забастовка вспыхнула именно теперь, – было бы гораздо хуже, если бы она началась во время празднеств, в присутствии доктора Жетулио. По мнению Барроса, она и приурочивалась к этому моменту. И я так думаю. Я считаю, что Венансио своими решительными действиями оказал нам большую услугу. Мистер Грант оживленно беседовал с Эрмесом по-английски. Расспрашивал социолога о японцах, проявлял интерес к малейшим деталям. Не показалось ли Эрмесу, что некоторые из этих японцев производят впечатление людей гораздо более культурных, чем можно ожидать от простых крестьян-иммигрантов? Грант вместе с главным инженером акционерного общества посетил их еще в Сан-Пауло. И его поразили некоторые японцы, скорее напоминающие интеллигентов, чем крестьян. Грант говорил об этом равнодушным тоном, словно отмечая маловажную подробность, но в то же время с интересом ждал, что ему на это ответит Эрмес. В действительности же, у мистера Гранта имелась достоверная информация о том, что среди иммигрантов находилось несколько компетентных японских инженеров и специалистов. Марганец долины интересовал сейчас многих в мире… Сузана восхищалась парижским туалетом Мариэты, модного «военного» покроя, просила разрешить снять с него фасон и заказать себе такой же. Сузана, посвященная в тайну романа между супругой банкира и Пауло, старалась по виду Мариэты угадать, что между ними произошло в Европе. В письме Энрикеты Алвес-Нето, присланном несколько месяцев назад – последнем, которое она написала из Франции, – сообщалось о «плачевном зрелище, какое являла собою Мариэта, ходившая за Пауло следом по всем парижским кабакам, как верная собачка, которую тот отбрасывал пинком ноги…» Тем временем, к удовольствию Шопела, между комендадорой и Эрмесом разгорелась дискуссия на тему: «Являются ли кабокло человеческими существами, или нет?» Мистер Грант следил за спором с видом прилежного ученика, слушающего объяснения учителя. Мариэта и Артур отошли в угол комнаты и там вполголоса беседовали. – Ты возвратилась из Европы совершенно неузнаваемой. Все только и говорят о твоей грусти, о подавленном настроении. Она внимательно посмотрела на Артура. У него те же глаза, что и у Пауло; та же складка пресыщенности и скуки вокруг рта. Разница лишь в том, что Артур сохранил в себе что-то от юности, в то время как Пауло, еще не достигнув тридцатилетнего возраста, имел уже состарившуюся, от всего уставшую и всем пресыщенную душу… – Меня печалит Пауло, – ответила Мариэта. – Его поездка в Париж оказалась настоящим несчастьем. Я не знаю, чем это все кончится. Розинья разгуливает без него в обществе какого-то польского графа, бежавшего от войны; Пауло проводит все свое время с первыми встречными француженками… И все больше и больше пьет. Перед моим отъездом, представь себе… Артур опустил голову, посмотрел на ногти, спросил: – Между вами все кончено? Мариэта вздрогнула. – Ты об этом знаешь? Казалось, что Артур внимательно изучает ноготь своего большого пальца. – Кто об этом не знает? Но лучше, что все кончилось. Она поднялась и, смертельно бледная, вышла из залы. Артур подошел к гостям и вмешался в разговор: – Комендадора права, Эрмес. – Он улыбнулся своей обаятельной улыбкой профессионального политика. – Что касается меня, то как я ни стараюсь, все же не могу признать своим «ближним» кого-нибудь из этих грязных и неграмотных кабокло. – И когда Шопел, которого забавлял этот спор, в напыщенном тоне привел цитату из Нового завета, Артур расхохотался: – В нашу эпоху, дорогой Шопел, в эпоху всемирной победы фашизма, Христос больше не является тем авторитетом, на кого можно ссылаться. Во всяком случае, департамент печати и пропаганды считает его опасным экстремистом… – Иисуса? Сладчайшего Иисуса? Министр юстиции «нового государства» рассказал: – Один журнал собирался напечатать нагорную проповедь. Цензор ее вымарал и написал на полях оригинала: «Подрывные идеи, угрожающие существующему порядку…» – И Артур опять захохотал, довольный тем, что ему так удачно удалось высмеять департамент печати и пропаганды, связанный с немцами. – Да, да! Это факт. – Великолепно! – восхитился Шопел, однако тут же про себя подумал, что дни Аргура в министерстве сочтены. В дверях показался возвратившийся из банка Коста-Вале. Выражение лица у него было мрачное. – Артур, можешь на минутку зайти ко мне? Мне надо с тобой поговорить. Несколько часов спустя, на улице, Шопел объяснял Эрмесу: – Этот Грант – из ФБР[182]. Говорят, что он явился сюда следить за деятельностью немцев. И коммунистов тоже. Теперь все они только тем и живут, что шпионят друг за другом: немцы и американцы, англичане и японцы. – Он взял Эрмеса под руку. – А борьба внутри правительства, дорогой Эрмес, становится все ожесточеннее. Предстоят перемены в министерствах, и Артур полетит со своего поста. – Почему? – Потому что он проамериканец. А правительство становится все более и более прогерманским. Если верить слухам, Жетулио только и ждет подходящей минуты… – Для чего? – Для вступления в войну на стороне Германии. Эрмес пренебрежительно махнул рукой. – Американцы этого не допустят, и Жетулио не настолько глуп, чтобы на это идти. Сейчас он маневрирует и выжидает, когда политический горизонт прояснится. Но ни в какую войну он не вступит. А пока нам надо удовольствоваться войной против кабокло. И в ней американцы – наши союзники. А если они начнут другую войну, мы выступим на их стороне – в этом нет сомнения. 10
Отряд солдат военной полиции с винтовками наготове охранял дома инженеров и служащих компании – нарядные коттеджи, разбросанные по склону холма. Другие солдаты с винтовками на плече расхаживали среди грубо сколоченных деревянных домишек бастующих рабочих, что расположены на берегу реки. Большое помещение недавно построенного и еще не использованного по назначению склада было занято агентами политической полиции, прибывшими из Сан-Пауло и Куиабы под командой Миранды. Несколько рабочих было арестовано, и местная администрация акционерного общества в субботу предъявила бастующим ультиматум: в понедельник вернуться на работу – в противном случае будут произведены массовые увольнения. Агенты Венансио Флоривала набирали на фазендах крестьян на тот случай, если рабочие не прекратят забастовку. Между тем бастующие настаивали на том, чтобы японцы ушли из долины и крестьянам-кабокло были возвращены отобранные у них земли. Полицейские агенты рыскали по домам в поисках негра Доротеу. Миранда, услышав о негре, на которого администрация указывала, как на зачинщика забастовки, сразу догадался, что это Доротеу, участник забастовки в Сантосе, которого в свое время упорно разыскивала полиция. Арестованных рабочих допрашивали в присутствии мистера Гранта, и даже сам американец подчеркнуто вежливым тоном задал им несколько вопросов. Однако от них ничего не удалось добиться, за исключением того, что работа в долине очень тяжела, а заработки плохие. Арестованные также сказали, что бразилец не может спокойно взирать на то, как у других бразильцев отнимают их земли и отдают японцам. Миранда, выслушав их, вспылил; ему хотелось избить их. Но он не осмелился сделать это здесь, в бастующем лагере. Положение было напряженным, инженеры рекомендовали быть осторожнее. Между тем борьба в долине продолжалась. Время от времени по ночам кабокло совершали нападения, поджигали дома и плантации. Но теперь солдаты и стражники углубились по тропам в селву и начали преследовать кабокло. Раненых уже не привозили в лагерь, а приканчивали на месте. Самолет разведал место стоянки кабокло, и лейтенант готовил их окружение. Несколько дней назад Эмилио отправился за боеприпасами. Гонсало берег людей и патроны: он хотел как можно дольше затянуть борьбу и выиграть время, чтобы слухи о ней шире распространились по округе и привели к выступлениям крестьян в других районах. Нестор обходил фазенды, рассказывая батракам и арендаторам о событиях в долине. Забастовка рабочих акционерного общества воодушевила кабокло. В ночь, когда они узнали о забастовке, Гонсало собрал всех своих людей и совершил нападение на лавку Эмилио, которую лейтенант превратил в свою штаб-квартиру. Перестрелка длилась несколько часов, трое кабокло погибли в схватке, однако в конце концов лейтенанту и солдатам пришлось спасаться бегством на моторной лодке. Лавка была подожжена. Японцы в своих недостроенных еще домах дрожали от страха. Некоторые из них, пренебрегая приказами, сделали попытку вернуться на украденной каноэ к главной базе. Однако солдаты схватили их и под угрозой применения оружия заставили остаться. Приближалась дата открытия работ на рудниках акционерного общества. Венансио Флоривал, посетив Коста-Вале в его банке, сказал: – Если вы рассчитываете покончить с коммунистами в долине, применяя городские методы, вы глубоко ошибаетесь. Лучше предоставьте это мне – я умею обращаться с этими бандитами. Одно из двух – либо надо хорошенько их проучить, либо мы завязнем там на долгие месяцы… – Ладно, подождем еще несколько дней. Если забастовка не кончится, я предоставлю вам свободу действий. Забастовка не кончилась. В понедельник рабочие не вышли на работу. Миранда произвел новые аресты; для замены бастующих прибыли группы крестьян. Солдаты и полицейские изгнали бастующих рабочих из их домишек и вселили туда новых рабочих. То были крестьяне, смотревшие на все с недоверием: одни пришли, не имея даже понятия о забастовке, – им просто хотелось сменить работу батрака на другую, менее тяжелую; других набрали силой на фазендах Флоривала. Ночью рабочим во главе с откуда-то появившимся негром Доротеу удалось поговорить с вновь завербованными. В результате этих бесед много крестьян сбежало в ту же ночь. Осталось так мало, что главный инженер сказал: – Это все равно, что ничего… 11
Как-то днем, незадолго до рождества, когда центральные улицы были заполнены людьми, выходившими с покупками из магазинов, у здания банка Коста-Вале остановились два автомобиля. Из них вышло несколько человек, скромно одетых. Они окружили машины, а один из них, встав на подножку автомобиля, начал речь: – В долине реки Салгадо Коста-Вале и его компаньоны янки убивают бедняков крестьян… Кровь бразильцев проливается ради того, чтобы сейфы этого банка наполнялись золотом… Затем с автомобиля начали бомбардировать фасад банка бутылками с дегтем и разбрасывать по улице листовки. Быстро собралась толпа, деготь растекался по стенам здания, листовки реяли в воздухе. Закончив речь, оратор сел в автомобиль, сопровождавшие его также вскочили в машины, и они тронулись, прокладывая путь в толпе, между тем как служащие охраны банка неистово свистели, вызывая полицию. Со всех сторон сбегались люди и спрашивали, что случилось. Густая черная масса потоками стекала со стен. Многие прятали листовки в карманы. Коста-Вале, услышав необычный шум, вышел на балкон верхнего этажа, где находился его кабинет. Он заметил людей, бросающих бутылки с дегтем и листовки, затем увидел стремительно уносящиеся автомобили и перед его банком – враждебно настроенную толпу. Банкир попятился в кабинет, руки его похолодели, на лбу выступил пот, сердце сжалось от страха – того неодолимого страха, что временами овладевал им. Он уселся в кресло и несколько минут не мог прийти в себя, весь дрожал. Ему понадобилось огромное усилие, чтобы спокойно ответить служащему, постучавшемуся к нему в дверь: – Сеньор Коста-Вале! Сеньор Коста-Вале! – Что такое? – Беспорядки у дверей банка… Коммунисты… – Я знаю. Вызовите полицию… И дайте мне спокойно работать. «Надо с ними покончить. Не в моих правилах кого бы то ни было бояться», – подумал он. 12
Молодой мистер Теодор Грант выразил свое согласие с полковником: действительно, пора с этим покончить. Венансио Флоривал вернулся из Сан-Пауло с новыми полномочиями: он получил от Коста-Вале указание – возможно быстрее ликвидировать забастовку рабочих и восстание кабокло, действуя, как ему заблагорассудится. По мнению лейтенанта, прибывшего поговорить с плантатором, у кабокло осталось мало людей и они испытывают недостаток в оружии и боеприпасах. Вначале им удалось захватить винтовки и патроны, брошенные солдатами, однако теперь кабокло оказались не в состоянии совершать даже ночные налеты, а вынуждены были время от времени удовлетворяться лишь отдельными вылазками. Лейтенант утверждал, что покончит с кабокло в несколько дней. Он подготавливал экспедицию для окружения их стоянки в лесу, с тем чтобы захватить последних участников банды. Мистер Грант согласился, что сейчас важнее ликвидировать забастовку, чем подавлять восстание каэокло. Восстанию скоро будет положен конец, оно не сможет долго продолжаться. Между тем работы на рудниках акционерного общества фактически оставались парализованными, число крестьян, набираемых взамен бастующих, не росло, а уменьшалось – каждую ночь убегало по нескольку человек. Да и забастовщики проявляли все большую наглость: они снова заняли свои дома, отказываясь подчиняться приказам покинуть долину. То и дело возникали инциденты между рабочими и полицейскими агентами. Число арестованных все возрастало, однако негра Доротеу поймать не удалось. За последние дни волнения усилились. Лавка компании – этот единственный пункт снабжения рабочих – была по распоряжению администрации закрыта. Ее двери открывались лишь на час, после окончания рабочего дня, и приказчик продавал товары исключительно штрейкбрехерам. В день прибытия Венансио Флоривала группа голодных рабочих попыталась напасть на магазин в момент, когда его открыли для штрейкбрехеров, рассчитывая захватить немного продовольствия. На крики продавца прибежали полицейские под командой Миранды. Прибыл и Венансио Флоривал со своими стражниками. Он дал приказ Миранде: – Стрелять! Произошло кровавое побоище. Были убитые и раненые, в их числе и несколько штрейкбрехеров, находившихся в магазине. Солдаты сдержали натиск бастующих. Тела убитых сложили на берегу реки. – Завтра всех отсюда прогоним, – заявил Венансио Флоривал Миранде и офицеру военной полиции. – Возьмем забастовщиков под стражу и отправим подальше отсюда. Нехватки рабочих у нас не будет. Через неделю наберем даже больше, чем нужно… Однако в ту же ночь на фазендах полковника начались пожары. Утром человек, посланный управляющим Флоривала, принес важные известия. Подожжены кофейные плантации, в поселке Татуассу поговаривают о разделе земель полковника. Один из стражников Флоривала подстрелил Клаудионора, когда тот выступал в поселке. Венансио Флоривал бросил бастующих и отправился к себе в поместье. Он собрал своих головорезов, и на фазендах воцарился террор. В поселке Татуассу не осталось ни одного жителя: крестьяне, нищие и проститутки – все были изгнаны: конные стражники и полицейские открыли стрельбу. Полковник приказал облить все дома бензином и поджечь. Клаудионора повесили на дереве у въезда в поселок, и тело его терзали хищные птицы урубу. 13
О борьбе кабокло в долине реки Салгадо Пауло и Розинья узнали в Париже из писем комендадоры и Мариэты Вале. Тетке Розинья отвечала без промедления, а на полные жалоб письма Мариэты Пауло даже не считал нужным отвечать. Шопел в длинном письме, где упоминалось и о событиях в долине, рассказал ему о дважды провалившемся торжестве открытия, работ и о том, как были испачканы стены банка Коста-Вале. «Хозяйка, – писал он, – становится все грустнее, она чахнет прямо на глазах, ее привязанность к тебе доходит до абсурда… Всякий раз она меня спрашивает, не получал ли я от тебя писем. Это наводит меня на мысль, что ты прекратил с ней даже эпистолярную связь…» Пауло пожал плечами. Мариэта стала его прошлым, она доставила ему в свое время немало удовольствий и была полезна; теперь же все кончено. Она ему опротивела за месяцы, проведенные вместе в Париже: прежде всего потому, что следовала за ним всюду по пятам и сама намечала программу на каждый вечер – будто он не имел своей воли и был лишь каким-то неодушевленным предметом, которым она могла распоряжаться, как ей заблагорассудится. Он стал этому сопротивляться, между ними происходили сцены, некоторые даже при жене. Впрочем, Розинья обращала на все это мало внимания, особенно после того, как познакомилась с польским графом Заславским, бывшим летчиком, бежавшим от войны и стремившимся теперь получить визу для въезда в Бразилию. Граф ухаживал за Розиньей, и она, несмотря на свою внешность скромной воспитанницы монастырского пансиона, разрешала ему это. Она была довольна тем, что молодой блондин с большими голубыми глазами постоянно сопровождает ее в кино и кафе. Однажды, когда Розинья поздней ночью вернулась домой после ужина с графом (расплачивалась она, причем делала это охотно), Пауло обратился к ней с предупреждением: – Осторожнее с этим графом… Он завсегдатай дансингов, у него вид прохвоста… – Ты что, кажется ревнуешь? – засмеялась Розинья. – Ну, знаешь, нельзя сказать, что у меня для этого нет оснований: ты ведь с ним проводишь дни и ночи. – А ты, мой милый? Ведь вы с Мариэтой совсем перестали меня стесняться: только что не ложитесь при мне в постель. А когда вы пьянствуете, меня вообще как будто не существует. Между мной и графом нет ничего, а если бы что-нибудь и было, ты бы не имел права жаловаться. – Я ни на что не жалуюсь, – объяснил Пауло. – Я тебя просто предупреждаю: твой граф смахивает на авантюриста. – Не думаю. Кроме того, ты же ведь сам меня с ним познакомил. – Ладно, не будем ссориться. Розинья, в сущности, мало его интересовала; его тошнило при одном ее виде: глуповатое выражение лица, безвкусно одетая… но его беспокоила Мариэта, портившая ему жизнь бесконечными сценами. К счастью, он сумел уговорить ее вернуться в Бразилию. Несмотря на то, что началась война, это оказалось нелегким делом: Мариэта сопротивлялась самым упорным образом, несколько раз откладывала отъезд и окончательно решилась, только получив резкую телеграмму с вызовом от Коста-Вале. Она пролила немало слез: Пауло дал ей почувствовать, что продолжение связи между ними невозможно. Все, что им теперь оставалось, сказал он, – это забыть друг друга. В связи с войной и немецкой угрозой Парижу комендадора предложила молодым супругам похлопотать о переводе Пауло в Португалию. Однако Пауло не согласился: даже в военное время Париж был привлекательнее Лиссабона; возможно, он стал даже интереснее благодаря войне. Пауло познакомился с молодыми интеллигентами, проповедывавшими в кафе на бульваре Сен-Жермен нигилистскую философию презрения к жизни и к человеку. В посольстве ему было нечего или почти нечего делать, и он слонялся по Парижу, тратя деньги на покупку картин неизвестных художников, казавшихся ему гениальными. Время от времени он заходил в консульство поболтать с одним из сотрудников – его старым знакомым по литературным кругам Рио. Там он и встретился как-то с Аполинарио. Бывший офицер зашел в консульство, чтобы разузнать, сможет ли он получить паспорт. Он задержался, беседуя с консулом, слушая новости из Бразилии, разговоры о позиции правительства Варгаса по отношению к войне. В этот момент появился Пауло. Их познакомили. – Сеньор Пауло Карнейро-Маседо-да-Роша, секретарь нашего посольства. Сеньор Аполинарио Азеведо, наш соотечественник, проживающий в Париже. Он потерял паспорт. Простите, где вы работаете? – Представительство одной коммерческой фирмы… – вежливо улыбаясь, ответил Аполинарио. – Только, конечно, сейчас, в связи с войной… – Вы разве не думаете возвращаться? Мы сейчас всех репатриируем… – Пока нет. Мне нужно уладить здесь кое-какие дела, – небрежным тоном сказал Аполинарио. Если бы в консульстве узнали, что он был осужден в Бразилии на многие годы тюремного заключения, то сразу бы отобрали у него только что выданный паспорт. Пауло перелистывал бразильские газеты. – Почти ничего не сообщают о событиях в долине. А между тем, судя по письмам, там, по-видимому, заварилась каша. – Печать под контролем… Кроме восхвалений правительству, читать нечего, – заметил консул. Пауло отложил газеты. – В общем, вне зависимости от газетных сообщений, дело там, очевидно, серьезное. Достаточно сказать, что уже дважды назначали торжество открытия рудников, на которое собирался прибыть сам Жетулио, но всякий раз вынуждены были откладывать его. Это все происки коммунистов. Аполинарио заинтересовался: – Что это за долина? – Долина реки Салгадо, где открываются рудники для добычи марганца. В штате Мато-Гроссо… Долина принадлежит акционерному обществу, в котором принимает участие моя свекровь, ловкая старуха. А теперь из-за земель каких-то кабокло там началась вооруженная борьба. Она продолжается уже больше двух или трех месяцев. В письмах из Бразилии ни о чем другом не говорят. – Он улыбнулся, вспомнив одну деталь. – Коммунисты выкинули фортель: они испачкали весь фасад здания банка Коста-Вале. Шопел писал мне об этом, крайне встревоженный… У Аполинарио забилось сердце. Консул спросил, как это случилось. Пауло рассказал: – Нахальная вылазка. Часа в три дня подъехали на двух автомобилях, забросали дом бутылками с дегтем, раскидали по улице листовки и скрылись, прежде чем появилась полиция. Консул обратился к Аполинарио: – Вы видели что-либо подобное? Какая наглость! В самом центре Сан-Пауло… Дело дойдет до того, что эти коммунисты в один прекрасный день завладеют всей Бразилией. Что вы думаете? Аполинарио улыбнулся. – Я с вами согласен: в один прекрасный день они завладеют всей Бразилией. – Ба! – возразил Пауло. – Гитлер раньше покончит с ними и в Европе, и повсюду. – Либо они покончат с Гитлером, как знать? – Этого не может случиться, – возразил Пауло. – Гитлер непобедим. Если уж Франция и Англия не могли с ним совладать, что поделает Россия, когда придет ее черед? Россия не справилась даже с такой маленькой страной, как Финляндия. Только на днях один польский офицер, летчик, сражавшийся до падения Варшавы, рассказывал мне, что русские солдаты – даже без сапог… Обертывают ноги в газеты… Аполинарио улыбнулся. Он не имел права вступать в спор: французские товарищи рекомендовали ему быть как можно осторожнее. Пауло пожелал уточнить свою позицию: – Не думайте, что я нацист или фашист. Я демократ и сожалею, что днем раньше или позже Париж окажется в руках немцев. Но что можно поделать? Либо они, либо коммунисты… И пусть уж лучше немцы, чем коммунисты… 14
Доротеу обсуждал с Гонсало последние детали. Великан похудел, черная борода прикрывала грудь; он и кабокло ходили а лохмотьях. Ньо Висенте скрутил папиросу; даже табак подходит к концу. Доротеу считал, что продолжать забастовку невозможно: некоторые рабочие убиты, многие арестованы – над ними нависла угроза высылки. Когда Венансио Флоривал со своими головорезами вернется с фазенды, рабочим станет еще тяжелее; в лагере и так царит голод, приходится питаться одной рыбой, но теперь полицейские запрещают ловить и рыбу – воды реки якобы тоже принадлежат акционерному обществу. Вместе с тем главный инженер обратился к бастующим с предложением: так как забастовка помешала выполнить срочные работы, администрация решила вести их сверхурочно с оплатой по особым, повышенным расценкам, начиная с того дня, как бастующие вернутся на работу. Получался двойной нажим – при помощи подачек и при помощи террора. И поскольку борьба в долине ослабевала, многие рабочие – часть совершенно несознательных в политическом отношении – решили, что настало время кончать забастовку. Гонсало просил несколько дней отсрочки. Уже была достигнута непосредственная цель: долина пробудилась и поднялась против американцев и крупных плантаторов. Забастовка рабочих акционерного общества положила начало боевой традиции, которой будут следовать в дальнейшем, когда начнется добыча марганца и долина превратится в горнопромышленный центр. Восстали и батраки – пусть пока неорганизованно, только поджигая плантации, но и это было достижением, сулившим возможности новых успехов в будущем. Передавались слухи об откликах на борьбу кабокло даже в таких отдаленных местностях, как, например, на алмазных копях и на плантациях Мате Ларанжейра. А ко всему этому акционерное общество вынуждено было дважды откладывать торжества открытия рудников – и это представляло немалую победу над американцами. И все же Гонсало хотелось отсрочить забастовку еще на несколько дней. Он поджидал Эмилио с патронами, тот должен был получить их от Нестора в Татуассу. Конечно, происшедшие события и полицейский контроль, установленный над рекой, затрудняли его возвращение, но он должен вернуться буквально с минуту на минуту. Прежде чем закончить борьбу, Гонсало хотел, получив патроны, предпринять последнюю вылазку, потопить лодки, поджечь несколько выстроенных домов для японцев. Еще несколько дней – и он сможет успешно закончить операцию. Лейтенант военной полиции ушел со своими людьми на окружение лагеря, где, как он думал, еще находились кабокло. Новые дома японцев на берегу реки остались почти без охраны. Поэтому Гонсало предложил, получив боеприпасы, напасть на плантации: было нетрудно поджечь здания и потопить все каноэ, прежде чем из селвы вернутся солдаты. Доротеу согласился: – Ну, ладно, четыре-пять дней, но не больше… Они сидели на поваленном стволе дерева, до них доносился шум порожистой на этом участке реки. Гонсало вспоминал Клаудионора, которого он вовлек в революционную борьбу. Он рассказал о своей первой встрече с мулатом в праздничный день в поселке Татуассу. Теперь Клаудионор повешен на дереве, тело его разлагается, а поселок исчез с лица земли. Однако эта кровь и этот пепел пробудили сознание людей. – Долина сильно изменилась за эти годы… Если удастся выбраться отсюда живым, я буду тосковать по здешним местам. Негр Доротеу спросил: – Когда борьба закончится, ты уедешь? – Я получил такое указание. Но я рассчитываю вернуться сюда: слишком уж я привык. Начиная свою партийную жизнь, я работал в городе на фабриках. Но теперь я стал лесным жителем, мне нравится работать с крестьянами. Как только сложатся подходящие условия, я вернусь сюда: как знать, не придется ли мне еще работать даже с японцами? – Его взгляд с любовью скользил по деревьям, отыскивая невидимые берега реки. – А ты? – Я остаюсь здесь, на рудниках. Буду скрываться до тех пор, пока не забудут о забастовке. Но сохраню связь с людьми. Я тоже не хочу уходить отсюда. Когда я сюда прибыл, я был скорее мертвым, чем живым. Во всяком случае, интереса к жизни у меня тогда не оставалось и в помине. Работа в долине поставила меня снова на ноги. Гонсало, знавший историю Доротеу и негритянки Инасии, положил негру на плечо свою огромную руку. – Тебе предстоит здесь еще немало сделать – попортить кровь американцам. Мы ведь только приступили к делу. Будто посадили корень маниока, который сейчас едва начинает давать побеги. Кабокло посадили растения, а тебе предстоит их вырастить. Так мы отомстим за погибших товарищей… Имя Инасии не было произнесено, но тот и другой подумали и о ней, и о Клаудионоре, и о кабокло, павших в борьбе, и о рабочих, убитых во время забастовки. Негр Доротеу вытащил свою гармонику и приложил к губам. Над лесом разносилась мелодия «Интернационала». Ньо Висенте и кабокло подошли, чтобы лучше слышать. 15
Эмилио плыл по реке на каноэ, оставленной Шафиком. У его ног лежали два мешка с патронами. Немалого труда ему стоило добраться сюда, и Эмилио знал, что впереди его еще подстерегают опасности: берега реки находились под усиленным наблюдением полицейских и солдат. После того как он минует зону лагеря, где расположены рудники акционерного общества, пробираться, конечно, станет легче. Каноэ скользит по тихим водам, Эмилио старается не шуметь веслом. Он провел два дня, скрываясь в горах, ведя осла, навьюченного мешками с патронами. Его едва не захватили в Татуассу, когда полковник Венансио предавал поселок огню. Он и Нестор спаслись в последний момент. Молодой крестьянин вернулся на плантацию, а он скрылся со своим грузом в горах. Ему удалось добраться до берега реки и найти место, где была спрятана каноэ. С вершины горы он видел огонь, пожиравший поселок Татуассу. Когда год назад руководство партии в Сан-Пауло решило послать его в долину на помощь Гонсало и Доротеу, он с охотой принял это поручение. Он давно уже стал профессиональным революционером, объездил чуть не всю Бразилию, работал на соляных копях в штате Рио-Гранде-до-Норте и на угольных шахтах в Рио-Гранде-до-Сул, сменил десятки имен и десятки раз сидел в тюрьме. Последнее время он находился в районе Сан-Пауло, и полиция, зверствовавшая в ту пору по доносам Эйтора Магальяэнса и арестовавшая во время облав Карлоса и Зе-Педро, чуть было не схватила и его. Ему удалось спастись только потому, что полиция не знала его в лицо, – в Сан-Пауло он никогда не попадался. Однажды, возвращаясь домой, он увидел на улице полицейских – очевидно, местожительство его было обнаружено. Он невозмутимо продолжал свой путь, как обычный прохожий. После этого партия и решила послать его в долину. Это было сделано не только потому, что его разыскивала полиция, но и потому, что Эмилио был опытным армейским солдатом. Он служил под командованием Престеса в Санто-Анжело в 1924 году, когда тот, будучи молодым капитаном инженерных войск, поднял свой батальон на поддержку восстания 5 июля в Сан-Пауло[183]. Под командой Престеса он совершил всю кампанию в штате Рио-Гранде-до-Сул и переход в штат Парану на соединение с войсками генерала Изидоро[184]. Он был в числе тех двух с половиной тысяч бойцов, которые следовали за Престесом в его великом походе через всю Бразилию, продолжавшемся целых три года. Эмилио отличался храбростью, получил в Колонне чин лейтенанта и вместе с Престесом эмигрировал в Боливию. По возвращении в Бразилию он вступил в партию и начал жизнь партийного активиста. Во времена похода Колонны ему довелось побывать в долине реки Салгадо, он знал этот район; поэтому выбор и пал на него. Сейчас, плывя по реке, он вспомнил свое прошлое, боевые схватки Колонны в Мато-Гроссо. Во время похода Престес учился, читал, изучал произведения классиков марксизма. Немало лет протекло с тех пор, многое произошло за это время в Бразилии и во всем мире, но нынешняя борьба в долине была не чем иным, как продолжением боев Колонны. Разница была лишь в том, что теперь массы ясно сознавали, за что борются, теперь ими руководила партия. Дойдет ли весть об этой борьбе до одиночной камеры Престеса? Едва ли… Между тем Эмилио очень хотелось, чтобы генерал (всегда, думая о Престесе, он именовал его военно-революционным титулом командира Колонны) узнал об этой борьбе и о том, что он, Эмилио, старый солдат великого похода, находится на своем боевом посту. Это было несбыточной мечтой, ибо только Гонсало и немногие товарищи из Сан-Пауло знали, кто он. Эмилио улыбнулся собственным мыслям: «Чепуха! Ну как может генерал догадаться, что я здесь…» Каноэ бесшумно скользит по реке, Эмилио старается грести сильнее. И вдруг по реке пробегает мощный луч прожектора. Это придумали американцы, чтобы держать ночью берега под контролем полиции. Это было новостью для Эмилио; он направил каноэ на середину реки. Однако луч неожиданно упал на лодку, осветив его высокую и сильную фигуру. С берега кто-то закричал, оповещая остальных: – Это Гонсало! Смотрите – Гонсало! Эмилио быстро оценил положение: он понял, что спасения нет, берега охраняются солдатами и агентами полиции. Услышал шум запускаемого лодочного мотора. Ясно: его спутали с Гонсало; это даст ему возможность погибнуть, оказывая помощь партии. Луч прожектора снова шарил по реке, разыскивая его. Эмилио нахлобучил шляпу и привстал на цыпочки, чтобы казаться выше. На лодке заработал мотор. Кто-то закричал: – Сдавайся, Гонсало, живым не уйдешь!.. Эмилао знал, что река здесь очень глубока. Главное – чтобы полиция не захватила боеприпасы. Он быстро принял решение и начал действовать. Привязал оба тяжелых мешка к поясу – так его тело вместе с патронами останется на дне реки. Голос повторил: – Сдавайся, Гонсало! – Это был голос Миранды. На этот раз Баррос похвалит его: он доставит Жозе Гонсало живым или мертвым. – Жозе Гонсало не сдается! – крикнул Эмилио. Луч прожектора искал его, он стоял в лодке, мешки оттягивали ему пояс. Моторная лодка приближалась, он заметил ее в луче прожектора и выстрелил. В ответ раздался стон. «Попал…» – подумал Эмилио. Яркий луч осветил каноэ; наводке прожектора помогали указания с моторной лодки. Эмилио понял, что настал его последний час. Он крикнул, и его мощный голос отозвался эхом во мраке леса: – Да здравствует компартия! Да здравствует Престес! Выстрелы попали ему в грудь и в голову. Миранда и полицейские с моторной лодки видели, как ноги его подкосились и он рухнул в реку. Опустевшая каноэ продолжала медленно скользить по течению. Мутная вода окрасилась кровью. Миранда ликовал: – Вот и конец Жозе Гонсало… Его тело искали всю ночь, но безрезультатно. Кто-то высказал предположение: – С ним разделались пираньи. Они ведь не могут равнодушно видеть кровь. Каноэ доставили в лагерь, как трофей. 16
Весть о мнимой смерти Жозе Гонсало распространилась по фазендам, по долине, по рудникам акционерного общества – среди рабочих. Поверили все, даже негр Доротеу, хотя он и не мог понять, зачем великану понадобилось пробираться к лагерю на каноэ. Что теперь будет с оставшимися кабокло, беспокоился Доротеу, – теперь, когда не стало Гонсало, чтобы руководить ими? Негр опасался, как бы они не организовали шайку бандитов-кангасейро, как давно уже мечтал Ньо Висенте. И он решил отправиться в лес на поиски кабокло. В столице и крупнейших городах страны известие, переданное в ту же ночь по телеграфу, произвело сенсацию. Радио и печать разнесли эту новость, вечерние газеты Сан-Пауло поместили интервью с Барросом, в котором инспектор излагал биографию Гонсало, характеризовал его как «отъявленного бандита», перемежая все это горячими похвалами по адресу полиции. В самых различных районах Бразилии многие вспоминали в этот вечер о Гонсало. Товарищ Жоан в Сан-Пауло припомнил две свои встречи с великаном – в Куиабе и в долине; он вспомнил о его последней просьбе, переданной обычным спокойным голосом, – о последнем обращении к партии на случай, если ему придется погибнуть. Жоан сказал Руйво: – Замечательный человек! Когда я на него смотрел, создавалось впечатление, будто передо мной сама партия: ее сила, спокойствие, доброта, ум, решительность. На острове Фернандо-де-Норонья Карлос и учитель Валдемар, услышав по радио печальное известие, долго беседовали о Гонсало. События в долине укрепляли мужество заключенных на уединенном острове, где тюремный режим с началом войны стал еще тяжелее. Витор с грустью склонился в Баии над газетой, в которой эта новость была подана под крупными заголовками. Он почувствовал, что глаза его увлажнились. – Гонсало умер, – прямо не верится!.. Присутствовавший при этом молодой товарищ не знал Жозе Гонсало, и Витор ему объяснил: – Похоже, что в этом человеке были собраны все лучшие качества народа. Таков был Гонсалан… Гонсало… Не знаю почему, но мне не верится, что его убили. Кажется просто невероятным… Он порылся в своих бумагах и достал пожелтевшую фотографию. Этот был снимок Гонсало, сделанный незадолго до начала борьбы за пост Парагуассу. Молодой активист рассматривал это широкое и улыбающееся лицо. Витор повторил: – Невероятно… Прочитав на улице газету, Эйтор Магальяэнс, занятый в эти дни делами «Общества помощи Финляндии», издал радостный возглас, такой громкий, что некоторые прохожие даже обернулись. Воспоминание о великане, которого он так подло обманул, преследовало бывшего казначея комитета района Сан-Пауло. Он боялся, что Гонсало неожиданно появится, чтобы свести с ним счеты. И вот теперь он освободился от него. Доротеу, пробираясь по селве в поисках кабокло, тоже размышлял о Гонсало. Гонсало основал партию в долине, где до его появления не было никакой организации, и довел дело до вооруженной борьбы крестьян, правда, еще небольшой по размерам, но первой в этих глухих краях. Теперь ему, Доротеу, предстояло продолжить начатую работу, в его руках остались всходы, политые кровью Гонсало, – его наследство. Каково же было изумление Доротеу, когда кабокло, стоявший на страже у потайного убежища, привел его к великану. – Как же ты спасся? Ведь они видели, как тебя подстрелили и река окрасилась кровью… – То был не я… – Лицо Гонсало выражало скорбь. – Это Эмилио. Такие люди, как он, рождаются редко, Доротеу. Если бы он не прибыл сюда, не знаю, была ли возможна борьба, которую мы ведем. Это он добыл оружие, он наладил связь. И, умирая, он выдал себя за меня, чтобы я и дальше смог работать для партии. – Эмилио… Так значит, это был он? – Ты знал, что он из Колонны Престеса? Он мне рассказывал свою жизнь, о ней можно написать замечательный роман. Он настоящий коммунист. – Настоящий… – прошептал Дорогеу. Они обсудили затем создавшееся положение: известие о смерти Гонсало фактически положило конец забастовке, рабочие решили, что борьба в долине окончена. Венансио Флоривал огнем и мечом подавил волнения на фазендах. Нестор был вынужден скрываться. «Да, – согласился Гонсало, – борьба окончена. У нас не осталось патронов, чтобы продолжать сопротивление». Он уже переговорил с немногими уцелевшими кабокло и убедил их разойтись в разные стороны. Где бы они ни оказались, они теперь будут пропагандистами партии. Кабокло упорно возражали против разлуки. Ньо Висенте пытался убедить его возглавить отряд кангасейро. «Старому кабокло мало дела до политических идей, – говорил он Гонсало. – Все, что ему нужно, – отомстить тем, кто украл у него землю». А для этого, как ему казалось, не было ничего более подходящего, чем создать бандитскую шайку, которая нападала бы на фазенды, грабила и убивала. Однако Гонсало удалось убедить кабокло: договорились, что они совершат еще лишь один, последний налет, – отомстят за гибель Эмилио – и затем разойдутся. Доротеу возражал: – Каких результатов мы добьемся этим налетом? – Да какие же могут быть результаты? У нас почти нет патронов. Ну, разве что удастся поджечь несколько домов, вот и все. Я согласился на это больше ради кабокло: они не хотят уходить, не отомстив за Эмилио. Доротеу задумался. Лунный свет освещал его черное некрасивое лицо, он походил на лесного духа. – Я все-таки не согласен. Этот налет – безнадежное дело, ты не вправе идти на него. – Почему? – удивился Гонсало. – Кабокло хотят отомстить за Эмилио. Он этого заслужил. Да и кабокло заслужили на это право. Я ими командовал, знаю, что они имеют на это право, и мне не хочется лишать их права на месть. – Ты хочешь отомстить за Эмилио, не так ли? Сказать по правде, и я не прочь… Но одно дело – наши желания, Гонсало, другое – интересы партии. Ты и кабокло уже сделали здесь то, что было на вас возложено. Вы пробудили долину, она теперь никогда не забудет этой борьбы. Партия ждет тебя в другом месте, – не знаю где и не хочу знать. Полиция уверена, что ты погиб: ведь Эмилио умер, выдав себя за Гонсало, он до конца думал о партии. Почему он так поступил? Для того, чтобы ты мог продолжать работу для партии. А ты хочешь все испортить этим совершенно бессмысленным налетом. А если тебя узнают? Полиция убедится, что ты жив… Ты просто не имеешь права… – Но ведь я обещал кабокло… И себе самому… Отомстить за смерть Эмилио. – Мне это все знакомо. Бывают моменты, когда мы даем себя увлечь личным чувствам. Я уже испытал это и мне было очень трудно. Именно поэтому я не могу позволить, чтобы то же произошло и с тобой. Я сейчас говорю как районный партийный руководитель: этот налет не должен быть осуществлен. Поговорим оба с кабокло, а потом сегодня же ты отправишься по своему маршруту. Разве не таковы полученные тобой указания? Гонсало протянул ему руку. – Ты прав, я хотел сделать глупость. Не так отплачивают за смерть товарища. Поговорили с кабокло. Некоторые из них согласились с доводами Гонсало и Доротеу. Другие, в частности Висенте, возражали. «Нужно расплатиться за кровь Эмилио», – доказывал старый кабокло. Пришлось Гонсало сказать им: – Вы меня знаете, я – не трус. Доверьте мне месть за Эмилио. Придет день, и они расплатятся за его кровь. А сегодня мы должны разойтись; это лучшее, что мы можем сделать. Я никогда не обманывал вас… – Если тебе так хочется, пусть будет по-твоему… – в конце концов согласился старый Ньо Висенте. Кабокло один за другим обнялись с Гонсало. Ньо Висенте подарил ему заячий зуб, который он носил на шее на почерневшем от грязи шнурке. – Возьми с собой – это тебя защитит. Гонсало не мог говорить от волнения, он молча прижимал Ньо-Висенте к груди; казалось, он расставался с родными. Некоторые кабокло плакали, великан делал над собой усилие, чтобы справиться с волнением; он все же хотел сказать несколько слов на прощание, чтобы в сознании кабокло запечатлелось значение борьбы, которую они начали, и роли партии. Это не была речь, это была его последняя беседа с кабокло. Потом негр Доротеу взял свою губную гармонику и заиграл. Кабокло, каждый со своим оружием, расходились в разные стороны, и музыка провожала их. Остались лишь Ньо Висенте и еще четверо, собравшиеся уходить вместе. – Мы уйдем после тебя, направимся все вместе на алмазные копи… Гонсало еще раз обнял их – сначала старика, затем остальных четырех, а вслед затем зашагал вместе с Доротеу. Они исчезли во мраке селвы; музыка понемногу затихла вдали. 17
В то же утро на рассвете Ньо Висенте и четыре других кабокло совершили нападение на лагерь акционерного общества. Они появились с первыми лучами зари и начали стрелять в солдат, несших охрану складов. В лагере возник переполох, но ненадолго. Пятеро кабокло укрылись за каноэ, вытащенной на берег реки. В завязавшейся перестрелке они один за другим погибли, но и сами убили нескольких солдат и одного агента полиции. Когда Ньо Висенте остался один, он высунулся из-за каноэ, служившей ему прикрытием, прицелился в голову полицейского, выглядывавшего со стороны склада, и спустил курок. – За Эмилио!.. – воскликнул он. Он упал, сраженный в то же мгновение, когда и полицейский, в которого он стрелял; ружье его ударилось о каноэ, тело скатилось в реку и сразу погрузилось в бурные воды. Еще когда Ньо Висенте выходил из селвы со своими четырьмя кабокло, он сказал им: – Если мы нападем на лагерь одни, решат, что Дружище в самом деле погиб и никогда больше не будут его преследовать. Миранда подошел к трупам, толкнул их поочередно ногой и сказал мистеру Гранту, точность прицела которого вызвала восхищение полицейских: – Смерть Гонсало привела их в отчаяние. Нет лучшего доказательства, что в лодке был убит именно Гонсало. Тело старого Ньо Висенте выплыло на поверхность реки; губы его как будто улыбались под редкими, растрепанными усами. 18
Когда гости удалились и Мариэта, собираясь покинуть залу, накинула на плечи роскошную испанскую шаль, Коста-Вале сказал ей: – Немного погодя я приду к тебе. – Ты… ко мне? – удивленно спросила она. Она даже не представляла себе, сколько времени Коста-Вале не посещал ее спальни, – да, пожалуй, несколько лет. Без всякой ссоры Коста-Вале прекратил с ней супружеские отношения. Это произошло в период, когда Мариэта была увлечена очередным любовником и вначале даже не заметила отсутствия мужа. В дальнейшем, поскольку он ни разу не пытался объяснить свое поведение, а их супружеская жизнь, во всяком случае внешне, во всех отношениях протекала, как прежде, без треволнений, то и она, со своей стороны, тоже никогда не затрагивала этот вопрос. Ее лишь интересовало, как муж устроил свою интимную жизнь, но вскоре она удовлетворила свое любопытство: ей рассказали о квартире на авениде Сан-Жоан, где проживает некая привлекательная особа – бывшая сотрудница банка Коста-Вале. Уж не выпил ли он сегодня лишнего? У них был обед в честь мистера Карлтона, и молодой Теодор Грант поистине блистал, – как в столовой, излагая свои наблюдения о долине, о кабокло, о рабочих, так и затем в гостиной, у рояля, наигрывая фокстроты и распевая их своим приятным голосом. Молодой человек все время увивался вокруг Мариэты, и это раздражало Сузану Виейра. Ему удалось вызвать у Мариэты слабую улыбку и на какие-то мгновения оживить ее бледное лицо. Если бы она не была еще до сих пор целиком во власти воспоминаний о Пауло, она несомненно провела бы приятный вечер. Присутствовали все, кто обычно бывал у них в доме, за исключением Артура, который из-за работы в министерстве не мог отлучиться из Рио. Тут были и комендадора, и поэт Шопел со своими циничными теориями, и профессор Алсебиадес де Мораис с присущим ему архиторжественным видом, и полковник Венансио Флоривал, объявивший своим грубым голосом, что он «вырвал с корнем коммунизм и в долине, и в прилегающих землях». Уже была окончательно назначена дата открытия рудников «Акционерного общества долины реки Салгадо», и разговоры о предстоявшем празднике и закончившейся борьбе были в центре беседы за обедом. Мариэта не обращала внимания на все эти разговоры. Она немного оживилась лишь в гостиной, у рояля, за которым молодой Грант демонстрировал свои таланты. За обедом Мариэта только односложно отвечала на замечания мистера Карлтона. И даже потом, в гостиной, она еле разговаривала с гостями все с тем же отсутствующим видом, который стал для нее характерным после возвращения из Европы. Ее мысли витали в Париже, она все время думала о Пауло, которого никак не могла забыть, отсутствие которого убивало ее. Ей ничего не хотелось, большую часть времени она проводила, запершись у себя в комнате, перечитывая немногие письма Пауло, любуясь его портретом, перебирая подаренные им сувениры. Она не проявляла интереса ни к людям, ни к событиям, была далека от окружавшего мира и горько страдала. Мариэта не пожелала отправиться на летний сезон в Сантос, отказывалась от приглашений на приемы, обеды и праздники, а когда Коста-Вале назначал обед или вечер у них дома, не скрывала своего неудовольствия. Друзья приставали к ней – уж не заболела ли она. – Что? Ты ко мне? – повторила Мариэта. – Да, немного погодя. Или, если предпочитаешь, приходи ко мне в кабинет. Мне нужно поговорить с тобой. – И Коста-Вале вышел из комнаты. «Что ж, – подумала она, – очевидно, он хочет поговорить со мной о каком-нибудь новом деле». Даже перестав посещать ее спальню, муж продолжал рассказывать ей о своих деловых операциях и делиться с ней своими планами. Это было традицией, установившейся с первых дней их брака. Она действительно интересовалась делами Коста-Вале, и банкиру нравилось встречать в глазах жены восхищение его финансовым гением. Мариэта встала, еще раз окинула взглядом большую залу, где каждая деталь напоминала ей о Пауло: кресла, вазы, картины, купленные по его совету… Погруженная в свои мысли, она направилась в кабинет Коста-Вале. Муж ждал ее. Усевшись за письменным столом, он налил себе виски. – Хочешь? – Нет. Я слушаю тебя. Коста-Вале отпил глоток и поставил бокал на стол, затем, облокотившись на ручку кресла, взглянул на жену своим холодным взглядом. – Я недоволен тобой. Это был тон хозяина, которым Мариэта привыкла восхищаться. – Недоволен мной? Это, собственно, почему? – С тех пор как ты вернулась из Парижа, ты стала совсем другой. Молча бродишь по дому, как призрак. – Я чувствую себя нездоровой. – Нездоровой! – Коста-Вале в раздражении повысил голос, но даже и своим раздражением он умел владеть. – Я тебя позвал, чтобы поговорить серьезно, поэтому прошу не заставлять меня попусту терять время. – Он сделал небольшую паузу. – Твои мысли далеко отсюда. – А если бы и так? Тебе-то что? – Ты спрашиваешь: «Мне-то что?» Я тебе отвечу на вопрос вопросом: зачем я держу жену, чего ради я оплачиваю ее расходы, ее роскошь, ее мотовство, ее путешествия в Европу? Для чего я тебя содержу, если я с тобой не сплю? Как ты думаешь, зачем я это делаю? Отвечай! – Почем я знаю, Жозе… Я никогда над этим не задумывалась… – протянула Мариэта, но, поскольку он продолжал ждать ответа, добавила: – Может быть, потому, что ты не заинтересован в разводе: это обычно связано со скандалом, – почем я знаю… – Плевать мне на скандал! Я могу развестись с тобой в два счета. Судья без всяких разговоров вынесет нужное мне решение. Я могу бросить тебя с сотней конто, фактически лишив тебя состояния. Но я не заинтересован в разводе. И вот причина: я тебя уважаю, может быть, даже больше, чем кого-либо другого. – Ты меня позвал, чтобы сказать об этом? В таком случае, я тебе очень благодарна и могу заверить, что не только тебя уважаю, но и восхищаюсь тобой. Ну, а теперь спокойной ночи, позволь мне пойти спать, я устала… – И Мариэта поднялась. – Изволь сесть! – приказал он. И как только жена снова уселась в кресло, обратился к ней, понизив голос: – Послушай, Мариэта, так дальше продолжаться не может. – Но что, боже мой? – Твой обреченный вид, на который уже обращают внимание в обществе, отсутствие у тебя интереса к дому, к светской жизни, – все это приносит мне вред. Я не могу допустить этого, тем более в такой момент. – Я приношу тебе вред? Но каким образом? – Ты не ответила на мои вопросы: зачем мне нужна жена, и почему ты до последнего времени была для меня идеальной женой? Придется это сделать самому. Мне нужна жена потому, что я деловой человек, а для делового человека хорошая жена – капитал, и немалый. Когда я говорю «хорошая жена», я надеюсь, ты понимаешь, что это значит: элегантная, образованная женщина, умеющая принимать гостей, хорошо держаться на приемах, создавать мужу необходимые условия. Ты понимаешь, до какой степени хорошая жена может помочь такому человеку, как я? Думаю, что да, потому что до сих пор ты все это делала лучше, чем кто бы то ни было. И вдруг после возвращения из Европы ты совершенно переменилась: ты уже не прежняя хорошая жена – теперь все бегут из нашего дома. Если бы не Грант, сегодняшний обед скорее походил бы на похороны. А кому следовало занимать за столом гостей? Конечно, тебе – ты ведь хозяйка дома. А ты сидела, как мертвая, даже не отвечала бедному Карлтону. – Этот идиот может говорить только о своих миллионах и своих биржевых махинациях… – Оставь, Джон Б. Карлтон совсем не похож на идиота. А если даже и так, понимаешь ли ты, что он означает для моих дел? Это американский капитал, моя дорогая; если Карлтон меня не поддержит, я пойду ко дну. В особенности это важно сейчас, когда Жетулио заигрывает с немцами. Не знаю, рассказывал ли я тебе: я как-то намекнул Жетулио на свою заинтересованность в контракте на поставку оборудования для моторостроительного завода. Артурзиньо включился в это дело, и я уже считал, что все в порядке – дело верное. И что же: Жетулио передал контракт какому-то подлизе… знаешь кому? Некоему Лукасу Пуччини, брату балерины, которая жила с твоим Пауло… – Он слегка задержался на словах «с твоим Пауло», но этого было достаточно, чтобы Мариэта подскочила. – С моим Пауло? Это еще что за инсинуация? Коста-Вале повернулся, вглядываясь в нее. Теперь его холодные глаза приняли ироническое выражение. – Разве я имею обыкновение заниматься инсинуациями? Она опустила глаза и склонила голову. Голос банкира стал равнодушным, почти бесстрастным: – Я ничего не спрашиваю, не обвиняю тебя и не требую отчета. Эти истории меня не интересуют… Или во всяком случае интересуют лишь когда они вредят мне. – Он взял стальной нож для разрезания книг, острый, как кинжал, и начал играть им, устремив на жену долгий, пристальный взгляд. – Впервые, когда я узнал, что у тебя завелся любовник, я долго размышлял. Я мог бы разойтись с тобой: ведь тогда я еще был молод и имел возможность создать личную жизнь. Кроме того, у нас не было детей… Но я решил этого не делать. Именно потому, что во всем остальном ты была отличной женой. Я удовлетворился тем, что перестал посещать тебя. Я полагал: ты поняла мой жест и уяснила, что я хочу видеть в тебе только хорошую жену, которая мне нужна. Все эти годы ты была хорошей женой. Ты никогда не теряла голову, считалась с домом, с моими делами. Но сейчас вдруг… – Он вытер платком лысину, отпил еще глоток виски. – Так дальше продолжаться не может. Опомнись. И немедленно! В кабинете было жарко, лысина банкира блестела. Но руки Мариэты покрылись холодным потом, она сжалась в кресле, будто ее знобило. То, что высказал муж, даже не показалось ей циничным. Его слова приобрели такую реальность, что она почувствовала, как с каждой минутой освобождается от своей безнадежной любви к Пауло. В конце концов, что такое любовь в жизни всех их – Жозе, Артура, Пауло, Энрикеты и Тонико Алвес-Нето, поэта Шопела, Розиньи, Сузаны, ее самой, – что такое любовь, как не простое сексуальное чувство? Коста-Вале пришел в состояние раздражения не потому, что она ему изменяла, а потому, что в течение некоторого времени в одной из своих связей дала увлечь себя более глубокому чувству. Когда он начал говорить, она почувствовала унижение, ее гордость была уязвлена в том, что она считала великой любовью своей жизни… Но по мере того, как он продолжал, она все больше покорялась словам мужа и начала отдавать себе отчет, что с ней происходило. – Да, я потеряла голову, – призналась она. – Из-за кого? В конце концов, я не хочу говорить об этом. Я хочу, чтобы ты поняла: тебе нужно снова стать той Мариэтой, какой ты была всегда, – первой дамой Сан-Пауло. Это для меня важно. – Понимаю. Ты прав. – Мы собираемся устроить торжество в долине по случаю открытия рудников. Ты должна туда поехать, там принимать наших почетных гостей. После того, что произошло в долине, нам больше чем когда-либо нужен праздник, который не был бы ничем омрачен… Я не думаю, что приедет Жетулио: он сошлется на волнения, вызванные коммунистами, чтобы не поехать в долину. Но и без него будет масса гостей, соберется весь цвет общества. – Можешь быть спокоен, все будет в порядке. Он поднялся, улыбаясь. – Прости, моя дорогая, если я сказал что-нибудь неприятное. Ты не девочка, тебе уже не к лицу терять голову. Вместо того чтобы запираться у себя, ты должна выполнять обязанности хозяйки дома. Будь это так, – ты давно бы уже забыла этого ничтожного Пауло… Ты стоишь куда больше, чем он; жертвовать собой ради него – глупо. Я, – ты это знаешь, – стараюсь быть безжалостным. Устраняю со своего пути все, что может мне помешать. – Я уже сказала, что ты прав. Зачем продолжать? – Я тебя только еще раз предупредил… Значит, договорились? Ты отправишься в долину за день до торжества… – Когда угодно. – В таком случае, спокойной ночи. У меня еще есть работа. У себя в спальне Мариэта попробовала привести в порядок свои мысли. Усевшись в кресло, она про себя повторила резкие слова мужа. Ее рассеянный взгляд остановился на портрете Пауло: пресыщенный вид, болезненное выражение лица, свидетельствующее о вырождении. Она подошла к портрету, взяла его в руки, еще раз вгляделась в напудренное лицо молодого человека и спрятала фотографию в ящик. Медленно начала раздеваться. Да, Жозе прав… Она растянулась в постели, на лице ее заиграла улыбка: какой приятный голос у Теодора Гранта… И она стала тихонько напевать мотив одного из фокстротов, который исполнял молодой американец. 19
Суровые месяцы, тяжелые месяцы, полные трудностей и лишений. Бывали дни, когда у них с матерью даже не на что было купить хлеба: последние гроши уходили на питание ребенка. Но оживленная улыбка не сходила с уст Марианы – улыбка, преисполненная веры, улыбка, столько раз поднимавшая настроение товарищей, которые было пали духом под влиянием газетных сообщений. Под непрекращающимся гнетом полицейских репрессий выполнение любого, даже самого простого задания наталкивалось на серьезные препятствия. С того времени, как началась война и сообщения о победах Гитлера заполнили все газеты, с того времени, как, в связи с русско-финской войной, началась кампания ненависти и агитации против Советского Союза и коммунистов, – финансы партийной организации потерпели значительный урон; некоторые «кружки друзей» самоликвидировались, другие сократились до одного-двух человек. Никогда еще антикоммунистическая кампания не носила такого интенсивного характера; поэтому сочувствующие из среды мелкой буржуазии попросту испугались и перестали принимать партийных активистов, которым было поручено собирать взносы. Газеты изрыгали потоки клеветы по адресу Советского Союза, используя в качестве повода для этого войну с Финляндией; «эксперты», сочинявшие военные обзоры в печати, были единодушны в резкой критике Красной Армии, изображая ее как армию неспособную, плохо вооруженную и недостаточно снабжаемую, как армию с некомпетентным командованием. Финляндия, наоборот, преподносилась читателям как колыбель героев, как оплот цивилизации, поднявшийся на пути «варварских орд Востока». Ни одна газета не говорила о борьбе за мир, которую продолжали упорно вести советские руководители, об усилиях, предпринятых ими для мирного урегулирования конфликта с Финляндией. Даже в газетах англо-французской ориентации гораздо больше внимания уделялось нападкам на Советский Союз и на коммунистов, чем осуждению Гитлера и нацизма. Сакила в очередной серии статей отстаивал тезис, что «советский империализм так же опасен, как и германский империализм». Обвинение в принадлежности к коммунистам стало самым ужасным из всех. На основе малейшего доноса, на основе самых нелепых подозрений полиция производила аресты и начинала следствие, а трибунал безопасности выносил приговоры. В кругах интеллигенции воцарилась атмосфера страха и подавленности. Только фашисты, игравшие прежде незначительную роль в интеллектуальной жизни, бахвалились на сборищах в книжных лавках, диктовали свои порядки, угрожали… Сеть полицейского шпионажа разрослась настолько широко, – и не только на фабриках и заводах, но и на улицах и в кварталах городов, – что Сисеро д'Алмейда охарактеризовал положение следующей фразой: – Сейчас развелось столько провокаторов, что, когда кто-нибудь начинает со мной разговаривать, я никогда не уверен – кто это: мой поклонник или агент полиции… На фабриках положение стало еще хуже: хозяева использовали любую, даже самую незначительную попытку рабочих добиться увеличения заработной платы, чтобы заявить, что это выступление носит «коммунистический характер». На одной фабрике было арестовано тридцать рабочих за то, что они заявили протест против зловония, распространяемого единственной на всю фабрику уборной, которая к тому же оказалась засоренной. Хозяин распорядился вызвать полицию: «Коммунистическая агитация на фабрике!» Однако, несмотря на то, что в пролетарских кругах свирепствовал полицейский террор, все же именно рабочие регулярно вносили деньги, которые были необходимы партии: эти средства шли на покупку бумаги и типографской краски, для выпуска «Классе операриа», на печатание листовок, на краску для лозунгов на стенах домов, на передачи арестованным товарищам, на поездки и – когда случайно что-нибудь оставалось – на выдачу мизерной части заработной платы партийным работникам. Так было по всей стране, но в Сан-Пауло оказалось еще тяжелее: полиция не давала передышки, аресты следовали один за другим, даже многие люди, которые не вели никакой политической деятельности, проводили дни за днями в коридорах и кабинетах центральной полиции, куда их вызывали для допросов. Баррос применял все методы, начиная от раздачи денег огромной армии шпионов и провокаторов и кончая побоями и избиениями арестованных. В управлении охраны общественного и социального порядка фабриковался процесс за процессом для трибунала безопасности, который заседал в Рио. Но Баррос не чувствовал удовлетворения: он знал, что партийный комитет Сан-Пауло продолжает работать, и ему не терпелось схватить Жоана и Руйво. Предполагаемое убийство Гонсало, окончание забастовки и восстания кабокло в долине принесли Барросу публичное одобрение в виде похвальных отзывов в газетах о его деятельности. С другой стороны, смелый побег Рамиро и своеобразная демонстрация перед банком Коста-Вале говорили о том, что партия продолжает работу, несмотря на репрессии. И номера журнала «Перспективас» вопреки всякого рода ограничениям, налагавшимся цензурой, быстро расходились в газетных киосках. Тем не менее департаменту печати и пропаганды еще не удалось его запретить. Редактировавшие журнал Маркос де Соуза и Сисеро д'Алмейда приобрели такой опыт, что не давали цензуре повода для решительных действий. Кроме того, имя Маркоса продолжало еще служить некоторой защитой для журнала, хотя его, как редактора, уже однажды вызывали в полицию. Инспектор Баррос, держась очень любезно, сказал ему: – К нам поступает много доносов на журнал, которым вы руководите, сеньор. Вас обвиняют в том, что журнал носит коммунистический характер… – Коммунистический? Но ведь вам отлично известно, что для печати существует предварительная цензура. Весь публикуемый материал предварительно прочитывается и утверждается не только департаментом печати и пропаганды, но и полицейской цензурой. Обвинять журнал в его коммунистическом характере при данном положении равносильно тому, чтобы обвинять департамент печати и пропаганды и полицию… Баррос обратился к фактам. – Как, однако, объяснить, что у каждого коммуниста, которого мы арестовываем, в доме непременно находят экземпляры «Перспективас»? – Этот журнал посвящен вопросам культуры и его может читать каждый, кто проявляет интерес к этим вопросам. – Вот это-то и странно: журнал по вопросам культуры, а читают его рабочие. Арестовываем рабочего и находим у него в доме номера вашего журнала. – Насколько мне известно, пока еще нет закона, который запрещал бы рабочим читать. И одна из задач нашего журнала как раз в том и заключается, чтобы нести культуру в народ. – А для чего народу культура, сеньор? Для чего, скажите мне? Как видите, сеньор, это коммунистическая идея. – Но в таком случае вы полагаете, – улыбнулся Маркос, – что только коммунисты заботятся о народе? Это утверждение носит подрывной характер, оно находится в резком противоречии со всеми речами президента республики. Если вам угодно, сеньор, провозгласить это публично, вас предадут суду трибунала безопасности. Разговор продолжался в таком же тоне: в намерения Барроса входило напугать архитектора. Когда Маркос ушел, инспектор, ворча, обратился к Миранде, присутствовавшему при этом споре: – Культура для народа… Придет время, мы с ними поговорим иначе… Хорошо бы сразу покончить со всеми этими писателями, художниками, архитекторами!.. Почти все они – явные или скрытые коммунисты. Даже те, кто близок к правительству. Для меня лично достаточно, чтобы человек сочинял, художничал, вообще занимался какой-нибудь такой ерундой, и у меня уже нет к нему доверия. Для меня – этим все кончается… Репрессии, усилившиеся после побега Рамиро, стали еще более жестокими после инцидента у здания банка Коста-Вале. Если и до этого полиция арестовывала всех подозреваемых без разбора, то после встречи Барроса с Коста-Вале она с еще большим остервенением набросилась на рабочие кварталы. Миллионер не стеснялся в выражениях – и Барросу пришлось выслушать немало горьких истин: полиция неспособна к решительным действиям, ассигнования плохо используются, бдительность отсутствует; давно уже пора покончить с коммунистами в Сан-Пауло, а они еще устраивают демонстрации. Куда же годится управление охраны политического и социального порядка? В этот период Мариане пришлось провести некоторое время вдали от Сан-Пауло. Полиция разыскивала женщину, подготовившую побег Рамиро, и товарищи опасались, как бы не обнаружили Мариану. Она отправилась с сыном в Жундиаи и остановилась там в доме рабочих, у которых когда-то справляла свадьбу, – в доме, полном дорогих ее сердцу воспоминаний. Но она не сидела там сложа руки: помогала товарищам, участвовала в собраниях, стремилась оживить работу. Во время ее отсутствия комитет, в состав которого она входила, был почти целиком арестован: полиция выследила его в результате арестов, произведенных в низовых организациях. Товарищи держались в тюрьме стойко, и полиция по-прежнему ничего не знала о Мариане. Мариана занялась восстановлением работы комитета. Только тогда она увидела, насколько сократилось – в итоге преследований, начатых с ареста Карлоса и Зе-Педро, – количество активистов партии в Сан-Пауло. Едва заполнялась брешь в одной организации, как открывалась в другой. Привлечение в партию новых членов было сопряжено с огромными трудностями: не одному полицейскому агенту из числа многих, направленных на фабрики и заводы, удалось проникнуть в партию, чтобы потом выдать низовые ячейки и даже целые партийные комитеты. По возвращении Руйво сказал ей: – Надо быть все время начеку. Некоторые товарищи проявили недостаточную бдительность при приеме новых членов партии. И видишь, что получилось: люди то и дело проваливаются. – И он принялся разъяснять ей, как надо работать в этих трудных нелегальных условиях. – У нас не может быть сомнения в том, что враг просачивается в наши ряды, и почти невозможно полностью избежать этого при существующих обстоятельствах. Важно опираться на проверенные кадры, не доверять первому встречному. Они хотят добраться до руководства всей организации Сан-Пауло, полиция разыскивает нас по всему городу. Больше бдительности, Мариана, надо быть все время начеку! Мариана с матерью и сыном переехала из того дома, где жила после свадьбы. Это было сделано не только из соображений безопасности, но и потому, что квартирная плата здесь являлась для нее непомерно высокой. Теперь они жили еще дальше, в маленьком домишке с дырявой крышей, но зато в более надежном и более дешевом. И все же они тратили на аренду большую часть тех скромных средств, на которые им нужно было жить. Мать никогда не жаловалась, она даже хотела снова пойти работать на фабрику и не сделала этого только потому, что тогда некому было бы смотреть за ребенком. Возвращаясь по вечерам домой, зачастую пешком, чтобы сэкономить несколько тостанов на трамвае, устав за день от работы, Мариана чувствовала, что пример матери, которая не роптала, ухаживая за внуком, и стойко переносила тяготы жизни, дает ей новые силы. Младшая дочь не раз приглашала мать жить y нее в доме, где всего было вдоволь (зять-португалец жил припеваючи, жирел и уже подумывал о расширении своего дела: он собирался приобрести по соседству вторую мясную лавку), но старуха упорно отказывалась: она считала, что ее место – рядом с Марианой, как некогда – рядом с отцом. Случалось, что иной раз у них не было на обед ничего, кроме фасоли. Но, несмотря на это, старуха не жаловалась и не переставая рассказывала Мариане про шалости ребенка, который теперь уже начинал ходить и лепетал первые слова. Мариана радостно улыбалась и не падала духом. Иногда она получала записку от Жоана, в которой говорилось: «У меня все благополучно, обо мне не беспокойся. Поцелуй за меня мальчика. Крепко люблю тебя…» В эти дни она чувствовала себя совсем счастливой. – Я счастлива, очень счастлива… – рассказывала она Маркосу в тот самый вечер, когда Коста-Вале разъяснял Мариэте свою концепцию «хорошей супруга». – Люблю своего мужа, ребенка, мать, свою работу… Мариана пришла просить денег. Положение создалось отчаянное: требовалось купить бумагу для типографии и запасную часть для печатного станка, который вышел из строя. Руйво использовал для этого поручения Мариану, поскольку ни он, ни Жоан в эти дни не могли встретиться с архитектором. – Он нам в этом месяце уже дал некоторую сумму. Маркос – молодец, он не дезертировал, не испугался, как многие. Это сочувствующий, но он ценнее для нашего дела, чем некоторые члены партии, которые теперь отошли от работы. – Фактически – он член партии. – Да, он очень вырос политически. Хороший человек. Вдвоем с Сисеро они ведут журнал. А журнал оказывает нам неплохую службу. Скажи Маркосу: очень сожалеем, что вынуждены еще раз прибегнуть к его помощи. У Маркоса не было при себе нужной суммы. Мариана предпочла не брать чека: не стоило рисковать, посылая кого-нибудь в банк. Лучше, чтобы Маркос сам получил эти деньги. Кто-нибудь за ними придет. Архитектор согласился, а затем они дружески побеседовали; они давно уже не встречались, и у них накопилось много тем для разговора. – Я не понимаю, как вы можете все время находиться вдали от Жоана. Разве не трудно жить вдали от любимого человека? – И Маркос подумал о Мануэле, находившейся теперь еще дальше – в Чили, в Сантьяго. – Трудно ли?.. Знаете, Маркос, в иные дни я бы отдала десять лет жизни, чтобы побыть с ним хоть пять минут, чтобы услышать его голос, посмотреть в глаза. Знаете, сколько времени я не видела Жоана? Восемь месяцев… В последний раз я с ним встретилась на расширенном пленуме… Это было наше последнее большое собрание… Восемь месяцев… Но и тогда у нас не было времени, чтобы побыть вместе. И он не может иметь при себе даже портрет Луизиньо. – Почему? – Если его арестуют, фотография может навести на мой след. У нас дома тоже нет портрета Жоана. Иногда я начинаю вспоминать, какой он: его лоб, худощавое лицо, легкую улыбку в уголках рта… – Как вы можете выносить разлуку? – Я ведь говорю, что счастлива, очень счастлива… Он работает где-то там, я здесь – и все же мы как будто вместе. Только знать, что он меня любит; одно это дает мне огромную радость! Настанет день, когда мы будем вместе, и эта разлука приведет к тому, что мы будем спаяны еще крепче. Сейчас он не со мной, это верно. Но что такое любовь, Маркос? Только ли совместная жизнь или нечто большее – общие чувства, одинаковые идеи, совместная борьба? Если моя любовь настолько мелка, что требует постоянного присутствия Жоана, – это сделало бы меня несчастной. Есть тысяча вещей, которые привязывают нас друг к другу гораздо сильнее, понимаете? – Она улыбнулась и лукаво посмотрела на Маркоса. – Конечно, я очень хочу увидеть его, обнять. Но уже сам по себе факт, что мы любим друг друга и боремся вместе, делает меня счастливой. Не говоря уже о мальчике… Маркос тоже улыбнулся и сказал: – Да! Вы, рабочие, сделаны из другой глины. Вот почему я не могу сказать «мы», когда говорю о партии, а вынужден говорить «вы». Я понимаю, почему пролетариат – руководящий класс, и сознаю, как он воодушевляет и облагораживает чувства. Мы, мелкобуржуазная интеллигенция, одеваем любовь в красивые слова, но, в сущности, она не играет для нас большой роли. А для гран-финос она вообще не имеет никакого значения, все сводится к постели… Мариана посмотрела на него пристально, она догадывалась, что за словами друга скрывается что-то личное. – А что знаете о любви вы, убежденный холостяк? Разве для вас любовь не то же, что и для гран-финос? По сути вы сами вряд ли живете в ладу с моралью, – засмеялась она. – Мариана, любовь приходит не тогда, когда мы этого хотим, и не всегда мы любим того, кто любит нас. Это – дело сложное… – И вы не хотите поделиться со мной своими переживаниями? Я ведь тоже вздыхала от любви, Маркос; старый Орестес мог бы многое рассказать. – Вы помните Мануэлу? – Как же я могу ее забыть? Самая красивая и самая грустная женщина, какую я видела в своей жизни. Я всегда думала, что вы поженитесь и я буду у вас крестной матерью. – Для этого нужно желание обеих сторон. – А вы ее спрашивали? – Нет. Но… И он рассказал ей, поначалу немного сбивчиво, всю историю своих чувств, своих сомнений, своих колебаний. Он рассказал ей о прогулке по Фламенго, потом о вечере, когда Мануэла дебютировала в иностранной балетной труппе, о недомолвках в их беседе, о новых политических настроениях Мануэлы (нет, она никогда не очутится во вражеском лагере), о деньгах, которые она через него передала партии. Мариана слушала молча, по временам поглядывала на Маркоса и на устах у нее блуждала легкая улыбка. Однако она стала серьезной, когда Маркос рассказал о сопротивлении девушки проектам брата, о новых предложениях со стороны тех, кто ее однажды обманул. – А почему бы вам не написать ей и не спросить, согласна ли она выйти за вас замуж? – Вы с ума сошли? Я же объяснял… – Да, вы действительно сложные люди… Хотите знать мое мнение? Вы играете друг с другом в жмурки. – То есть, как это? – Я готова поклясться, что Мануэла рассказала бы мне точь-в-точь такую же историю, как и вы. Только там, где вы говорите «Мануэла», она бы сказала «Маркос», а где вы говорите… – Будь это так… Но я убежден, что дело обстоит совсем иначе. Кроме того, она так молода, а мне уже под сорок… Мариана рассмеялась. – Какой вы ужасный мелкий буржуа со всеми их предрассудками!.. – Однако она тут же приняла серьезный вид. – Не сердитесь, я шучу. – Сердиться? За что? – Поговорим серьезно, Маркос. Возможно, она вас и не любит, может быть, это просто дружба, как вы ее понимаете. Но ведь глупо сидеть сложа руки и не попытаться выяснить истинное положение вещей. Теперь дальше: вы не можете бросить Мануэлу. Понимаю… Если она вас любит, очень хорошо. Но даже если и нет, – она нуждается в вашей дружбе. Она хорошая девушка и, как говорят, очень талантливая. Вы должны ей помочь, должны помешать тому, чтобы гнусные люди снова не отвоевали ее. Вы перестали ей писать – это нехорошо. Это просто эгоизм с вашей стороны. Напишите ей что угодно, но напишите, не оставляйте ее одну в этом чужом мире… Я не пишу ей только потому, что в моем положении для меня это невозможно. – Вы так думаете? Что ж, может быть, вы и правы… Если я ее люблю, логично, что она меня интересует, что я ей помогаю, даже если она меня и не любит. Да, именно так. Я сегодня же ей напишу… – Он говорил, казалось, сам с собой. – Сознайтесь, ведь на самом деле вам очень хочется ей написать? Они еще долго говорили. Мариана уважала Маркоса и ей было интересно с ним потолковать. Когда она ушла, он сел за пишущую машинку и начал письмо к Мануэле. Он не говорил ей о любви, а рассказывал о своих делах, о том, что происходит в Бразилии, спрашивал, как ей живется. Но за всем этим в каждой строчке письма чувствовалось, что он скучает по ней, в каждом слове угадывалась любовь. 20
Мариэта Вале прибыла в долину реки Салгадо в компании с Бертиньо Соаресом, незамужней племянницей комендадоры да Toppe, поэтом Шопелом и мистером Теодором Грантом. Все они предложили свои услуги, чтобы помочь в подготовке праздника, но, по правде сказать, никто из них не был для этого здесь нужен, пожалуй, даже и сама Мариэта. На самолете, прилетевшем раньше, были доставлены повара, лакеи и прочие слуги, посуда, хрусталь, а также огромное количество еды и напитков. Полковник Венансио Флоривал уже находился в долине, посетив перед тем свои близлежащие фазенды. В программу праздника входила встреча гостей, которые должны были прилететь завтра утром на десяти-двенадцати самолетах. Затем намечалось торжественное открытие ряда объектов: аэродрома (где уже было построено красивое здание с надписью: «Акционерное общество долины реки Салгадо. Аэропорт»), различных сооружений на холме и в лагере, линии узкоколейки, ведущей к залежам марганцевой руды, и, наконец, первых рудников. Потом предстоял завтрак, после чего часть гостей – мужчины – отправится на моторных лодках к плантациям японцев, где состоится торжественное открытие колонии. Дамы используют это время на то, чтобы отдохнуть и приготовиться к вечернему балу. Помещение склада, во время волнений служившее тюрьмой, будет использовано для устройства банкета, а вечером там состоится бал. Из Сан-Пауло вместе с гостями прибудет знаменитый джаз-оркестр. В домах инженеров и служащих на холме, приведенном в культурный вид, были приготовлены кровати для тех гостей, которые пожелают покинуть праздник, чтобы выспаться. Но лозунг, брошенный Мариэтой, гласил: «Танцевать, есть и пить всю ночь напролет, до отправления самолетов на Сан-Пауло». Среди друзей дома был уговор никому не давать спать. Торжество открытия работ дважды откладывали: поэтому его нужно хорошенько отпраздновать. Кроме того, на этом балу будет отмечено и другое сенсационное событие: только что объявленная помолвка Сузаны Виейра и Бертиньо Соареса. Сузана, которой, по-видимому, надоело ждать другого кандидата, и Бертиньо, уступивший нажиму семьи, заинтересованной в том, чтобы прикрыть покровом брака его «экстравагантные привычки», решили обвенчаться зимой, когда «Ангелы», ныне находящиеся в отпуску, вернутся на сцену. Мариэта в сопровождении друзей посетила помещение склада, уже приготовленное к завтрашнему банкету и украшенное для бала, побывала в домах инженеров и служащих, где предполагалось разместить гостей, если они пожелают отдохнуть, дала ряд указаний и распоряжений. Обнаружила неприятное осложнение: забыли привезти бокалы для шампанского; понадобилось послать срочную радиограмму в Сан-Пауло, чтобы их упаковали и прислали самолетом. Затем Тео Грант показал ей достопримечательности поселка: магазин, где во время забастовки были убиты рабочие, место на берегу реки, где пали Ньо Висенте и четыре кабокло. Воспользовавшись хорошей погодой, к вечеру организовали прогулку на лодке, чтобы посмотреть то место реки, где застрелили Эмилио, предполагая, что это Жозе Гонсало. – Вот здесь и погиб их руководитель Гонсало, – указал молодой Грант, рассказывая подробности убийства. – Это исторические места нашей долины, – провозгласил Шопел. – Знаки борьбы цивилизации против варварства. Гости поднялись немного выше по реке; шум лодочного мотора привлек внимание японцев, и они вышли на пороги своих новых деревянных домиков. Тео Грант снял шляпу, подставив под палящие лучи солнца свои рыжеватые волосы. – Вот здесь, в самом начале борьбы, убили одного моего соотечественника, инженера. – Какая подлость! – со вздохом произнес Бертиньо. У Мариэты в руках был букетик лесных цветов, собранных Грантом. Когда он преподнес ей цветы, преклонив в шутку по обычаю древних рыцарей колено, она прижала их к груди с благодарной и нежной улыбкой. Теперь она разбросала букетик по воде в память погибшего здесь инженера янки, оставив себе лишь один цветок. Грант поцеловал ей руку. – Как это все красиво! – зааплодировал Бертиньо. Шопел, хотя и без всякого энтузиазма, согласился с этим; он с надеждой поглядывал на Мариэту с той поры, как она вернулась из Европы. А теперь на его пути оказался еще этот молодой американец! Это была постоянная беда Шопела: женщины насмехались над его толщиной, они не принимали его всерьез. Вечером в компании главного инженера и других высших служащих акционерного общества все уселись на вершине холма, любуясь панорамой долины. Электрические фонари не могли, однако, затмить красоту звездного неба. Лунный свет отражался желтыми бликами в реке. В лагере рабочих кто-то играл на гитаре. Главный инженер рассказывал о долине, о рудниках, о марганце. Сузана потребовала от Шопела, чтобы он переводил. – Нет, сейчас решительно нужно учить английский. Тео Грант, который на время куда-то исчез, вернулся и прошептал на ухо Мариэте: – Тут есть прекрасная лодочка для ночной прогулки по реке. У вас нет желания покататься? Они отправились вдвоем, сопровождаемые ревнивым взором Шопела, которому главный инженер продолжал выкладывать цифры и данные. Вдали, в деревянных домиках рабочих, гасли тусклые огоньки. На другой день все – инженеры, служащие, рабочие рудников, японцы, прибывшие с плантаций, – собрались на аэродроме встречать гостей. На двух высоких мачтах развевались флаги Бразилии и Соединенных Штатов. Самолеты приземлялись один за другим с интервалами в несколько минут. Были преподнесены цветы мистеру Карлтону, Коста-Вале, комендадоре да Toppe, министру Артуру Карнейро-Маседо-да-Роша, двум другим министрам, прибывшим вместе с ним, наместнику штата. По прибытии всех самолетов гости направились в здание аэропорта. Там были произнесены первые речи: выступили Артур от имени федерального правительства, наместник штата и мистер Карлтон. Супруга наместника разрезала золотыми ножницами символическую ленту. Затем все отправились в лагерь, который теперь напоминал обжитый поселок: на холме виднелись белые коттеджи инженеров, на равнине были разбросаны деревянные домишки рабочих, почти на границе леса – большие здания предприятий компании. Последовала новая церемония, произносились новые речи перед зданием акционерного общества, представлявшим собой тяжеловесное и некрасивое сооружение. Здесь выступили Коста-Вале, один журналист из Сан-Пауло и главный инженер рудников. Крестной матерью на этом торжестве была Мариэта. И так, почти до трех часов дня, они без конца произносили речи, открывали различные объекты и расточали похвалы способности и патриотизму Коста-Вале и великодушному вниманию, проявленному к Бразилии мистером Джоном Б. Карлтоном. Наконец наступило время завтрака. Шопел пожаловался полковнику Венансио Флоривалу, оказавшемуся его соседом по столу: – Никогда за всю мою жизнь я не чувствовал такого голода и не слышал столько плохих речей. – Не хнычь, малыш! Это необходимо. Это придает блеск зарабатываемым деньгам. Во время десерта снова послышался стук по бокалу: кто-то хотел произнести очередной тост. – Еще речь, какой ужас! – возмутился Шопел, рубашка которого на груди была вся запачкана жиром. – А! Это Эрмес, послушаем, что он скажет… Это действительно был Эрмес Резенде, сидевший между Сакилой и Грантом. Он пожелал произнести тост на английском языке. – За здоровье американских специалистов, взявшихся столь благородно и бескорыстно содействовать своими знаниями цивилизаторской работе на этом участке бразильского сертана, – провозгласил он. Сузана Виейра захлопала в ладоши, хотя и не поняла ни слова. Мариэта Вале чокнулась с мистером Карлтоном, с консулом Соединенных Штатов, с главным инженером и, наконец, с Грантом. Коста-Вале любовался, как она себя ведет: никто другой не умел так принимать и очаровывать гостей, как она… Лишь небольшая группа приглашенных пожелала отправиться после завтрака на плантации японцев. Там Венансио Флоривал пробурчал несколько фраз, а посол Японии произнес целую речь. После этого все быстро вернулись обратно, чтобы хоть немного отдохнуть перед званым вечером. Бал начался в десять часов. Солдаты поста военной полиции, учрежденного теперь постоянно в поселке, прогнали рабочих, которые пришли к помещению склада, превращенного в зал для танцев. Зал был освещен теми самыми прожекторами, при помощи которых охотились за кабокло по берегам реки. Лозунг Мариэты: «Танцевать, есть и пить всю ночь напролет, до отправления самолетов на Сан-Пауло!» – переходил из уст в уста. Около двух часов ночи поэт Шопел, изрядно выпивший и весь потный, объяснился в любви Сузане Виейра, пытаясь декламировать ей свои романтические стихи: О, непорочная дева, я хочу облить тебя грязью И грехом облечь твою невинность… Однако Сузана с хохотом отвергла и его признания в любви и его стихи, требуя, чтобы он относился к ней с должным почтением. – Я требую полного уважения, Шопел, я теперь невеста… – Невеста? – Шопел силился вспомнить о помолвке; он что-то слышал по этому поводу. – Чья невеста? – Вон его… – Смеясь, как сумасшедшая, Сузана показала на Бертиньо Соареса. А он, воспользовавшись антрактом между фокстротами, раскачивался посреди зала с бутылкой шампанского в руке и фальцетом напевал игривую французскую песенку. В ней он сетовал на то, что не может, подобно женщинам, носить красивые платья из крепжоржета. Такое счастье могло быть для него возможным, если бы… …папа с мамой на бульваре Бастилии сделали девочку вместо мальчика… Многие гости уже не стояли на ногах и, конечно, не могли дойти от зала до аэродрома. Их пришлось туда отвезти. В зале пустые бутылки валялись на столах вместе с остатками яств. Когда забрезжило утро, все собрались в путь. Первые лучи солнца озарили долину; проснулись рабочие – им пора было идти на работу. В здании аэропорта был приготовлен черный крепчайший кофе, чтобы подбодрить гостей перед полетом. Все и направились в аэропорт, пока команды готовили самолеты к вылету. Приглашенные уже приблизились к зданию, когда Шопел воскликнул: – Смотрите! Смотрите! Поэт указывал на мачты, на которых накануне висели флаги Бразилии и Соединенных Штатов. Флаг Бразилии был там и сейчас, он развевался на утреннем ветру. Но на другой мачте уже не было американского флага. На его месте висела разорванная мужская рубашка необычного цвета. То была рубашка Ньо Висенте, и этим необычным цветом был цвет крови кабокло, пролитой в этой долине. – Собаки! – пробормотал Коста-Вале, глядя по направлению к рабочему поселку. – О! – смог произнести побледневший мистер Карлтон. Где-то далеко в лесу раздался звук губной гармоники, столь нежный и мелодичный, что он смешался с утренним пением птиц. Глава восьмая 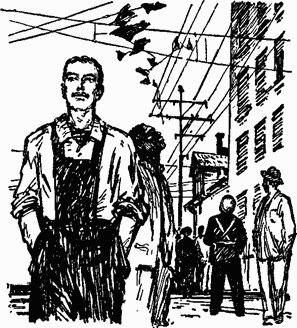 1
Многие в этом, 1940, году сделали себе из клеветы на коммунизм выгодную профессию, но никто не зарабатывал на ней так много, как Эйтор Магальяэнс, врач без практики, журналист без газеты. На его визитных карточках значилось: «Доктор Эйтор Магальяэнс – врач и журналист», но, знакомясь с кем-либо, он обычно с живостью добавлял: – Казначей «Общества помощи Финляндии». Мы собираем средства, чтобы помочь благородному финскому правительству оказать сопротивление нашествию коммунистических орд. Он носил с собой кожаный портфель, набитый документами о Финляндии, о русско-финской войне, об «Обществе помощи Финляндии». Молодой, элегантный, красноречивый, он обычно бывал хорошо принят в конторах фабрик, в торговых заведениях, в крупных компаниях, банках, ателье мод. Некоторым его имя было известно, другим Эйтор напоминал сам: – Я автор очерков о коммунистической партии, которые были напечатаны в газете «А нотисиа». Теперь они объединены в одном томе, куда включено также много неопубликованных ранее материалов. Он открывал свой кожаный портфель, вытаскивал экземпляр книги – на обложке была изображена зловещая фигура, державшая нож, с которого стекали крупные капли крови, образовывавшие название книги: «Преступная жизнь компартии». Фамилия автора была напечатана броскими синими буквами. Каждый экземпляр был обернут в бумажную широкую ленту, на которой, помимо надписи «Сенсация!», можно было прочесть два критических отзыва о книге. В первом из них говорилось: «Я прочел эту книгу в один присест, как самый увлекательный приключенческий роман. Талант автора в сочетании с патриотическим мужеством встал на защиту добра против зла, правды против гнусной коммунистической демагогии. Эта книга – предостерегающий клич». Следовала подпись поэта Сезара Гильерме Шопела. Второй отзыв гласил: «Эта книга – ценный помощник в борьбе против коммунизма. Правдивость разоблачений талантливого автора проверена»; он был подписан инспектором охраны политического и социального порядка Сан-Пауло Барросом. Эйтор Магальяэнс всегда носил с собой в портфеле несколько экземпляров книги. В книжных лавках и газетных киосках тощий томик в две сотни страниц стоил десять милрейсов, и покупали его плохо. Но торговцы, промышленники и банкиры почти всегда приобретали экземпляр, принесенный автором, и платили за него дороже цены на обложке – тридцать, пятьдесят милрейсов, иногда даже давали сотенную бумажку. Комендадора да Toppe, очарованная манерами молодого человека, выложила целое конто, «чтобы помочь окупить издание». Но продажа книги составляла едва лишь начальную и наименее важную часть операции. Эйтор Магальяэнс затем вытаскивал из портфеля официальные бумаги: письмо финляндской миссии, в котором выражалась благодарность за усилия «Общества помощи Финляндии», список руководящих и видных членов общества (влиятельные имена в политических и финансовых кругах), список жертвователей, начинающийся с имени Жозе Коста-Вале, который внес изрядный куш. Показывая этот ворох красноречивых бумаг, Эйтор распространялся о «благородных целях общества, казначеем которого он имеет честь состоять». Он перемежал антисоветские выпады похвальбой по адресу собственной персоны. Недавно он придумал новую версию о своей прошлой деятельности в партии и впервые использовал ее в предисловии к книге: он больше не изображал себя «раскаявшимся экс-коммунистом». Нет, речь шла о молодом патриоте и предприимчивом журналисте – да, да! – который благодаря своей исключительной ловкости сумел проникнуть в среду коммунистов, чтобы изучить их жизнь, методы и планы и разоблачить их перед страной и перед всем миром. Эта версия казалась ему не только гораздо романтичнее, но и намного прибыльнее: прежняя всегда могла встретить у некоторых более консервативно настроенных людей несколько сдержанное, настороженное отношение («волк меняет шерсть, но не меняет норова» – этой поговоркой один промышленник-фашист, итальянец по происхождению, подчеркнул, как мало он доверяет подобному «раскаянию»). С другой стороны, были и такие лица, которые морщились, встречая его имя в списке руководителей «Общества» (один видный врач сказал по поводу него профессору Алсебиадесу де Мораису: «Не переношу коммунистов, но тем более не выношу предателей…»). К вороху бумаг и разглагольствованиям присоединялось несколько фотографий, на которых было снято полдюжины ящиков с надписью печатными буквами: «Медикаменты! Не бросать!» А рядом с ящиками виднелся плакат: «Вклад «Общества помощи Финляндии» в войну финского правительства против русского коммунизма». Эйтор сообщал: – На днях мы отправляем санитарный автомобиль. А сейчас собираем средства на приобретение в Соединенных Штатах самолета-бомбардировщика. Сторонникам Франции, Англии и Соединенных Штатов он говорил: – Взгляните на пример Франции и Англии. Они находятся в состоянии войны с Германией, но это не мешает им отправлять оружие и другие военные материалы в Финляндию. Франция послала даже эскадрильи бомбардировщиков. А почему? Да потому, что, если коммунистическая Россия победит Финляндию, тогда… – И дальше он начинал развивать свои антисоветские теории. Поклонникам нацизма, которых было много среди богачей итальянского и португальского происхождения, он представлял Финляндию как союзника «номер один» Гитлера: – Финляндия позволяет Гитлеру выиграть время, чтобы победить Францию и Англию, она обеспечивает безопасность его тыла, препятствуя тому, чтобы Россия совершила на него нападение. А известно ли вам, что Гитлер послал генералов и военную помощь Финляндии? Говоря об этом, я хочу подчеркнуть, какое большое значение для нас имеет война Финляндии… Он говорил «нас» при переговорах как со сторонниками союзников, так и с теми, кто был настроен в пользу нацистов. Он рассматривал себя нейтральным в этой войне, в которой финнов поддерживали как Англия и Франция, так и Германия, и имел дело с людьми, сочувствующими как той, так и другой стороне. Русско-финская война стала его кровным делом. «Если бы не было этой войны, ее нужно было бы придумать», – признался он одной грациозной шатенке, племяннице профессора Алсебиадеса, машинистке «Общества». Эта война должна была разрешить все его финансовые проблемы. В течение некоторого времени он пребывал в дурном настроении, после того как растратил деньги, полученные от Барроса за донос, и от газет – за свои вымышленные «разоблачения». Он задумал издавать антикоммунистический журнал, выпустил два-три номера, вытянув у нескольких франкистских коммерсантов заказы на объявления, но это была сравнительно малодоходная работенка. Она могла обеспечить ему сносное существование, но не такую жизнь, о которой он мечтал, – с хорошей квартирой, дорогими женщинами, элегантными костюмами, обедами в роскошных ресторанах. Время от времени Баррос подбрасывал ему небольшие суммы за ту или иную информацию – о коммунисте, виденном Эйтором на улице, или о чем-нибудь подобном. Баррос устроил бесплатно набор и печатание его книги в государственной типографии. Но что представляли эти мелкие подачки по сравнению с потоками денег, которые потекли в карманы Эйтора Магальяэнса через «Общество помощи Финляндии» в связи с русско-финской войной? Свободный от всякого контроля, он полностью по своему усмотрению распоряжался крупными суммами, которые ежедневно собирал. Имя профессора Алсебиадеса де Мораиса как президента «Общества» придавало этой организации необходимую солидность. Эйтор пользовался абсолютным доверием профессора медицины. Он бывал у него дома, со вниманием и восторгом слушал его длинные и туманные рассуждения о судьбах мира и Бразилии, о морали и религии. Профессор был вечным кандидатом на различные посты: то ректора университета Сан-Пауло, то директора департамента просвещения штата, то директора департамента культуры. Поскольку он сам считал себя образцом знания, примерной жизни, верности консервативным идеям, религии и собственности, ему казалось величайшей несправедливостью всех времен то, что он растрачивает свой талант на университетскую кафедру и частную практику. Когда накануне переворота, провозгласившего «новое государство», он вступил в «Интегралистское действие» и вскоре же был выдвинут на руководящий пост в этой фашистской партии, его честолюбивым сердцем овладели сладкие надежды. Однако разногласия между Жетулио Варгасом и Плинио Салгадо привели к тому, что при всяких назначениях его кандидатура не фигурировала, и он, подобно сателлиту, продолжал вращаться вокруг Коста-Вале. От банкира поступала большая часть месячного дохода профессора: он уже с давних пор числился главным врачом железных дорог, находившихся под контролем Коста-Вале. Несколько конто в месяц приносил ему и пост руководителя работ по оздоровлению долины реки Салгадо. Он был заносчив ко всем, кто стоял ниже его на социальной лестнице, и униженно юлил перед сильными мира сего; он был вообще угрюм и недоверчив по природе. Зарабатывал Алсебиадес де Мораис немало, но из честолюбия все время добивался лучшего положения, важных постов, титулов, известности. Эйтор Магальяэнс быстро обнаружил своим мошенническим чутьем тайные слабости профессора. Он был как раз тем человеком, в котором нуждался Эйтор: на профессора указывали, как на пример высокого морального поведения; он аккуратно посещал и богослужения и великосветские рауты, но, несмотря на это, не был удовлетворен результатами многих лет ханжески строгой жизни. Даже в своей многочисленной семье профессор не находил более внимательного и почтительного слушателя, чем Эйтор. Сыновья и дочери профессора убегали от пресных проповедей отца якобы в университет и в лицеи; на самом деле они увлекались футболом, танцами и американским кино. – У молодого поколения нет никаких идеалов, дорогой коллега! – вздыхал профессор. – Моральные ценности не имеют для молодежи никакого значения; все, к чему она стремится, – днем гонять мяч, а вечерами тратить время на эти новые неприличные танцы. Семья стоила ему массу денег, никаких средств нехватало. Сидя в своем кабинете, где висел огромный портрет императора Педро II, он рассказывал Эйтору: – Человек моего положения отвечает не только за свою семью. Существуют родственники, а среди родственников есть всякие люди. Некоторые живут плохо и думают, что у меня по отношению к ним есть какие-то обязательства. Благотворительность, дорогой коллега, – дело хорошее, и я о ней не забываю, как и о других христианских добродетелях. Но при нынешней дороговизне трудно заниматься благотворительностью. Вот посудите сами: сейчас ко мне приехала племянница моей жены. Мать ее умерла в Марилии, отец не нашел ничего лучшего, как отправить ее сюда, чтобы мы позаботились об ее устройстве. Значит, надо кормить еще один рот, да если бы только кормить… Ее надо одевать, платить за билеты в кино… Эйтор нашел вполне устраивавшее профессора решение вопроса (он уже видел племянницу – это была шумливая шатенка, хохотушка, с лукавыми искорками в глазах): – «Обществу помощи Финляндии» очень нужен секретарь, который мог бы печатать на машинке письма, финансовые отчеты. Почему бы не использовать вашу племянницу, профессор? То, что мы с вами работаем бесплатно, – это более чем естественно. Мы это делаем из идейных побуждений. Но нам нужно нанять кого-нибудь, кто занялся бы корреспонденцией. Я как раз пришел с намерением обсудить с вами этот вопрос. И вот я нахожу его решение у вас же в доме… – И сколько же мы могли бы ей платить, не нанося ущерба ассигнованиям, предназначенным для столь благородного дела? Эйтор прикинул. – Милрейсов восемьсот, даже, пожалуй, конто. Вы понимаете, сеньор, если мне будет помогать хорошая секретарша, взносы смогут значительно увеличиться. Для Финляндии это польза… И я получу возможность подумать о том, чтобы снова открыть мой врачебный кабинет. По правде сказать, профессор, я совсем забросил свои личные дела. Если бы не имеющиеся у меня ценные бумаги… – В таком случае, я согласен. Я только не знаю, хорошо ли Лилиан пишет на машинке… Она получила очень беспорядочное воспитание… – Это неважно. В течение недели любой может научиться печатать, а дальнейшее – это вопрос практики. У нас есть хорошая пишущая машинка – подарок одной американской фирмы. В действительности оказалось, что Лилиан никогда и не притрагивалась к клавишам пишущей машинки. В этом отношении она и через неделю достигла весьма скромных результатов. Зато менее чем за неделю она при помощи Эйтора научилась целоваться, и они вдвоем смеялись над торжественным лицемерием профессора Алсебиадеса де Мораиса. – Из этого конто, миленький, как мне уже сказал дядя, семьсот милрейсов пойдет ему на оплату моего пансиона. На мою долю останется всего триста милрейсов, и мне еще надо оплачивать проезд в наше бюро. – Не беспокойся. Остальное – за мой счет. Пока идет эта война, у нас недостатка в деньгах не будет. А там придумаем что-нибудь другое… Так Эйтор устроил службу для племянницы и медаль для самого профессора. История с медалью окончательно упрочила отличное мнение профессора Алсебиадеса де Мораиса об Эйторе Магальяэнсе. Секретарь миссии Финляндии, получив ящики медикаментов в Рио (Эйтор использовал этот случай, чтобы показать Лилиан столицу), намекнул Эйтору о возможном награждении его финляндским правительством. «Такая преданность заслуживает почетной награды», – сказал секретарь. Эйтор, польщенный этим известием, стал, однако, отказываться от награды. – Нет, не его должно награждать правительство Финляндии. Уж если кто и заслуживает награды, – это президент «Общества», профессор Алсебиадес де Мораис, который, не довольствуясь тем, что он поддержал престиж этой широкой кампании своим незапятнанным именем и отдался ей душой и телом, включил в эту повседневную утомительную работу также и членов своей семьи. Вот здесь, например, девушка, машинистка «Общества». Она, племянница профессора, полностью посвятила себя этой деятельности. Секретарь миссии улыбнулся Лилиан, между тем как Эйтор уверял, что он для себя ничего не желает, что для него лучшей наградой является сознание выполненного долга. Правда, его личные дела заброшены, финансы находятся в плачевном состоянии. Но свои антисоветские убеждения и преданность делу, которое Финляндия защищает с оружием в руках, для него важнее, чем его, ныне закрытый, врачебный кабинет… Секретарь понял: ему уже кое-что рассказывали об Эйторе. Несколько недель спустя профессор Алсебиадес де Мораис в торжественной обстановке, в миссии, получил из рук посланника Финляндии медаль, тогда как доктору Эйтору Магальяэнсу секретарь миссии без всякой торжественности и без шума вручил банковский чек на солидную сумму. Профессора поздравляли, он бормотал несвязные слова благодарности, от важности весь надулся. Уходя он сказал Эйтору: – Я хочу вас поблагодарить, дорогой коллега, за вашу помощь в этом деле. – Лилиан рассказала ему о разговоре в миссии. – Можете рассчитывать на мою дружбу, не имеющую, правда, для вас большого значения, но зато вполне искреннюю. – Профессор, ради бога… Рассказав в миссии, как многим обязана вам Финляндия, я сделал лишь то, что мне подсказала совесть. – В наше время, мой юный коллега, признавать чужие заслуги, отдавать должное другим – это редкое качество. Вы им обладаете. Можете рассчитывать на меня. Эйтор действительно рассчитывал на него в своих пока еще туманных планах на будущее. Шантажист, как правило, жил, не заботясь о завтрашнем дне; он транжирил деньги; «сегодня сыт, а завтра посмотрим», – обычно повторял он. Но, как бы мало ни заботило его будущее, он все же не мог не встревожиться, когда понял, что русско-финская война подходит к концу. Газеты продолжали помещать измышления о «победах» Финляндии, но они уже не могли скрыть факт наступления советских войск, а Эйтор умел читать между строк: это был вопрос недель, возможно, – дней. Он прожил несколько месяцев, купаясь в золоте, и у него оставались еще значительные средства. Теперь нужно было изобрести новый, такой же выгодный способ нажиться на золотоносной жиле антикоммунизма. Конечно, он может восстановить издание своего грязного журнальчика – он завел бесчисленные знакомства в связи с этими финскими делами и теперь ему было гораздо легче получить выгодные объявления. Однако этого было недостаточно: он привык за последнее время к хорошей жизни. Еще больше, впрочем, чем планы на будущее, его заботили насущные вопросы «Общества». Многие жертвовали деньги на мнимую помощь Финляндии. Несколько ящиков с медикаментами (большую часть которых предоставили бесплатно лаборатории) были переданы миссии в несколько приемов. Но обещанный санитарный автомобиль и столь широко разрекламированный самолет-бомбардировщик остались в проектах. Между тем пресса так нашумела по поводу этих щедрых даров, что Эйтор побаивался, как бы по окончании войны не появился какой-нибудь жертвователь, который пожелает узнать, как израсходованы собранные деньги. Ему хотелось как-нибудь прикрыть свои махинации, чтобы они не повредили его новым, крайне полезным для будущего, знакомствам. Поэтому, поняв неизбежность поражения Финляндии, он обратился к профессору Алсебиадесу де Мораису: – Профессор, мне, к несчастью, кажется несомненным, что наша маленькая героическая Финляндия скоро будет вынуждена капитулировать. Вопреки тому, что пишут газеты, положение финских войск безнадежно. Только вчера я слышал в передаче лондонского «Би-би-си» комментарии по этому вопросу. – К сожалению, это правда. По-видимому, дорогой коллега, газеты преувеличили военную слабость красных. Наша бедная Финляндия… – …побеждена численным превосходством, профессор. Достаточно простого расчета, чтобы увидеть, сколько русских приходится на одного финна. Даже если речь идет о голодных и оборванных русских, все равно они имеют абсолютное численное превосходство. Я и пришел с вами посоветоваться… – По поводу чего? – Вы знаете, сеньор, положение в нашем «Обществе». Мы собрали известное количество пожертвований, приобрели немало фармацевтических товаров – вы в курсе дела. Затем собирались купить санитарный автомобиль, а впоследствии – и самолет. Мы начали кампанию по сбору средств, и у нас в кассе уже есть кое-какие деньги. Эти-то деньги меня и беспокоят, там их конто двадцать шесть или двадцать семь (на самом деле их было больше восьмидесяти), не помню точно сколько, но у нас есть приходо-расходный баланс. Меня волнует вопрос, что делать с этими деньгами? Могут быть два решения: вернуть их жертвователям либо… – Либо? – спросил профессор, у которого появилась смутная надежда, что Эйтор предложит ему поделить деньги, и ему, к сожалению, придется от этого отказаться. – Так вот… закупать сейчас новые медикаменты не стоит. Они уже никому не будут нужны. На покупку санитарного автомобиля или самолета уже нет времени – война закончится раньше, чем мы соберем необходимые суммы. И вот я подумал, что наилучшим применением доверенных нам средств в рамках тех похвальных намерений, с которыми мы их просили, будет организация большого общественного собрания, посвященного Финляндии и борьбе с коммунизмом. На оставшиеся у нас деньги, за вычетом арендной платы за помещение и выходного пособия, которое мы должны заплатить нашей машинистке, нам, возможно, удастся организовать такое собрание. Это будет крупное практическое мероприятие, где вы, сеньор, произнесете программную речь и где выступят также и другие ораторы. – Неплохая мысль… – согласился профессор, который почувствовал одновременно и облегчение и сожаление от того, что он не услышал то пугающее, но вместе с тем заманчивое предложение, на которое он рассчитывал. – Мне кажется, это блестящая идея. Пригласим представителей власти, видных общественных деятелей, это будет демонстрацией протеста против коммунизма… – И выражением нашего негодования против Советского Союза. Если вы согласны, я немедленно принимаюсь за дело и вложу в него все наши деньги. Да, кстати, о деньгах. Я подготовлю балансы «Общества», чтобы вы их просмотрели и утвердили. Тотчас же, как у меня будет готова смета на организацию этого торжественного собрания. – Очень хорошо. Но меня заботит Лилиан – бедняжка останется без работы. – Я хотел с вами и об этом поговорить. Я думаю возобновить издание своего журнала. Пока я отдавал все свои силы «Обществу», он зачах. Мне понадобится помощник вроде вашей племянницы. Если вы согласитесь, я могу ее сохранить – она будет работать для меня. – А почему бы и нет, дорогой друг? Что касается вашего журнала, располагайте мной – я вам помогу во всем, что будет необходимо. Я могу поговорить с Коста-Вале, чтобы он вам дал постоянное, хорошо оплачиваемое объявление. Могу поговорить и с другими лицами, с которыми я поддерживаю знакомство: с комендадорой да Toppe, с промышленником Лукасом Пуччини… – Не знаю, как мне вас отблагодарить. Я воспользуюсь вашим влиянием, которое вы так любезно предоставляете в мое распоряжение, но не буду злоупотреблять им. Что касается собрания, то положитесь на меня, это будет громкое событие. Мы золотым ключом замкнем нашу кампанию солидарности. Вам, сеньор, нужно только позаботиться о своей речи, которая, я уверен, будет шедевром мысли и слова. Он распростился, но на минуту задержался у двери. – Да, по поводу балансов: я думаю, что полезно после вашего утверждения опубликовать их в печати. Чтобы показать жертвователям, как мы использовали деньги. – Что ж, это верная мысль. Пришлите мне эти балансы. Несколько часов спустя в небольшом помещении, арендованном для канцелярии «Общества помощи Финляндии», Эйтор, развалившись на диване, диктовал Лилиан: – …упаковка и отправка медикаментов… Лилиан, целясь указательным пальцем, пыталась отыскать на клавиатуре пишущей машинки нужные ей буквы. 2
В то время как Эйтор Магальяэнс добивался получения даром или по льготным расценкам всего необходимого для устройства антисоветской манифестации: помещения муниципального театра Сан-Пауло, передачи по радио речей, печатания плакатов, объявлений в газетах – члены районного руководства партии собрались для обсуждения создавшегося положения. На заседании присутствовали Руйво, Жоан, товарищ, прибывший из Рио после ареста Зе-Педро и Карлоса, Освалдо – бывший секретарь городского комитета Сантоса, ныне член секретариата комитета штата Сан-Пауло. Руйво, который почти лишился голоса и тяжело дышал, ударил своей костлявой рукой по столику. – Мы не можем допустить этой возмутительной манифестации: мы должны показать, что им не удастся безнаказанно оскорблять Советский Союз! Прибывшему из Рио товарищу казалось неправильным рисковать кадрами партии для выступления, практической пользы от которого он не видел. Что они выиграют, сорвав это собрание? Они поддадутся на провокацию, поставят под удар свободу товарищей в момент, когда кадры партии в Сан-Пауло и без того сократились до каких-то нескольких десятков человек. По его мнению, все внимание оставшихся товарищей должно быть сосредоточено на работе по возрождению ликвидировавшихся ячеек и партийных комитетов. Хотя полицейские преследования и не ослабели, эта работа уже начала проводиться; в Санто-Андре молодому португальцу Рамиро удалось связаться со старыми активистами и воссоздать партию в этом важном рабочем районе. Хороший малый этот Рамиро, не зря было потрачено столько усилий на организацию его побега! Точно так же и в других местах, в пролетарских районах, на заводах и фабриках понемногу удавалось восстанавливать организации. Именно для этой работы и нужно сохранить все силы, всех уцелевших активистов. К чему рисковать людьми, если от этого партия ничего не выигрывает? Остальные трое внимательно слушали товарища из Рио, но как только он кончил, Руйво выступил снова: – Дело касается политической проблемы, товарищи. Речь идет о Советском Союзе. С начала войны в Финляндии, даже раньше – с момента заключения советско-германского пакта – реакция усиливает кампанию против СССР. Она стремится обработать общественное мнение для антисоветского крестового похода. Пока это происходило только в мелкобуржуазных кругах, мы могли удовлетворяться тем, что отвечали, используя наши небольшие возможности: с помощью обращений, листовок, лозунгов на стенах домов. Но с чем мы сталкиваемся сейчас? Какие цели преследует эта антисоветская демонстрация? На мой взгляд, две: во-первых, настроить массы и, в частности, рабочих, против Советского Союза, представив Красную Армию в качестве агрессора; во-вторых, получить возможность заявить, что народ, и в том числе пролетариат, выступает заодно с реакционерами против Советского Союза. Какие сведения мы имеем насчет этого собрания? – Он сделал паузу, с трудом переводя дыхание. Голос его был настолько слабым, что товарищам нужно было напрягать слух, чтобы разобрать все слова. – Они зазывают рабочих с фабрик и заводов. На некоторых предприятиях явка на это собрание объявлена обязательной. Кто не пойдет, будет оштрафован. Подадут автобусы и грузовики, чтобы отвезти туда рабочих. Можем ли мы позволить, чтобы трудящиеся приняли участие, хотя и помимо своей воли, в этом собрании, направленном против Советского Союза? Что мы – авангард пролетариата или нет? Рабочие на фабриках спрашивают наших товарищей, что им делать. У нас сейчас нет возможности воспрепятствовать привлечению рабочих на собрание. Не пойти туда – означает штраф, увольнение, возможно, тюрьму. И у нас нет достаточно активистов, чтобы провести нужную агитацию на фабриках. Таково положение. Что же нам делать? Разрешить, чтобы рабочий класс был использован в этой демонстрации против СССР? Так фактически и получится, если мы останемся на пассивных позициях, отстаиваемых товарищем. – И он указал на представителя из Рио. – Если мы так поступим, то пролетариат, который солидарен с Советским Союзом, потеряет доверие к нам, к нашей партии… – Он снова ударил рукой по столу, но тут же его одолел приступ кашля. – По-моему, товарищ Руйво прав… – Жоан хотел, чтобы Руйво закончил – ведь каждое слово требовало от него усилия, этот глухой голос было просто тяжело слышать. – …Дать им спокойно провести это собрание означало бы фактически предательство по отношению к нашему делу. Разве мы не можем превратить это собрание, вместо демонстрации протеста против Советского Союза, в демонстрацию солидарности с Советским Союзом. На собрании, где будет полно рабочих, действуя смело, мы сможем повернуть массу против реакции, сможем изменить весь характер собрания. – Именно так… – подтвердил Руйво, оправившись от кашля. Освалдо тоже выразил согласие: – Только вчера я услышал, что на текстильной фабрике комендадоры да Toppe многие рабочие готовы даже потерять работу, но не идти на это собрание. Они хотят знать, что им делать; товарищи просят указаний. Мнение представителя центра неправильно. Где же… Но прибывший из Рио товарищ поднял руку. – Довольно! Я убежден, больше чем убежден. Я не учел политической стороны вопроса… Они перешли к обсуждению деталей. Жоан вытащил из кармана вечернюю газету с программой собрания. После исполнения гимнов будет показано несколько документальных фильмов о Финляндии. Заключительную часть вечера займут речи. Почему документальные фильмы раньше речей? – спрашивал Эйтора Магальяэнса профессор Алсебиадес де Мораис. Тот объяснил: если рабочие по той или другой причине не явятся («с этим народом никогда не знаешь, в какой степени на него можно рассчитывать»), то пока длится демонстрация фильмов, будет время собрать публику в полиции и в «Ассоциации скотоводов», также проводящей свое общее собрание в этот вечер. Он, Эйтор, подумал обо всех деталях: это собрание должно состояться при переполненном зале. Жоан сказал: – Документальные фильмы раньше речей. Это, конечно, не случайно… – И он начал излагать свой план. – Кому мы поручим выполнение этого задания? – спросил товарищ из Рио. – Нам нужен человек, который знает всю партийную организацию, знает почти каждого члена партии, который сумел бы выбрать людей и подготовил все как можно лучше. – При данных обстоятельствах я вижу только одно подходящее лицо, – сказал Освалдо, взглянув на Жоана. – Это Мариана. – Мы слишком выставляем напоказ товарища Мариану, – вмешался Руйво. – Мы не должны забывать, что полиция со времени побега Рамиро повсюду разыскивает некую женщину. Все взгляды обратились к Жоану. – Ведь кому-то надо поручить, – сказал он. – Почему бы и не Мариане, если товарищи находят, что она наиболее для этого подходящая. Опасности будет подвергаться любой, на кого бы мы ни возложили ответственность. Я тоже предлагаю выполнение этого задания поручить товарищу Мариане. 3
Эйтор с торжеством наблюдал переполненный зрительный зал театра. Не понадобится прибегать ни к полицейским агентам – Баррос сказал, что он, если понадобится для счета, может пригнать их целую сотню, – ни к скотоводам, проводящим свое собрание. Рабочие пришли, они заняли большую часть партера, балконы и галерку. Кресла в первых рядах были оставлены для гостей, членов руководства «Общества помощи Финляндии», общественных, политических и религиозных деятелей. Многие из этих кресел пустовали. Гран-финос были солидарны с целями этого собрания, но благоразумно решили не слушать пяти речей, среди которых должна была быть и длинная речь этого нудного профессора Алсебиадеса де Мораиса. Термин «нудный» употребил Сезар Гильерме Шопел, когда, будучи в Сан-Пауло, он получил приглашение от Эйтора Магальяэнса выступить на этом вечере. – Нет, мой дорогой. Я занят в этот вечер. Вы ведь знаете, я всегда всеми силами готов помочь кампании против коммунизма. Но не просите меня выслушивать речь Алсебиадеса, это чересчур… Он самый скучный человек в мире, самый нудный оратор, когда-либо существовавший на земле… Но все же Эйтор не мог пожаловаться: пришли некоторые видные деятели, и для президиума на сцене – после показа документальной кинохроники – получится в общем неплохая группа: секретарь миссии Финляндии, атташе по вопросам культуры американского консульства – молодой Тео Грант, два-три промышленника, полковник Венансио Флоривал, какой-то испанский патер, а в качестве председателя – представитель министра труда Эузебио Лима, прибывший из Рио специально для участия в этом собрании. Предполагалось, что, кроме профессора Мораиса, выступят и франкистский священник, студент-юрист и мелкий чиновник налоговой инспекции, которого для вящей убедительности превратили в «рабочего лидера». («Таким образом мы обеспечим нужное нам выступление от имени рабочих», – пояснил Эйтор профессору.) После исполнения гимнов на занавес был опущен киноэкран, погас свет и в зале воцарилась тишина. Цветной документальный фильм показывал пейзажи Финляндии во время короткого северного лета, затем зимние спортивные сцены на заснеженных горах. Послышались жидкие аплодисменты в первых рядах; фильм закончился, чтобы уступить место другой документальной картине о русско-финской войне. На экране появились советские военнопленные, солдаты с красными звездами на зимних шапках. Затем была показана группа офицеров финского генерального штаба на военном совещании. Этот кадр был встречен продолжительным свистом. Звонкий, как звук кларнета, голос прорезал тишину и разнесся по театру: – Да здравствует Советский Союз! Тотчас с галерки полетели листовки. Крики протеста, возгласы: «Долой фашизм!», «Да здравствует СССР!», «Да здравствует Сталин!» – слышались отовсюду в темноте. Рабочая масса подхватывала эти лозунги, поднялась страшная суматоха. По театру начал распространяться едкий запах аммиака, в зале стало совсем невозможно дышать – раньше и без того было душно от жары. На экране показались солдаты в окопах, одетые в маскировочные халаты. Крики в партере усилились, публика все громче выкликала антифашистские лозунги, участники собрания бросились к выходу, находившиеся в зале гран-финос пытались проложить себе дорогу в толпе. Тео Грант старался защитить Мариэту Вале. Воздух был заражен аммиаком, нечем было дышать. Женщины падали в обморок. Все это длилось несколько минут. Продолжительный свист снова разнесся по театру, люди с галерки побежали вниз по лестницам. Публика покидала театр. Толпа рассеялась по окрестным улицам, прохожие сбегались к театру: пронесся слух о пожаре. Эйтор, находившийся в ложе рядом с профессором де Мораисом, кричал, требуя, чтобы зажгли свет и прервали демонстрацию фильма. Но его никто не слушал, и он устремился за кулисы в поисках телефона, чтобы попросить Барроса прислать полицию. Те, кто сорвал собрание, должны были как можно скорее покинуть театр. Мариана тоже вышла на улицу, вскочила в трамвай и, усевшись на скамейку, развернула газету. Когда, в конце концов, в зале дали свет, было видно, что партер почти опустел, только в ложах продолжали оставаться некоторые официальные лица. Едкий запах аммиака не рассеивался. На улице из автомобилей выбегали полицейские, они оцепили театр и стали хватать всех без разбора, главным образом случайных прохожих, из любопытства остановившихся перед зданием театра. С опустевшей галерки свешивался, как бы господствуя над зрительным залом, флаг серпа и молота, флаг утренней звезды, флаг Советского Союза. 4
Лукас Пуччини перечитал отдельные отрывки из статьи, опубликованной в газете «А нотисиа». Он даже слегка присвистнул, а затем восхищенно сказал: – Тридцать миллионов долларов! Вот это деньги! Его контора в Сан-Пауло занимала теперь целый этаж небоскреба – ряд прекрасно меблированных помещений, где работало немало сотрудников и машинисток. Сидя за своим роскошным письменным столом, «не знающий страха промышленник» (как его называли в газетах) руководил самыми разнообразными делами, разрабатывал все новые и новые планы. Его силой был инстинкт, помогавший ему выискивать выгодные дела; он вкладывал свои капиталы, чтобы они приносили ему все новые и новые доходы. Он то и дело покупал акции какой-нибудь компании, приобретал фабрики накануне банкротства и ставил их на ноги, занимался сотнями самых разнообразных дел, и все у него шло гладко. В кредите он не ощущал недостатка, пользуясь благосклонностью Катете; его безоговорочная преданность президенту республики была широко известна. Он не только разбогател за годы существования «нового государства», – он и располнел, стал держаться солиднее, как и подобает человеку его положения. Те, кто его знал года четыре назад простым приказчиком в турецкой лавчонке, теперь разевали рты, видя, как он с важным видом проезжает в своем дорогом автомобиле, раскуривая дорогие сигары. Сам Эузебио Лима, дружески протянувший ему руку в дни его бедности, компаньон Лукаса в первых «операциях» и его закадычный друг, не скрывал своего удивления перед поразительным взлетом Лукаса в деловом мире. Он, Эузебио, включился в политическую жизнь уже десять лет назад, еще со времени движения 1930 года[185], был достаточно ловок и оборотист, имел хорошие связи, и все же за какие-нибудь четыре года Лукас по-настоящему разбогател, тогда как Эузебио продолжал довольствоваться попадавшимися ему время от времени случайными, мелкими «операциями». Фактически теперь ему протежировал Лукас; роли переменились. Эузебио объяснял это превращение так: – Лукас – гений в делах. У него врожденное призвание к бизнесу. Тогда как я рожден для политики… Однако сам Лукас не чувствовал полного удовлетворения. Честолюбие, которое приводило его к тому, что он прежде, когда они жили еще в пригороде, поверял Мануэле свои мечты о власти, – это честолюбие не уменьшилось под влиянием его успехов. Больше чем когда-либо, он теперь, сидя за письменным столом, давал волю своему воображению. Он был еще далек от обладания всем, что хотел иметь: вершина его стремлений – отнюдь не этаж небоскреба. Он хотел иметь целое здание, похожее на банк Коста-Вале, – здание, которое господствовало бы над Сан-Пауло. Его не могли удовлетворить ни фабрички красок и кондитерских изделий, ни конторы по экспорту хлопка и кофе. Он помышлял об акционерных обществах, о крупных предприятиях, акции которых котировались бы на иностранных биржах. Он мечтал о чем-то вроде «Акционерного общества долины реки Салгадо», по поводу которого он только что прочел в экономическом обзоре газеты «А нотисиа». «Развитие „Акционерного общества долины реки Салгадо“ показывает нам, какую роль может играть Бразилия в качестве поставщика марганца – минерала, имеющего столь большой спрос в мировой металлургии. По мнению специалистов, месторождения долины реки Салгадо представляют собой один из самых крупных резервов, известных в мире. И это несмотря на то, что существующие запасы еще не полностью учтены. Добыча марганца там только начинается, но уже сейчас можно определить, какое значение она будет иметь в общем экономическом балансе страны. Более тесное сотрудничество с Соединенными Штатами открывает широкие перспективы, что видно на примере создания этого акционерного общества, в котором 49 процентов американского капитала и 51 процент бразильского капитала. Экспортно-импортный банк Соединенных Штатов предоставил акционерному, обществу крупный заем в размере 30 миллионов долларов. Работы, связанные с добычей марганца в долине реки Салгадо, уже значительно продвинулись, и специалисты считают, что экспорт минерала сможет быстро достигнуть цифры в 300 тысяч тонн в год». Лукас Пуччини перечел всю статью; он еще был далек от дел подобного масштаба и размаха – дел, в которые вкладывались бы не тысячи конто, а миллионы долларов. Но он мечтал именно о таких предприятиях, о таких могущественных компаньонах, как Коста-Вале. Он отложил газету и стал размышлять о банкире. Еще будучи чиновником министерства труда, Лукас Пуччини привык любоваться из окна своего учреждения Коста-Вале, иногда выходившим на балкон своего банка. Коста-Вале символизировал все, чем хотел быть Лукас Пуччини, к чему он стремился. Однажды он как-то обратился к банкиру с просьбой о предоставлении кредита: это было связано с операцией по хлопку – его первым крупным делом. Банкир принял его сухо, держался высокомерно, отослал к управляющему. Лукас был унижен, но впоследствии отомстил банкиру тем, что подписал контракт на поставку оборудования для моторостроительного завода – контракт, получения которого добивался и Коста-Вале. А теперь они снова были двумя конкурентами на торгах по осушению долины Байшада Флуминенсе[186]. Лукас нажал на все рычаги, чтобы добиться контракта для себя, но Коста-Вале тоже не сидел сложа руки: министр Артур Карнейро-Маседо-да-Роша был достаточно ловок в таких делах, более ловок, чем даже Эузебио Лима… Трудное состязание… Для Коста-Вале контракт означал не более как небольшое прибавление к его миллионам. Сам он в деле не участвовал непосредственно: заявка на торги поступила от комендадоры да Toppe и Сезара Гильерме Шопела. Но когда говорили «комендадора и Шопел», подразумевали Коста-Вале: всем была хорошо известна тесная связь между старухой-миллионершей и миллионером-банкиром, а что касается Шопела, то все знали, что он – их подставное лицо, обогащающееся за счет объедков с барского стола. Между тем для Лукаса этот контракт имел первостепенное значение: он явился бы крупнейшим из всех его дел. Обо всем этом он и думал, повторяя по временам: – Тридцать миллионов долларов! Боже мой! «А что, если я обращусь к Коста-Вале и предложу ему войти в компанию для работ по осушению долины? Как знать, вдруг…» Эта мысль заставила его вскочить с кресла; она все более крепла в нем, пока он расхаживал из угла в угол по кабинету. Он кончил тем, что надел пиджак и шляпу и отправился в банк. На этот раз Коста-Вале не заставил себя ждать и принял Лукаса, не предупреждая, что у него лишь несколько минут на то, чтобы выслушать посетителя. Наоборот, он предложил Лукасу стул, протянул коробку с сигарами и вежливо спросил: – Чем могу служить, сеньор Пуччини? – Зашел к вам по поводу работ в Байшаде Флуминенсе. Я претендую на получение подряда, знаю, что и вы в этом заинтересованы, и вот я подумал, что, может быть… Банкир прервал его: – Вы ошибаетесь. Я не участвую в торгах, это двое моих друзей – комендадора да Toppe и Сезар Гильерме Шопел. Вам следует обратиться к комендадоре. – Хорошо… Я подумал было о предложении, которое примирило бы мои интересы и интересы, которые, как я полагал, являются вашими. Поэтому я и обратился к вам, сеньор. Жаль, что это не так… Мне кажется, мои проекты представляют интерес. Придется постучаться в другие двери. – Почему бы вам не обратиться к комендадоре? – Я ее не знаю. Я только раз был у нее в доме, несколько лет тому назад, на приеме в честь сеньора Жетулио. С тех пор я ни разу ее не встречал, и она, конечно, меня не знает… – Ну, если затруднение только в этом, я могу представить вас комендадоре. – Он устремил взгляд своих холодных глаз на сидевшего перед ним еще молодого человека, имевшего весьма самоуверенный вид. – Я слежу за вашей карьерой, сеньор Пуччини. Вы как-то были у меня с одним проектом, – вы тогда нуждались в кредите. Я не уделил внимания вашему плану: он мне показался абсурдным, было опасно рисковать, вкладывая в него деньги. Несмотря на это, вы его осуществили и доказали мне, что я ошибался. А я не люблю ошибаться дважды, в особенности имея дело с одним и тем же человеком. Так каков же ваш проект? Лукас улыбнулся. – Вы же понимаете, сеньор, мой проект относится к Байшаде Флуминенсе. Мне нужен человек, заинтересованный в этом деле, а вы к нему не причастны… Вы же сами сказали, что в торгах участвует комендадора… Коста-Вале не обратил внимания ни на улыбку, ни на слова Лукаса. – Я знаком с предложениями относительно работ по осушению долины, которое вы представили министерству путей сообщения и общественных работ. То, что вы обещаете сделать, – это просто фантастично. Вы никогда этого не сможете осуществить. – Мой проект дает стране такие выгоды, как ни один другой. Что касается его реализации, это уже мое дело… Факт, что никакое другое предложение, включая и проект сеньоры комендадоры, не может конкурировать с ним в отношении выгод, которые получит государство. Специалисты его поддерживают. Я могу выиграть торги… – А откуда вы возьмете капитал для того, чтобы начать работы? – Вот в этом-то и дело. Я подумал: заинтересованы в Байшаде Флуминенсе мы оба – сеньор Коста-Вале и я… – Он сделал жест, как бы извиняясь. – Мне казалось, что Шопел действует от имени комендадоры и от вашего имени. – Ну, и что же? – Я представил лучший проект, у меня хорошие друзья, и я имею шансы выиграть дело. Зато у вас, сеньор Коста-Вале, есть капиталы. – Он еще раз улыбнулся. – И не только капиталы, но и проект, и прекрасные друзья… Не лучше ли нам объединиться, чем бороться друг с другом за получение подряда? – Он взглянул на сидевшего напротив банкира. – Ведь если говорить откровенно, для вас этот контракт не имеет большого значения, а для меня – это вопрос жизни и смерти. Я готов поставить на карту все, чтобы выиграть! Я предлагаю выдвинуть вместе третий проект – у меня уже по поводу него есть одна идея, – который покончит с конкуренцией. Проект, который может быть более реален, чем мой, и не менее интересен, чем проект… сеньоры комендадоры… Коста-Вале посмотрел на Лукаса, как бы измеряя и взвешивая, чтобы определить его реальную стоимость. – Ну что ж! Почему бы и нет? Если ваш проект действительно интересен, что мешает нам идти вместе? Изложите свои планы, я готов выслушать их. Лукас Пуччини начал говорить, Коста-Вале перестал пристально смотреть на него, теперь он чертил на белом листке какой-то неопределенный рисунок. Когда Лукас кончил, он сказал: – Да, ваш проект интересен. Необходимо изучить его поглубже, изменить один или два пункта. – И Коста-Вале сразу сделал необходимые уточнения. Лукас был восхищен быстротой, с которой банкир мгновенно схватил его идею и даже улучшил ее. – В принципе я согласен объединиться с вами для его реализации. Однако я должен еще потолковать с комендадорой. Если вы можете недельку подождать, я вас извещу, где мы соберемся снова, чтобы переговорить об этом деле. Действительно, несколько дней спустя Лукас получил любезное приглашение от комендадоры пообедать у нее. За приглашением последовал звонок от банкира, попросившего его приехать к комендадоре раньше назначенного для обеда часа, чтобы можно было переговорить втроем до прибытия гостей. Лукас так и сделал, и в этот вечер они полностью договорились о планах совместной эксплуатации Байшады Флуминенсе. Лукас и комендадора возьмут обратно свои прежние заявки, а Шопел представит новое предложение от имени их всех. Они обсудили детали распределения капиталов и постов в новом акционерном обществе. Лукас, внося свои предложения, держался уверенно: он хотел произвести хорошее впечатление на банкира и комендадору и достиг этого. Старая комендадора была очарована им. Ей нравились молодые люди такою склада, и она не скрыла своего восхищения перед Коста-Вале: – Вот это, Жозе, стоящий парень. У него есть голова на плечах, не то, что у этих манекенов, которых мы встречаем на вечерах, папенькиных сынков, подобных Паулиньо. Коста-Вале рассмеялся. – А я-то думал, что Паулиньо – ваш идеал. Вы так старались женить его на Розинье… У вас, очевидно, изменился вкус… – Вкус у меня не изменился. Вы думаете, я не знала, что собой представляет Паулииьо? Просто, понимаете, мне нужно было… – Его имя… – заключил банкир, шутливо улыбаясь. – Именно, Жозе. Имя – это ведь тоже важное дело. Пауло по-своему полезен, я заплатила ему за имя сколько следует. Немножко дороговато, но, в конце концов… Ведь факт, что мы нуждаемся в таких людях, как Артур и Паулиньо. Но если сравнить его с таким парнем, как этот… У этого – голова на плечах, Жозе. Банкир ответил с серьезным видом: – Да, это человек с будущим. Он кажется мне несколько авантюристичным, но это от возраста… со временем пройдет. – Каждый может быть по-своему полезен, – заключила старуха, как бы отвечая не банкиру, а каким-то своим затаенным, еще неясным мыслям. Обед прошел исключительно приятно. Комендадора посадила Коста-Вале и Лукаса по обеим сторонам от себя. Это был интимный обед: Мариэта, дипломат Тео Грант, младшая племянница комендадоры, полковник Венансио Флоривал, Сузана Виейра, Бертиньо Соарес, профессор Алсебиадес де Мораис, еще не вполне оправившийся после скандала в муниципальном театре. За обедом оживленно обсуждались международные события. Русско-финская война закончилась; они поговорили о Красной Армии и сошлись на том, что хотя она и разбила финнов, но все же это не та армия, которая могла бы противостоять немцам, если Гитлер нападет на Россию. Мариэта приглядывалась к Лукасу Пуччини; присутствие молодого промышленника оживило в ней забытые воспоминания: связь с Пауло, историю Мануэлы, свою собственную ревность и свои планы. Все это теперь казалось Мариэте далеким и лишенным интереса и ничего не говорило ей: молодой Грант занимал полностью все ее мысли и все свободные часы. И она безразличным голосом осведомилась о Мануэле: – А как ваша сестра, по-прежнему пользуется успехом? Лукас вкратце рассказал о Мануэле. Она находится сейчас в Гаване, и в прессе о ней восторженные отзывы. В августе она вернется в Бразилию вместе со своей труппой, которая будет гастролировать в Рио. Потом труппа отправится в длительное турне по крупным городам Соединенных Штатов. Бертиньо рассыпался в похвалах таланту Мануэлы: он видел, как она танцевала в Рио – это нечто незабываемое! Комендадора улыбнулась Лукасу. – По правде говоря, мы – старые друзья. Ведь как раз здесь, в моем доме, ваша сестра танцевала в первый раз. Может быть, со временем в этом зале будет мемориальная дощечка в честь этого события. Все были очень любезны с Лукасом, а полковник Венансио Флоривал напомнил, как вскоре после провозглашения «нового государства» они познакомились в связи с «кофейной операцией»… Кофе пили в музыкальном салоне и, прежде чем Тео Грант сел за рояль, собираясь очаровать слушателей исполнением фокстротов, комендадора велела своей незамужней племяннице Алине «показать, чему ее научили в пансионе». Девушка повиновалась, а старуха прошептала Лукасу, который уселся рядом с ее креслом: – Изысканное воспитание, лучший монастырский пансион… замечательная хозяйка дома. Она миленькая, не правда ли? – Прелестна! – с явным преувеличением ответил Лукас. Вошел слуга с напитками. Алина терзала на рояле классиков, Тео и Мариэта обменивались веселыми улыбками, Коста-Вале удалился: в этот вечер у него было еще одно деловое свидание. Алина, наконец, оставила рояль, ради приличия раздались сдержанные аплодисменты. Тео сразу же устремился к роялю, и звуки фокстрота наполнили залу. Лукас, ничего не понимавший в музыке, поздравил Алину, которая уселась рядом с теткой. Мариэта танцевала с Бертиньо, пробуя, как резвящаяся девица, новые экстравагантные па американских танцев. Стоя у окна, профессор Алсебиадес де Мораис, простуженный и мрачный, высказывал полковнику Венансио Флоривалу различные поучительные сентенции. Комендадора взглянула своими хитрыми глазками на Лукаса и Алину. – Сеньор Лукас, а почему бы вам не потанцевать с девочкой? Лукас поднялся, застегнул пиджак, протянул руку племяннице миллионерши. На морщинистом лице комендадоры появилась улыбка. Она уже начала строить кое-какие планы. 5
Накануне отъезда в Лиссабон Пауло получил от Шопела длинное забавное письмо, в котором тот рассказывал последние бразильские новости. Это было в трагические дни капитуляции французского правительства; гитлеровские войска наступали на Париж[187]. За столиком кафе, на бульваре Сен-Жермен, в нервной обстановке города, над которым нависла угроза вторжения, наблюдая озабоченных, спешащих людей, Пауло перечитывал письмо и наслаждался комментариями поэта по поводу событий бразильской жизни. В Париже началась эвакуация; тысячи и тысячи людей, спасаясь бегством от захватчиков, направлялись на юг. Казалось, уже слышался топот германских сапог, марширующих по направлению к славному, прекрасному городу. Нацисты еще не вступили в Париж, но их близость давала себя знать в полных трагизма лицах, в торопливой походке людей. Мимо на велосипеде проехал юноша с озабоченным лицом, в рубашке с открытым воротом и в брюках гольф. Его небольшой багаж – простой чемодан, – видимо, был тяжел: юноша с силой нажимал на педали. Сколько сотен километров предстояло ему проехать, спасаясь бегством? – задал себе вопрос Пауло. И тут же вслед за этим изящный профиль какой-то промелькнувшей по улице девушки чем-то напомнил ему Мануэлу. Шопел упоминал в своем письме и о Мануэле: после триумфального турне по Латинской Америке она с балетной труппой возвращалась в Рио. Афиши муниципального театра уже оповещали о предстоящих гастролях балета, и имя Мануэлы Пуччини было выделено крупным шрифтом среди имен других солистов. Шопел жаловался на неблагодарность девушки, которая ни разу не написала ему хотя бы открытку. Он писал также о Мариэте: «Она, наконец, решилась позабыть тебя в объятиях одного спортсмена-американца – некоего Гранта, – ты его не знаешь, он сейчас в паулистском обществе так же неизбежен, как корь у детей». Далее он сообщил о Коста-Вале и о бразильской политике: «Жетулио все больше онемечивается, наши друзья американцы, того и гляди, лопнут со злости, а наш хозяин Коста-Вале не скрывает своего разочарования». И он спрашивал Пауло: «А ты, находящийся там, в вихре войны, и имеющий возможность лучше нас разобраться в судьбах мира, что ты думаешь обо всем этом? Неужели мы еще увидим Коста-Вале в коричневой рубашке, приветствующим нашего милого пошляка Алсебиадеса де Мораиса?» Да, для Пауло сомнений не было: «Франция больше не существует», – повторял он себе. Гитлер – хозяин Европы. А это означало, что он становится властелином мира, что начинается предсказанное нацистское тысячелетие[188]. Пауло снова отложил письмо и принялся наблюдать за движением, нарушавшимся машинами беженцев, за взволнованными лицами прохожих. В посольстве он читал воззвание Мориса Тореза и Жака Дюкло к французскому народу – для коммунистов сражение все еще продолжалось[189]. Но что они могли противопоставить германской армии? «Если надо выбирать между немецкими нацистами и французскими коммунистами, пусть уж лучше будут немцы», – заявил ему несколько дней назад в посольстве один французский промышленник, собиравшийся перевести свои капиталы в Бразилию. И таково было общее мнение людей из тех кругов, где вращался Пауло. Меньше месяца назад он присутствовал на обеде в одной влиятельной семье, и от хозяина дома, до странности похожего на Коста-Вале, он услышал точно такое же заявление: – Нет большего патриота, чем я. Но именно это и дает мне право утверждать: судьба нашей родины зависит от немцев. Только они в состоянии спасти нас от коммунистов… Пауло, несмотря на войну, по-прежнему продолжал интересоваться внешней, показной стороной Парижа, тем, что составляло его Париж: ночная жизнь, в небольшой степени – музеи и художественные галереи, литературные кафе. Это все, что ему было известно о французской жизни, а народа Франции он не знал. Неужели гитлеровская оккупация изменит жизнь Парижа? Неужели, спрашивал он себя, я найду по возвращении совсем другой город, потерявший радость жизни? Пауло на днях покидал Париж: по ходатайству комендадоры да Toppe его перевели в Лиссабон. Он отложил свой отъезд для того, чтобы в эти последние дни перед оккупацией насладиться Парижем. Страдание города и народа, беспокойный поток бегущих людей, агонизирующие улицы – все это было чем-то таким, что могло разогнать повседневную скуку его жизни. Он послал Розинью вперед в сопровождении графа Заславского, которому заранее поставил на паспорте бразильскую визу. А сам остался наблюдать Париж, переживавший дни эвакуации, траура и страдания. Но был и другой Париж – и в этом другом Париже никогда еще не были так переполнены ночные кафе, никогда еще не наблюдалось такого оживления. Пауло подумал об ответном письме Шопелу, в котором он опишет свои наблюдения: «Франции конец, мой дорогой, французский народ больше не существует. Все, что осталось, – это кабаре». Свое заключение Пауло считал окончательным. Он снова принялся за чтение письма Шопела. Все эти бразильские новости, хроника торговых и светских событий, казались ему здесь, в кафе на бульваре Сен-Жермен, на фоне города, изнемогающего под бременем катастрофы, незначительными и смешными. Проехали монахини на велосипедах; неужели и они тоже бегут? Шопел писал: «Самая сенсационная новость – это наш нынешний альянс с Лукасом Пуччини, братом Мануэлы. Мы стали компаньонами в одном крупном деле, и теперь этот жалкий приказчик – «свой человек» не только в доме Коста-Вале, но и у комендадоры, то есть в твоем доме. Он буквально не вылезает оттуда, его повсюду видят с твоей свояченицей Алиной. Не удивляйся, если дело кончится помолвкой… При Новом государстве, сынок, все возможно в нашей Бразилии». «При Новом государстве и комендадоре»… – подумал Пауло. Старуха способна выдать младшую племянницу за этого выскочку, не помнящего родства, если только он покажется ей подходящим человеком для того, чтобы управлять ее делами. Для него, Пауло, это было бы, конечно, оскорблением, и он это высказал Розинье, когда, прочтя письмо комендадоры, обнаружил ее неожиданный энтузиазм по отношению к Лукасу. Но жена ничем его не утешила: – Если тетя решила, ничего не поделаешь. Когда она чего-нибудь захочет, она ни с кем не считается, не слушает никаких советов. Решает и делает. Так получилось и с нами. Решила и сделала… так и вышло. Решила забрать Розинью из воюющей Франции, и тут же добилась для Пауло перевода в Лиссабон, даже не спросив его мнения. Если она решила взять Лукаса Пуччини в свою семью, ничто уже не может ей помешать. Для Пауло это известие было, пожалуй, даже неприятнее, чем неизбежное вступление немцев в Париж. Он на мгновение забыл об окружающей толпе, о возбуждающем нервы зрелище выставленного напоказ страдания. Чтоб она лопнула, эта старая комендадора! Какого чорта она не оставляет его в покое? Он улыбнулся, прочитав постскриптум в письме Шопела: «Я чуть было не забыл о самой смешной шутке сезона: Бертиньо Соарес и Сузана Виейра сочетались законным браком. Она появилась в белоснежных одеждах девственницы, с гирляндой из флёрдоранжа и под вуалью. Самая забавная историй за последние сто лет! Что до него, то…» Дальше следовали выразительные, но достаточно нескромные словечки. Он сунул письмо в карман, попытался снова заинтересоваться печальной улицей, но мысли его витали в Сан-Пауло, он невольно думал о крайне неприятной перспективе иметь в качестве шурина Лукаса Пуччини. Уж лучше Бертиньо Соарес со всеми его пороками, чем этот субъект без роду и племени, – вчера еще жалкий приказчик. Пауло был уверен, что если Лукас сумеет втереться в дом комендадоры, то он станет как хозяин управлять всеми делами и жизнью людей… Неужели он будет для Пауло тем, что представляет собой Коста-Вале для Артура? Ему вспомнилась «теория» Шопела: «Как в прошлом литераторы и артисты были чуть ли не собственностью дворян и принцев, так мы ныне принадлежим промышленникам и банкирам». Тогда они вместе посмеялись над этой фразой, но сегодня Пауло уже было не до смеха: Лукас Пуччини в качестве шурина – это слишком большое унижение… Пауло колебался: заказать ли еще один коктейль, или оплатить счет и выйти. Как раз в эту минуту он увидел человека, лицо которого показалось ему знакомым. Тот сидел за столиком в углу и читал газету. Где он встречал это симпатичное, открытое лицо, эти пытливые глаза? Он напряг память, а незнакомец в этот момент отвел глаза от газеты, оглядел кафе, будто ожидал кого-то, и встретился взглядом с Пауло. Нет, несомненно, он его откуда-то знает. Аполинарио, увидев Пауло, подавил возникшее у него в первый момент неприятное чувство. У него было назначено в этом кафе свидание с товарищем. Как не повезло, что он здесь случайно встретил секретаря посольства. Но что же делать? Дипломат его узнал, приветливо помахал рукой и направился к его столику. Пожалуй, лучше поздороваться, перекинуться несколькими словами и постараться поскорее отделаться от него, не вызывая подозрений. С другой стороны, компания такого официального лица, как Пауло, была в данный момент скорее полезна, чем вредна. Он протянул руку. – Добрый день! Как поживаете? – Я вас теперь вспомнил, – сказал Пауло. – Мы встречались в посольстве, не так ли? – В консульстве. – А! Да, помню. Мы беседовали о Франции и о войне. Вот видите – я был прав. – И он показал рукой на улицу, забитую машинами и повозками беженцев. – Франции пришел конец. – Конец? – Бывший военный говорил медленно, как бы взвешивая каждое слово. – Французский народ не сдался… – Французский народ… Вы посмотрите: все стараются удрать, французский народ перестал существовать. Немцы отсюда никогда не уйдут, Франция будет низведена на положение сельскохозяйственной страны. Никто теперь не говорит о бессмертной Франции. – И все же я верю во французов. Я не говорю о завсегдатаях кафе. Я имею в виду подлинный французский народ… – Подлинный французский народ… А что вы под этим подразумеваете? Может быть, коммунистов? Я читал воззвание Тореза. Но что они могут поделать против немцев? Еще немного времени – и не останется ни одного коммуниста, даже на память. Ни во Франции, ни во всем мире… Мы вступаем в эру тотального фашизма. Хорошо еще, что в Бразилии Жетулио сделал шаг вперед и создал Новое государство. – Вы получили какие-нибудь известия из Бразилии? – спросил Аполинарио, которому хотелось перевести разговор на другую тему. – Там все по-прежнему. Жетулио склоняется к немцам, поговаривают об изменениях в составе совета министров; это постоянная тема. Фактически политика Бразилии решается сейчас здесь. И решится она в зависимости от Гитлера – властелина Европы… – Но ведь он еще не властелин Европы… – Вы имеете в виду Россию? Это будет просто прогулка, военный парад, даже не настоящая война. Когда придет время, увидите. Надеюсь, вы убеждаетесь, что мои предсказания оправдываются? – Пока я продолжаю сомневаться в ваших предсказаниях. Пауло поинтересовался: – А вы что, остаетесь в Париже? Ведь почти все бразильцы уже выехали в Португалию или прямо на родину. – Я остаюсь еще на некоторое время, не могу сразу бросить свои дела. Пауло расплатился и стал прощаться. – До свидания. Я уезжаю в Лиссабон, в наше посольство. Когда война кончится, вернусь в Париж, и если мы встретимся, то вам придется признать, что я был прав. Гитлер станет владыкой Европы, императором мира! – Или будет болтаться на виселице, – иронически заметил Аполинарио, пожимая протянутую молодым человеком руку. – Счастливого пути! Он проводил Пауло взглядом, видел, как тот уселся в посольский автомобиль и уехал. Теперь и он стал наблюдать за уличным зрелищем, но иными глазами, чем Пауло. Правительство выставило Францию на поругание, оно продало родину, предало народ. Теперь народ должен возвратить себе свое отечество, свою свободу, свою независимость. Аполинарио тоже читал воззвание Тореза и Дюкло, этот драматический и славный призыв партии. Но он читал его в рабочем предместье, в доме у товарищей, и у них на лицах было отнюдь не отчаяние, а решимость и воля к борьбе. Аполинарио тоже мог бы уехать, добраться до Лиссабона, выехать оттуда в Мексику или в Уругвай. Однако он остался. В свое время бразильская компартия послала его на войну в Испанию, она доверила ему почетную задачу – бороться против фашизма с оружием в руках. Война в Испании кончилась, он оказался в концлагере, бежал оттуда, установил связь с французскими товарищами. Компартия Франции призывала народ к сопротивлению. Чем было это сопротивление гитлеровским захватчикам, как не продолжением войны в Испании, новым актом всемирной великой борьбы за освобождение человека? Раз он сейчас не в Бразилии – значит, его место здесь. Он солдат бразильской компартии, солидарный со своими французскими товарищами в этот тяжелый и опасный час. Скоро начнутся дни сопротивления. Пройдет немного времени – и на улицах Парижа прозвучат шаги оккупантов… Однако, вопреки мнению Пауло, немцы будут встречены не побежденным народом, не покорным стадом рабов. Воззвание партии пробудило сердце Франции, воодушевило всех патриотов. Аполинарио почувствовал это по реакции товарищей в рабочих кварталах. Франция не умерла, она жила в каждом из тех, кто готовился оказать сопротивление захватчикам, готовился бороться против них из подполья. И он, Аполинарио, вовсе не хотел оставаться зрителем в этой борьбе. Он хотел принять в ней активное участие, это был его долг коммуниста. В кафе, громко разговаривая, вошла парочка. Аполинарио узнал французского товарища, которою он давно дожидался. Тот явился с молодой девушкой, похожей на студентку. Они подсели к его столику, товарищ тихо сказал ему: – Раймон, познакомься с Жерменой, она будет твоей связной. Аполинарио протянул руку через стол, улыбнулся, лицо его просветлело. Он понял, что с этих пор и он приобщен к движению сопротивления захватчикам. 6
Сенсационные сообщения полиции об аресте почти всех руководителей коммунистической партии – членов Национального комитета и районных комитетов, – а также заявления о полном разгроме «этой подрывной организации» умерили первоначальное возбуждение, вызванное речью президента и прямыми последствиями этой речи: уходом Артура Карнейро-Маседо-да-Роша с поста министра юстиции и официальным сообщением Катете, разъясняющим якобы «неправильно интерпретированную» речь[190]. Мистер Карлтон срочно прибыл в Рио-де-Жанейро, где встретился с Коста-Вале и с американским послом. Город был полон слухов, и Эрмес Резенде ораторствовал в книжных лавках о том, что дни Жетулио сочтены. Речь Жетулио о международном положении была произнесена на борту военного корабля. Фактически это было объяснением в любви к Гитлеру. Скандальные высказывания диктатора вызвали широкие отклики как в Бразилии, так и, главным образом, за границей. Акции общества долины реки Салгадо на нью-йоркской бирже резко упали. В Рио-де-Жанейро подал в отставку Артур Карнейро-Маседо-да-Роша. В декларации, опубликованной в печати, он заявлял, что оставляет министерство из-за плохого состояния здоровья, ухудшившегося вследствие чрезмерной работы. Но каждому было ясно истинное значение его поступка: это было предупреждение Жетулио со стороны группы промышленников и плантаторов, связанных с американцами, что они лишат его своей поддержки. Помимо этого, американский нажим проявился в резких комментариях прессы янки, в переговорах послов в Рио и в Вашингтоне, в критике «нового государства». Два-три дня спустя после произнесения Варгасом этой речи официальное информационное агентство Аженсиа Насионал роздало газетам правительственное сообщение, разъясняющее «истинное значение слов президента, смысл которых был извращен». – Он отступил, – сказал Коста-Вале, показывая газету мистеру Джону Б. Карлтону. Американский миллионер покачал головой. – Ненадежный человек. Я вообще не знаю, до какой степени можно ему доверять. – На этот раз мы его крепко прижали. И теперь будем следить за ним в оба. Надеюсь, это послужит ему уроком. То были дни противоречивых слухов, нервозных комментариев, напряженного ожидания каких-то событий. Все успокоилось, когда полиция Рио объявила об аресте «в результате длительной и упорной деятельности полиции» членов Национального комитета коммунистической партии и руководителей районных комитетов штатов Сан-Пауло, Пернамбуко, Пара и Рио-Гранде-до-Сул. На первых полосах газет были помещены крупные фотографии арестованных. Полиция объявила о большом процессе, на котором в качестве обвиняемых будут фигурировать не только ныне задержанные лица, но и Луис Карлос Престес. Престес должен будет понести ответственность за всю подпольную деятельность партии, хотя он и находился в заключении со строгой изоляцией с начала 1936 года, приговоренный уже на первом процессе к шестнадцати годам восьми месяцам тюрьмы. На этот раз полиция не ограничилась сообщениями в газетах. В связи с арестами подняли шум радиовещательные станции, был даже заснят документальный фильм, показывающий места, где арестовали коммунистов, подпольную типографию, обнаруженную в Рио, найденные материалы, среди них – многие номера журнала «Перспективас», оригиналы листовок и статей. Начальник федеральной полиции на пресс-конференции, устроенной у него в кабинете, заверил: – Коммунистическая партия Бразилии перестала существовать раз и навсегда. Она полностью ликвидирована. Бразильский народ может спать спокойно. Красные агитаторы не нарушат его сна. Им нанесен решающий удар. 7
Мариана рассеянно ответила на лепет сына, задавшего ей какой-то вопрос. Она погладила ребенка по голове, напряженно вслушиваясь в шаги на улице, – с нетерпением ждала она прихода матери. Какие известия она принесет? Как поживает Жоан, как остальные товарищи? Запрещение арестованным сноситься с внешним миром было, наконец, снято; стало известно, что они переведены из полиции в дом предварительного заключения, и в эту среду – день свидания в тюрьме – семьи предприняли попытку увидеться с заключенными. Эти сведения сообщила Олга. Узнав об аресте Руйво, Олга прибыла из Кампос-де-Жордан, где она все это время лечилась: у нее тоже оказалось неладно с легкими – она заразилась от мужа. Она тут же отправилась в полицию, чтобы получить о нем сведения. Ее несколько часов допрашивали, заставили снова прийти через три дня, – видимо, проверяли ее показания. Она стала ходить туда ежедневно, терпеливо ожидая в коридорах, пока, в конце концов, месяц спустя, Баррос не сообщил ей, что завтра она сможет увидеть Руйво. Свидание состоялось, однако, не на следующий день: ей пришлось прождать еще чуть не неделю. Наконец наступил долгожданный день. Она явилась в тюрьму, где ей велели подождать в специальном помещении; через несколько минут там появился Руйво в сопровождении агента, который присутствовал на свидании. Олга не могла удержаться от слез при виде мужа: он походил на труп, извлеченный из могилы. Проникавший через оконные решетки свет вынудил его закрыть глаза; он находился все это время в строгой изоляции, в сырой, пахнувшей плесенью одиночной камере без света и воздуха. И теперь он был не просто бледен, у него был вид мертвеца: восковое лицо, замогильный хриплый голос с трудом вырывался из груди. Лишь добрая улыбка по-прежнему появлялась на его лице. – Ну, как тебе – лучше? – спросил он Олгу. – Я уже поправилась. – Тебе нужно найти работу, которая не слишком бы тебя утомляла. На сей раз я попал сюда надолго. Скоро они нас не выпустят. Он сообщил ей о ходе процесса: начинается следствие, судья уже назначен, всех арестованных коммунистов должны перевести в дом предварительного заключения; дознание в полиции заканчивается. Он мало что мог ей рассказать: не знал даже, сколько человек арестовано, – ведь он провел весь этот месяц в темноте и мрачной тишине одиночной камеры. Только в ночь ареста Руйво встретился с Жоаном и Освалдо в коридоре. Больше он не видел ни того, ни другого. Как раз сегодня, в день посещения Олги, ему сообщили, что должно начаться судебное следствие. Олга собралась с силами и спросила: – Тебя били? Они начали его избивать начиная с первого же допроса. Руйво принял на себя полную ответственность за свои действия в качестве руководителя партии; подтвердил, что он рабочий лидер, коммунист и приверженец Советского Союза. Однако отказался отвечать на какие бы то ни было вопросы. Сразу же после первых побоев у него пошла кровь горлом. Боясь, что он умрет во время допроса, – а известие об его аресте уже было опубликовано, – его отправили в одиночку. В течение месяца его дважды вызывали из камеры на допрос. В первый раз – для очной ставки с Эйтором Магальяэнсом; бывший казначей комитета штата Сан-Пауло опознал его и предъявил ряд нелепых обвинений, которые Руйво опроверг. Во второй раз его ознакомили с обвинительными материалами, которые были основаны почти целиком на показаниях Эйтора. Позднее Олге удалось получить в полиции подтверждение полученного от мужа сообщения, что все арестованные переводятся в дом предварительного заключения, где свидания будут разрешены. На это и надеялась Мариана. Она не могла сама пойти повидаться с Жоаном, ибо принадлежала к числу немногих активистов, уцелевших после провала районного комитета Сан-Пауло, но послала мать к Олге и другим знакомым, чтобы попросить их узнать новости о муже. Она намеревалась сначала послать мать прямо в дом предварительного заключения, чтобы та назвалась матерью или теткой Жоана. Однако побоялась, что старуха встретится с Барросом, тот ее, возможно, узнает, и это сможет навести его на след. Лучше удовлетвориться известиями, полученными через третьи руки. Когда внезапно начались аресты, она чуть было не потеряла голову. В одну ночь были взяты почти все руководящие работники партии. Она сама избежала ареста только благодаря счастливой случайности. У нее была назначена встреча с Сисеро д'Алмейдой для получения от него денег – ей недавно поручили ведение финансовой работы комитета штата, освободив ее от прежних обязанностей. Сисеро д'Алмейда должен был передать ей средства, собранные среди сочувствующих, и они назначили вечером свидание у входа в кино. Они должны были войти вместе в зал, там он передаст ей деньги и затем она удалится. Она явилась к назначенному времени, купила билет и стала его поджидать. В этот момент она услышала настойчивый гудок автомобиля. Сисеро, сидя за рулем, заранее открыл ей дверцу, приглашая сесть. Мариана подошла. – Садитесь быстрее… Он направил машину в сторону фешенебельных кварталов и по дороге рассказал: – Полиция забирает всех подряд. В Рио все арестованы; по-видимому, кто-то проговорился и выдал членов Национального комитета и руководителей районных комитетов. Это самый серьезный провал за все время. Сам Сисеро не был арестован только потому, что его брат Раймундо, крупный кофейный плантатор, получил заблаговременно из Рио конфиденциальное сообщение и приехал к нему домой перед самым приходом полиции предупредить об опасности. У Сисеро даже нехватило времени попрощаться с женой, брат заставил его уйти из дома как можно быстрее: – Если тебя и на этот раз заберут, на меня больше не рассчитывай. Ему с большим трудом удалось встретиться с Марианой. Насколько ему известно, арестовано уже около сорока человек, в том числе весь состав комитета штата Сан-Пауло. Эту информацию Раймундо получил, вернувшись по просьбе Габи в дом Сисеро: полицейские, которые во главе с Мирандой уже находились там, хвастались своими подвигами. Сисеро сказал Мариане: – У меня есть место, где ты можешь спрятаться. – А как же с матерью и ребенком?.. – Возможно, еще хватит времени взять их с собой. Времени хватило: полицейские явились в дом, где проживала Мариана, только на другой день рано утром и нашли его запертым. Мариана и Сисеро попытались предупредить других товарищей. У них, однако, было лишь немного адресов, причем, куда бы они ни подъезжали, всюду им попадались полицейские машины, и они вынуждены были, не останавливаясь, продолжать свой путь. Кончилось тем, что Сисеро оставил Мариану в доме, служившем ему убежищем, и объяснил ей: – Мне придется на время выехать из Сан-Пауло. За мной следят и, если меня заберут, не избежать процесса. Кстати, вчера в Рио арестовали Маркоса, а департамент печати и пропаганды закрыл его журнал. Через несколько дней Мариана узнала, что спаслась лишь она да Рамиро. Надежно спрятавшийся молодой португалец в первое время помогал ей своими советами. – Ты с ума сошла… – сказал он Мариане. – Идти в полицию узнавать о Жоане? Зачем? Ты думаешь, тебе что-нибудь сообщат о нем? Тебя просто тут же заберут – на этот раз они хорошо информированы. Этот предатель, который выдал всех в Рио, снабдил их полной информацией. Да, такая мысль действительно приходила ей в голову: пойти в полицию, заявить, что Жоан – ее муж, потребовать о нем сведений. Они ведь не знают, уверяла она Рамиро, кто она такая; все время полиция искала некую Лидию, активистку партии, которая организовала побег Рамиро и была замешана в беспорядках в муниципальном театре. Эта неизвестная Лидия и значилась в списках федеральной полиции. Однако португалец предупредил ее об опасности такого шага: она ведь на учете полиции еще со времени своего первого ареста, когда работала на фабрике комендадоры да Toppe. Да и кто, в конце концов, знает, насколько точно информирована полиция и как арестованные выдержали пытки. Это нелепая мысль; Мариана не имела никакого права показываться в управлении охраны политического и социального порядка, когда каждый активист был на вес золота. – Ты, видимо, не подумала о работе, что нас ждет? Ты читала заявление начальника полиции о том, что партия якобы полностью ликвидирована? Наш долг сейчас же собрать всех уцелевших товарищей и возобновить работу. Мы опровергнем это заявление. – Он пристально посмотрел на нее – юноша, возмужавший под бременем ответственности. – Сколько нас осталось? Полдюжины, возможно, десяток. Но даже если бы мы остались с тобой только вдвоем, наша обязанность – продолжать работу. До того как тебя увидел, я находился в подавленном состоянии, думал, что из всей партии в Сан-Пауло остался я один. Я был подавлен свалившейся на меня ответственностью, но все равно решил продолжать борьбу и идти вперед. – Именно так. Идти вперед… Во время этого разговора с Рамиро Мариана вспомнила о старом Орестесе, погибшем несколько лет назад при взрыве подпольной типографии. Орестес, как и отец Марианы, принадлежал к старой гвардии, он был из числа тех, кто заложил фундамент партии в Сан-Пауло. Он умер вместе с таким же юношей, как и Рамиро, умер с улыбкой: он любил молодежь. Для старого итальянца не было большего удовольствия, как поговорить с молодым членом партии, с одним из рабочих парней, в боеспособности которых он видел политическую зрелость пролетариата и его партии. Мариана вспомнила, как он любил Жофре; разве ему не захотелось бы познакомиться и с этим португальцем Рамиро, таким молодым по возрасту и партийному стажу, но уже способным осознать сложность переживаемого момента и принять на себя тяжелую ответственность? Как давно он в партии? Сколько ему лет? Между тем юношеское лицо его было серьезно, это был уже взрослый человек, как будто он унаследовал весь опыт старых партийных работников. Его голос был как всегда тверд: – Даже если бы остался только один из нас, борьба должна продолжаться. Никто не имеет права приходить в отчаяние. Это были те слова, которые ей, несомненно, сказал бы и Жоан, если бы она могла с ним поговорить. Арест товарищей, и в особенности Жоана, явился тяжелым ударом для Марианы. Она невыразимо страдала и до встречи с Рамиро просто теряла голову. Однако по мере того, как португалец говорил, она постепенно приходила в себя, положение для нее прояснялось и, поскольку боль от ареста ее мужа стала утихать, она отдала себе отчет в предстоявшей партийной работе. – Не знаю, кто и спасся, – продолжал Рамиро. – Нам нужно прежде всего разыскать и собрать товарищей. Ты знаешь партийную работу много лучше, чем я. Думаю, что тебе и следует взять на себя временное руководство, пока нам не удастся создать новый комитет. Думаю, что ты самая опытная из всех оставшихся на свободе. И на тебя ложится наиболее трудная задача. Она в знак благодарности за доверие пожала ему руку и вскоре снова приступила к работе. Иногда до нее доносились те или иные известия из тюрьмы о зверских пытках, о героическом поведении арестованных. Образ Жоана продолжал непрерывно стоять у нее перед глазами, но теперь она уже не чувствовала себя такой покинутой и потерянной, как в первый момент. «Он страдает, – думала Мариана, – но тюремщики никогда ничего от него не добьются, а я должна быть достойной Жоана, достойной его любви». Она старалась разыскать немногих оставшихся на свободе товарищей, снова собрать их, возобновить прерванную работу. Типография провалилась, но в доме одного товарища остался ротатор, и они приложили все усилия к тому, чтобы отпечатать на нем листовку по поводу арестов. Мариана сама составила ее текст. Их, членов партии, было очень мало; часть из них была запугана, а выполнение в этих условиях любого задания требовало затраты немалых усилий и времени. «Каких-то несколько человек против крепкой каменной стены, – размышляла Мариана, – но главное все же в том, что мы продолжаем наносить удары, главное в том, что борьба не затухает ни на мгновение». Так прошел этот месяц, несомненно, самый тяжелый в ее жизни. Бывали дни, когда у них с матерью оставался лишь кусок хлеба. Она жила впроголодь на те гроши, что матери удавалось достать взаймы у старых друзей. Мариана прятала у себя в доме пакет с деньгами, которые ей передал перед отъездом Сисеро. Но это были партийные деньги, из них она понемногу брала лишь на покупку самого необходимого для работы – краски и бумаги для ротатора. Это были священные деньги. Наконец Олга сообщила им о свидании с Руйво, о переводе всех в тюрьму, о возможности добиться свидания и с остальными заключенными. Мать отправилась потолковать со знакомыми семьями арестованных и попросить, чтобы те, кто пойдет на свидание, осведомились о Жоане. Она побывала только у самых верных друзей, и все они пообещали ей узнать. Вечером она пошла еще раз – спросить, что удалось выяснить о Жоане. И Мариана с нетерпением ожидала мать: она знала, что весточка от мужа поможет ей продолжать работу. Возглас ребенка, обрадовавшегося незаметно вошедшей бабушке, оторвал Мариану от мыслей. Старуха взяла мальчика на руки, присела на стул. Взгляд Марианы следил за ней с немым вопросом. – Он тоже в доме предварительного заключения, но еще изолирован от других. И Освалдо также. Их очень сильно били… – сказала она, ласково гладя головку мальчика. Мариана продолжала молчать; сама она не в состоянии была ни о чем спросить. – Он из тех, которые ничего не говорят, он, как твой покойный отец… – прошептала старуха, вспоминая мужа. Она протянула руку, посадила Мариану рядом с собой и обняла дочь и внука одним объятием; горячая слеза – скорее от гордости, чем от страдания, – блеснула на ее измученном лице. – Он, как твой отец, он из тех, кто, как сталь, – ломается, но не сгибается. Мариана прислонила голову к иссохшей груди матери. Ее ждала большая и трудная партийная работа, и она была готова к ней. 8
Судебным следователем был назначен бакалавр, отличавшийся некоторой склонностью к литературе и искусству. В его доме по субботам собирались друзья помузицировать и поспорить. Его превозносили за якобы безупречное и блестящее проведение следствий. Это был первый политический процесс, подготовка которого была ему поручена, и он заявил друзьям, что очень доволен представившейся возможностью изучить «необъяснимую психологию коммунистов». Как и другие, он много читал и еще больше слышал о коммунистах, о Советском Союзе. Голова у него была забита всякими нелепыми представлениями, но любопытство его не носило тенденциозного характера: ему хотелось самому себе объяснить, почему эти люди так преданы делу, которое ему представлялось столь спорным. Так как полиция заявила, что перевозка арестованных в здание суда сопряжена с чрезвычайной опасностью, он решил заслушать их показания непосредственно в тюрьме. До этого он изучил дела, присланные управлением охраны политического и социального порядка: ряд нелепых обвинений, которые почти все основывались на вымыслах ренегатов типа Эйтора Магальяэнса и Камалеана и показаниях полицейских агентов. Если верить им, подсудимые были настоящими чудовищами. Любопытство судебного следователя возросло, и он с большим интересом направился в дом предварительного заключения, чтобы заслушать показания первого из обвиняемых. На ближайшую субботу у него будет материал для горячих споров с друзьями. Для него и его помощников в конторе тюрьмы был приготовлен кабинет. Начальник тюрьмы пришел поздороваться с ним, и они беседовали, ожидая, когда будет приведен заключенный. Следователь велел вызвать обвиняемого Агиналдо Пенья, и начальник приказал стражнику: – Приведи Жоана. Он объяснил следователю: – Они всегда употребляют подпольные клички. – Что же они делают в тюрьме? – Учатся, более культурные из них читают доклады для остальных, организуют коллектив… – Коллектив? Это что такое? Начальник тюрьмы рассмеялся. – Это термин из их жаргона. Означает, что они всё организуют коллективно: вместе учатся, работают, делят передачи, получаемые некоторыми из них. Они действительно очень организованны и солидарны друг с другом. Вошел Жоан в сопровождении тюремного надзирателя. Следователь поднял голову, чтобы взглянуть на него, и вздрогнул. Исхудавшее лицо заключенного было в лиловых синяках, шрам на губе едва начал зарубцовываться, рука на перевязи. – Вы что, ушиблись? – спросил он. – Полицейские били меня целый месяц. Следователь склонился над разложенными перед ним бумагами – Вы сеньор Агиналдо Пенья? – спросил он и в ответ на подтверждение Жоана показал ему на стул. – Садитесь. Чиновники были наготове. Жоан осведомился: – Вы судебный следователь? – Да. Жоан начал с протеста против насилия и зверского обращения, жертвами которых оказались как он, так и другие заключенные. Он словно чеканил слова, это было убийственное показание против полиции, против «нового государства», против фашизма. После первых же его слов секретарь прекратил запись и взглянул на следователя, как бы спрашивая, должен ли он заносить в протокол все, что говорит заключенный. Следователь на миг замер в нерешительности, начальник тюрьмы хотел что-то подсказать, но Жоан опередил его. – Сеньор следователь, достаточно посмотреть на меня, чтобы установить, каким насилиям мы подвергаемся. Если вы не хотите превратиться в участника этой судебной комедии, прикажите занести мой протест в протокол. Хотя бы потому, что иначе я откажусь давать какие-либо показания. Полицейские пытали меня и моих товарищей, и я требую, чтобы мой протест был оформлен и юстиция произвела расследование. Следователь еще раз взглянул на коммуниста: лицо в кровоподтеках и синяках, строгая, подтянутая фигура. Он распорядился, чтобы секретарь записывал все, и Жоан продолжал показания. В течение полутора часов он неумолимо обвинял полицию: подробно описал каждый вид применявшихся к ним пыток, рассказал о ночных допросах, о зверствах агентов. Он показал свободную от повязки руку, покрытую синяками и кровоподтеками, показал и руку на перевязи – ему ее сломали полицейские. У следователя исчезло то приятное возбуждение, с которым он пересек порог тюрьмы. Это пространное и подробное описание пыток вызвало у него содрогание; процесс уже не казался ему столь интересным. Жоан закончил требованием начать расследование и привлечь полицию к ответственности. Нужно немедленно произвести медицинскую экспертизу, чтобы установить у него и у его товарищей еще свежие следы пыток. В числе заключенных был один больной туберкулезом в открытой форме, и все же его больше месяца продержали в сырой камере-одиночке, почти без питания, – это было подлинное убийство. Он возлагал ответственность за эти преступления не только на полицию, агентов и инспекторов, но и на правительство и лично на диктатора. При этих словах секретарь снова проявил нерешительность, не зная, записывать их или нет. Но следователь ничего не сказал, и он продолжал писать, все ниже сгибаясь над машинкой, будто хотел прикрыть своим телом жгучие слова протокола. – Я приму меры… – пробормотал следователь, когда Жоан кончил говорить. – Перейдем теперь к вашим личным показаниям. Известно ли вам, в чем вы обвиняетесь? – Меня не познакомили с материалами дела… Следователь изложил ему вкратце содержание обвинительных документов полиции. Он все больше нервничал, убеждаясь, что заключенному не было предоставлено никакой возможности предварительно ознакомиться с материалами процесса, что у него не было и адвоката. Жоан обратил его внимание на все эти беззакония и заявил против них протест. Он опроверг различные обвинения полиции, все эти совершенно невероятные доносы Эйтора Магальяэнса. Он подтвердил свою верность коммунистическому учению, принял на себя ответственность за свои действия в качестве партийного руководителя в штате Сан-Пауло, но отказался дать какие-либо разъяснения как по поводу своей деятельности, так и по поводу деятельности товарищей. Потребовал сделать два-три исправления в отпечатанном протоколе. Когда все было закончено, следователь уже в тоне обычной беседы спросил его: – Вы, между прочим, не адвокат? Из вас вышел бы неплохой юрист. – Я рабочий, – спокойно, но с ноткой гордости ответил Жоан. Следователь оправился от первого потрясения, вызванного описанием полицейских бесчинств; им снова овладело свойственное ему любопытство: – Однако вы образованный рабочий. Исключение для своей среды… – Придет день, и все рабочие станут образованными. Многие из них станут адвокатами, следователями и судьями. Следователь снисходительно улыбнулся. – У вас богатое воображение. – Воображение? В СССР это уже свершившийся факт. Придет день, то же будет и у нас. – Вы мне позволите задать вам несколько вопросов частного характера? – спросил следователь. – Я изучаю психологию и признаюсь в своем любопытстве по отношению к вам, коммунистам. Что именно заставляет вас посвящать этому делу свою жизнь, даже жертвовать ею? Что вы видите в коммунизме? – Я вовсе не приношу никакой жертвы. Я просто выполняю свой долг рабочего руководителя. То, что вы называете жертвой, представляет смысл моего существования, я не мог бы действовать иначе, не испытывая отвращения к самому себе. – Но почему же? – С того дня, как я убедился в справедливости идей, которые я теперь отстаиваю, я посвятил себя их распространению, борьбе за их торжество. Я был бы недостоин называться человеком, если бы поступал иначе. Я не мог бы жить в мире со своей совестью. Ни тюрьма, ни пытки не способны заставить меня отречься от моих идей. Это было бы равносильно отречению от человеческого достоинства. Я борюсь за то, чтобы изменить к лучшему жизнь миллионов бразильцев, которые голодают и живут в нищете. Эта задача столь прекрасна, сеньор, столь благородна, что ради нее человек может выдержать самое тяжелое заключение, самые зверские пытки. Дело того стоит. – Я это называю фанатизмом, – сказал следователь. – Мне уже рассказывали что вы – фанатики. Теперь я убедился в этом сам. – То, что вы называете фанатизмом, я называю патриотизмом и верностью своим убеждениям. – Патриотизмом? – Голос следователя зазвучал почти протестующе. – Странный способ быть патриотом. – То же самое, сеньор, сказали Тирадентесу[191] судьи португальского королевского двора. Для королей Португалии люди, боровшиеся за независимость Бразилии, тоже были фанатиками. Но эти люди знали, что их дело правое, и это придавало им силу, как и мне придает силу сознание правоты нашего дела. – Я допускаю, ради какой-нибудь другой, более возвышенной идеи… Но коммунизм… Подавление личности… Человек становится просто винтиком государственной машины. Надеюсь, вы не станете отрицать, что при коммунизме индивидуум исчезает, чтобы уступить место только государству, превращая последнее в абсолютного властелина. Это то, что имеет место в России, где не считаются с индивидуумом… Жоан улыбнулся, он уже не впервые слышал подобные рассуждения. – Только при социализме личность человека может получить свое полное гармоническое развитие. Вы, как я вижу, совершенно незнакомы со всем, что относится к коммунизму и к Советскому Союзу. Вы удовлетворяетесь развитием личности тех, кого вы называете избранными: правящих классов, богачей. Мы же ведем политику в защиту миллионов и миллионов эксплуатируемых – тех, которые получат возможность развития своих способностей лишь тогда, когда рабочий класс возьмет власть в свои руки. Голодающий человек, будь то на фабрике, будь то на фазенде, отнюдь не свободен. – Но вы же не станете меня убеждать, что человека освобождает диктатура пролетариата… – Я ни в чем не собираюсь вас убеждать, сеньор. Для меня достаточно того, что рабочие это прекрасно понимают. Да, диктатура пролетариата освобождает человека от нищеты, от невежества, от эксплуатации, от эгоизма – от всех цепей, в которые он закован диктатурой буржуазии и латифундистов. Вы, господа, называете эту диктатуру демократией, а она не только остается реакционной кандидатурой, но и превращается в фашизм. Это демократия для избранных и диктатура для всех. Диктатура же пролетариата означает демократию для всех. Следователь принужденно улыбнулся. – Я уже где-то читал: «высший тип демократии»… Это просто забавно. Ведь там нет ни свободы слова, ни свободы критики, ни свободы религии… – Вы говорите о «новом государстве», а не о социалистическом режиме, – возразил Жоан. – Именно в социалистическом государстве, в СССР, существует и свобода слова, и свобода религии, и свобода критики. Достаточно прочесть Советскую конституцию. Вы с ней знакомы? Рекомендую вам прочесть ее, сеньор. Для юриста это просто необходимо. – Свобода в России… Свобода быть рабом государства, работать на других. Свобода ничего не иметь, ничем не владеть. – Да, свобода эксплуатировать других, владеть средствами производства – такая свобода в СССР не существует. Эта свобода процветает здесь, сеньор, – свобода для богачей, свобода для немногих. Для остальных же, для огромного большинства бразильцев если и есть какая-нибудь свобода, то это – свобода голодать и оставаться неграмотным. А тех, кто против этого протестует, ожидают тюрьмы, побои, ссылка. Вы, сеньор, забываете, что говорите с заключенным, с жертвой этой вашей пресловутой «свободы». Вы, господа, удовлетворяетесь свободой для своего класса. Мы же хотим подлинной свободы для всех: свободы от голода, от невежества, от безработицы, от нужды. Не говорите о свободе хоть здесь, сеньор, в доме предварительного заключения. Здесь вашей свободе грош цена. Говорить тут о свободе – это значит осквернять слово, которое для нас, коммунистов, имеет особое значение. – С вами невозможно разговаривать. Вы все время хотите навязать свои идеи насильно. – Насильно? – Жоан снова улыбнулся. – Осторожнее, сеньор, так вы, пожалуй, кончите утверждением, что это я избил полицейских… – Вы неглупый человек. – Голос судьи принял менторский тон. – Трудно даже поверить, что вы рабочий. Отбросьте эти идеи, и вы станете полезным для страны человеком… – Нет, таким, каким вы хотите меня видеть, я не стану, сеньор. Я коммунист, в этом моя честь и моя гордость. Я не сменю это звание ни на какое другое… – Взор его был устремлен через оконные решетки; он видел за тюремными стенами крыши домов. – Смотрите, сеньор, даже здесь, за этими решетками, я свободнее вас. С этими следами побоев я все же намного счастливее вас. Я против тюрем и пыток. Я люблю свободно ходить по улицам, дышать вольным воздухом. Но, несмотря на это, я не чувствую себя здесь несчастным. Ибо я знаю, что завтра будет именно так, как я этого желаю, что мир для моего сына станет веселым и прекрасным… А также и для вашего сына, сеньор, если он у вас имеется… Как бы вы ни старались помешать этому. На земле не будет голодных, все люди научатся читать и писать, навсегда исчезнут несчастья. Он уже говорил теперь не только следователю, он как бы обращался ко многим другим там, за решетками тюрьмы. Даже секретарь слушал его с интересом. Жоан помолчал и снова обратился к следователю: – Через некоторое время, сеньор, когда мы закончим наш разговор, вы вернетесь на улицу, на вольный воздух, в лоно семьи. Я же вернусь в тишину своей одиночки. И, тем не менее, я могу вас заверить, что я свободнее и счастливее вас. Следователь покачал головой. – С вами, господа, бесполезно спорить. Бесполезно… Когда Жоана увели, начальник тюрьмы сказал: – Все они таковы. Пользуются каждым случаем для пропаганды своих идей. Как будто специально обучаются ораторскому искусству. Такими разговорами они очень многих обманывают. Все, кто не держит ухо востро, попадаются на их удочку. Следователь поднялся. – Пожалуй, верно, что здесь смешно говорить о свободе, отстаивать перед заключенным нашу концепцию свободы, тем более затрагивая при этом вопрос о работе полиции. Ведь то, что они сделали с этим человеком, – бессмыслица. Зачем это было нужно? – Без побоев они ничего не скажут. Да и с побоями очень редко удается чего-нибудь добиться. Коммунист – это не такой человек, как остальные, сеньор. – Да, они не таковы, как остальные… – согласился следователь. И на улице он повторил себе то же самое. Все, за что боролся этот человек, может быть, и мечта, но нельзя отрицать, что она кажется прекрасной и заманчивой. Он вспомнил его избитое лицо, лиловое от синяков. Зачем нужно было грубой силой подавлять эти идеи? Не потому ли, что полицейские не могли опровергнуть их другими средствами? Следователь кичился своим умением спорить, друзья утверждали, что у него нет соперников в способности подбирать аргументацию. Однако в этом разговоре он не сумел найти доводы, которые можно было бы противопоставить полным достоинства словам коммуниста, его убеждениям. Выйдя из тюрьмы, следователь почувствовал себя неспокойно. Человека избили, сломали ему руку. Его обязанностью было учинить расследование. Но полиция в «новом государстве» всемогуща, любое его выступление может дорого обойтись; он рискует даже потерять место… Но если он, следователь, этого не сделает, разве не даст он тем самым заключенному лишнее доказательство его правоты, разве это не будет служить практическим доказательством обоснованности его утверждений? В течение нескольких дней и бессонных ночей следователь колебался. Он отложил продолжение судебного следствия до следующей недели. Однако мало-помалу совесть его успокоилась, и в субботу он заявил своим многочисленным друзьям, интересовавшимся ходом судебного следствия: «Они просто фанатики, спорить с ними бесполезно». Ему, впрочем, так и не удалось продолжить свои наблюдения над коммунистами, ибо он был заменен другим следователем, которому и было поручено подготовить процесс. Начальник тюрьмы информировал Барроса о странной сердечности, с которой прежний следователь отнесся к Жоану, и о его совершенно непонятном поведении, выразившемся в том, что он распорядился занести в протокол показания о пытках. На его место прислали следователя, уже привычного к таким политическим процессам. Это был человек с притупленной чувствительностью и без всяких интеллигентских вывихов. 9
В час, когда в светском обществе принято пить чай, экс-министр Артур Карнейро-Маседо-да-Роша и социолог Эрмес Резенде находились в доме Коста-Вале. Артур и привез с собою Эрмеса, они еще в автомобиле начали спор о внутреннем и внешнем положении страны. Экс-министр юстиции снова открыл адвокатскую контору в Сан-Пауло. После своей отставки он держался умеренной оппозиции правительству. Некоторым давал понять, что оставил министерский пост из-за несогласия с авторитарными методами режима. Он всегда был либералом, его демократические идеи известны в стране, его речи в парламенте – лучшее тому доказательство; он доверял людям, связанным с Армандо Салесом, сторонникам англичан и французов, друзьям американцев. Если он и принял пост министра внутренних дел и юстиции в трудный час, после неудавшегося переворота в мае 1938 года, то для того, чтобы не допустить еще больших преследований своих политических соратников, скомпрометированных заговором, а также в надежде «содействовать демократическому разрешению нынешнего политического кризиса, переживаемого страной». Убедившись в невозможности изменить авторитарную структуру «нового государства», он ушел в отставку, протестуя таким путем против усиления диктатуры и против опасной внешней политики правительства, выразившейся в «отходе от традиционного союза с Соединенными Штатами в такой серьезный момент, когда идет война». Кое-кто верил этим утверждениям, а кое-кто втихомолку улыбался, называя его «старой оппортунистической лисой». Артур, всегда любезный и сердечный, умело лавировал между теми и другими; он обязательно присутствовал на всех приемах, упоминался в каждой светской хронике. Он обедал в доме Коста-Вале, завтракал с комендадорой да Toppe, пил аперитивы в автомобильном клубе, строил планы посещения фазенд Венансио Флоривала, чтобы поохотиться с полковником за ягуарами в долине реки Салгадо. Оппозиция Эрмеса Резенде носила менее умеренный характер. Не получив назначения ректором университета, он использовал противоречия правительственной внешней политики для ведения антижетулистской пропаганды среди интеллигенции. Он превратился в своего рода официального проповедника «рузвельтовских доктрин» пресловутой политики «доброго соседа», однако он противопоставлял «рузвельтовскую демократию» не только «новому государству», но и марксистским концепциям. Недавно он получил приглашение прочесть курс бразильской литературы в одном американском университете и теперь готовился к отъезду. Своим многочисленным поклонникам он изображал это путешествие как своеобразную форму протеста против правления Варгаса. «Нечто вроде добровольного изгнания», – пояснял он. Это не помешало ему, однако, добиваться сохранения за собой места профессора университета с выплатой ему жалования. За время поездки это не помешало ему также согласиться с предложением министерства просвещения о проведении некоторых исследований в библиотеках Соединенных Штатов. «Это не более как деловое поручение по моей научной специальности», – объяснял он друзьям. В автомобиле, по дороге к дому Коста-Вале, Эрмес и Артур обменивались мнениями о бразильской политике, о шансах антижетулистского движения. В этом конспиративном сговоре, сообщил Артур, участвуют многие политические деятели и военные. Армия, по его словам, разделилась на два лагеря: с одной стороны – генералы, сочувствующие нацизму, с другой – офицеры, настроенные против фашизма и готовые восстать, если Варгас сделает еще шаг в сторону Гитлера. По прибытии в дом банкира Эрмес стал распространяться о ближайших перспективах развития войны, рассуждая об этом авторитетным тоном, как человек, обладающий достоверными сведениями. Вновь прибывшие были встречены оживленными, радостными восклицаниями. Артур объявил: – Наш Эрмес рисует весьма любопытную картину международной обстановки. Меня заинтересовали его выводы… – Начните с начала… – повелела комендадора. До появления Артура и Эрмеса разговор вращался вокруг театра, и комендадора смертельно скучала. Бертиньо Соарес прибыл из Рио с женой – Сузаной Виейра-Соарес и с ансамблем «Ангелов». Сезон в Рио закрепил их прежний успех, однако им все же пришлось освободить здание для балетной труппы, в ближайшие дни прибывающей из-за границы. «Ангелы» перебрались в муниципальный театр Сан-Пауло, и Бертиньо был в восторге от того, что ему удалось завербовать нескольких польских артистов и режиссеров, которые бежали сюда от войны. Эти люди прибыли в Бразилию по рекомендациям Пауло и Розиньи, подружившихся с графом Заславским. Граф продолжал жить в Лиссабоне, но о нем говорили в обществе уже как о хорошем знакомом. По мнению Бертиньо, польские режиссеры совершат настоящий переворот в бразильском театре. Лукас Пуччини поинтересовался, когда приедет балетная труппа. Он не получил письма от Мануэлы. Теперь Лукас регулярно бывал в гостях у Мариэты Вале. Он приезжал с комендадорой и Алиной; вначале кое-кто морщил нос при его появлении, у некоторых поднимались брови, как бы вопрошая, что нужно здесь этому нахалу. Однако, поскольку Коста-Вале вежливо ему улыбался, а комендадора не скрывала своих симпатий к этому богачу-выскочке, всем не оставалось ничего иного, как принять его в свою среду. В этот вечер собрание было весьма оживленным: только что из Буэнос-Айреса прибыла погостить месяц в Бразилии Энрикета Алвес-Нето. Муж ее, заочно осужденный на год тюремного заключения, послал супругу разведать политическую обстановку на родине. Она привезла с собой несколько писем и держалась весьма таинственно. Многие приехали к Коста-Вале специально, чтобы повидаться с ней и узнать новости о политических эмигрантах. И она, оказавшаяся сначала в центре внимания, почувствовала было себя обойденной, даже обиженной, когда заговорили о театре, и поэтому зааплодировала, как только Артур начал разглагольствовать на политические темы. Эрмес уселся рядом, он прибыл из Рио, чтобы с ней встретиться. Все замолчали, ожидая, когда он заговорит. – Я уже сообщал Артурзиньо, что скоро наступит кульминационный момент войны. Кульминационный в психологическом смысле. Гитлер – властелин Европы – сейчас в величайшем затруднении. Его подлинный враг не Англия, а Россия. С другой стороны, Соединенные Штаты не могут сложа руки смотреть на вторжение в Англию. Американцы крайне сентиментальны, и если они так помогали Финляндии в русско-финской войне, то с тем большим основанием теперь они окажут помощь старой метрополии. И Гитлер это знает. – Он прервал на момент свои рассуждения, довольный вниманием аудитории, и улыбнулся Энрикете. – На мой взгляд, произойдет следующее: Гитлер, терроризовав Англию бомбардировками, предложит мир и вторгнется в Россию. – Вторжение в Россию – это только вопрос времени, – согласился Коста-Вале. – И короткого времени, – добавил Эрмес. – А что произойдет тогда? – задал он вопрос. – Русские воспользуются этим, чтобы освободиться от коммунистов и совершить новую революцию, – ответила Энрикета, повторяя слова Тонико Алвес-Нето и радуясь возможности проявить свое понимание политических вопросов. – Поход в Россию будет прогулкой для германской армии, – сказал, в свою очередь, вкрадчивым ораторским голосом Артур. – Москва будет взята в течение месяца, возможно, – даже трех недель… – Простите, я не согласен ни с нашей очаровательной Энрикетой, ни с нашим эрудированным Артурзиньо. Я не верю ни в такую быструю «революцию», ни в такой быстрый разгром, – заметил Эрмес. – Русские мечтают освободиться от коммунизма… – снова заявила Энрикета. – Возможно, – согласился Эрмес. – Но не забывайте, что существуют миллионы русских фанатиков; учтите, что проблема антикоммунистической революции не так уж проста. Люди, которые могли бы ее совершить – троцкисты, – давно ликвидированы. Это я напоминаю в связи с замечанием Энрикеты. С другой стороны, я полагаю, что русские окажут Гитлеру значительно более упорное военное сопротивление, чем многие ожидают. Я согласен с тем, что Москва скоро падет, но русские будут сопротивляться и на Урале. Чем это все кончится? Гитлер выйдет из этой войны победителем, но в то же время истощит свои силы. Он окончит войну совершенно измотанным, неспособным навязать кому-либо свою волю. Возможно даже, что он не сумеет удержаться у власти и его заменят германские генералы. И в этой обстановке условия мира разгромленной России и истощенной длительной войной Германии будут диктовать Соединенные Штаты. Благодаря своей политической ловкости они пожнут плоды победы, не сделав ни единого выстрела. Вот как, на мой взгляд, будут развиваться события. – Возможно, – заметил Коста-Вале. – В ваших рассуждениях много верного. – Жаль, что здесь нет Тео, – посетовала Мариэта. – Он бы мог сказать, насколько верны предсказания Эрмеса. Как раз на днях… Однако банкир прервал ее: – Как бы там ни было, если только Гитлер покончит с Россией, им будет заслуженно восхищаться весь мир. Это необходимая операция для всего человечества, и только он в состоянии ее осуществить. – Жаль лишь, что у него такие методы правления, – вмешался Артур. – Они, возможно, хороши для Германии, но представляют плохой пример для других правительств, начать хотя бы с Бразилии. – Будешь снова в оппозиции, Артурзиньо? – лукаво спросила его комендадора. – Все еще принюхиваешься к министерству?.. – А почему бы и нет? – снова вмешалась Энрикета. – С уходом Артурзиньо правительство лишилось последнего демократического деятеля. Коста-Вале снова прервал спор: – Жетулио – как Гитлер: у него есть свои особенности, не всегда легко к ним привыкнуть. Однако верно одно – и за это он заслуживает нашего поклонения: он покончил в Бразилии с коммунизмом. На мой взгляд, самым замечательным событием последнего времени было не падение Парижа, не вторжение в Норвегию, не бомбардировки Лондона. Самым значительным событием была ликвидация нашей полицией коммунистической партии. Этим мы обязаны Жетулио, Новому государству, этого нельзя отрицать. При другом режиме это было бы невозможно. В спор вмешался Лукас Пуччини; он вспылил из-за критических замечаний по адресу Жетулио: – Доктор Жетулио не подлежит никакой критике. Это величайший президент, которого когда-либо знала Бразилия. И я не позволю, чтобы кто-нибудь плохо отзывался о нем в моем присутствии. Энрикета Алвес-Нето бросила на него презрительный взгляд. – Сразу видно, что вы, сеньор, не привыкли к нашему кругу. У нас не принято говорить: «не позволю». Такие выражения шокируют воспитанных людей. Лукас сжал кулаки, лицо его покраснело от обиды; комендадора вступилась в его защиту. – Энрикета, ты становишься нервной – это возрастное… Когда мы начинаем стареть, дочь моя, следует особенно заботиться о своих нервах. Так вот послушай: я нахожу, что Лукас прав, и я также не позволю, не позволю, чтобы кто-нибудь при мне плохо отзывался о Жетулио. Энрикета чуть не упала в обморок, но комендадора продолжала спокойно доказывать: – Жозе прав: Жетулио покончил с коммунизмом, и за одно это ему стоит поставить памятник. Кто же станет отрицать опасность, которую представляли коммунисты? Эрмес стал утешать Энрикету, и та наконец согласилась, что ликвидация коммунистической партии была, несомненно, делом большой важности. С этим согласились все. Энрикета, успокоившись, даже улыбнулась Лукасу, Мариэта стала мирить ее с комендадорой. Старуха начала прощаться, она увозила с собой племянницу и Лукаса. Как только комендадора уехала, Энрикета бросила реплику: – Она не может отрицать, что была проституткой, что вышла из низов. Она так противна… Коста-Вале засмеялся. – Не забывайте, что комендадора теперь родственница Артурзиньо и мы с ней друзья. Вы, Энрикета, были грубы с этим малым… – Политические страсти… – рассмеялся Артур. – Энрикета вмешалась в высокую политику. Я в самом деле начинаю думать, что Жетулио грозит опасность: теперь против него хорошенькие женщины. Энрикета снова начала улыбаться: впереди было много интересного – ей предстоял обед с Эрмесом. Бертиньо пригласил ее и социолога присутствовать вечером на репетиции труппы. Они смогут увидеть там польского режиссера за работой; он просто великолепен. Но, прежде чем уйти, Эрмес задал еще вопрос: – Знаете ли вы, что Маркос де Соуза тоже арестован? Многие хлопочут об освобождении архитектора, но полиция не намерена его выпускать. Заявляет, что против него много улик… – Маркос? Бедненький… – пожалела Мариэта. – Бедненький? – Коста-Вале нахмурил брови. – Почему это он бедненький? Полиция, на мой взгляд, поступила совершенно правильно. Кто просил его путаться с коммунистами? И пусть его продержат некоторое время, чтобы проучить. Зато когда он выйдет, то станет тихоньким, никогда больше не будет отказываться проектировать дома для колонистов. Мое мнение: коммуниста – в тюрьму! Кем бы он ни был! Если хорошенько подумать, то Лукас прав: Жетулио – величайший президент из всех, кого когда-либо имела Бразилия. Позже, когда он, Мариэта и Артур остались втроем и собирались ужинать в интимном кругу, банкир сказал Артуру: – Ты представляешь себе, что это значит? Освободиться навсегда от коммунистов! Это значит навсегда расстаться с бессонницей и кошмарами… 10
Маркос был арестован на улице Рио-де-Жанейро, когда он направлялся на свидание с директорами страховой компании, собравшимися поручить ему строительство доходного дома. Полицейский агент подошел к нему и предложил пройти в полицию: инспектор охраны политического и социального порядка желает с ним поговорить. Маркос посмотрел на полицейского с обычным для него добродушным видом и ответил: – Сейчас мне некогда. Я очень тороплюсь. Скажите инспектору, что я, возможно, зайду к нему попозже, когда освобожусь. Агент, не ожидавший такого ответа, растерялся, и Маркос продолжал свой путь. Но тут же его догнал второй шпик и взял за руку. – Вы должны пойти немедленно… – А если я не хочу? Если я откажусь от приглашения? Полицейский возмутился: – Ну ладно, кончим эту комедию. Вы арестованы. Его сначала заставили прождать несколько часов в управлении полиции – в помещении, где он был совершенно один. На стуле валялась оставленная кем-то газета, и Маркос прочитал ее всю с первой до последней строчки. Он стал нервничать, день уже был на исходе. Маркос без конца взад и вперед ходил по комнате. Ему ничего не было известно о произведенных за эти дни арестах; полиция к тому времени еще не объявила о разгроме руководства партии. Когда его арестовали, он решил, что это очередной нажим на журнал, как уже однажды было в Сан-Пауло; но тогда его не арестовали: он просто получил повестку из полиции, в которой был указан час явки. В Рио, видимо, другие методы, подумал он. В последнем номере журнала ему удалось обмануть цензуру и напечатать статью о Днепрогэсе и других советских стройках. Цензору показалось, что это просто техническая статья; номер вызвал сенсацию. Именно этому Маркос и приписывал свой арест. Будут, конечно, грозить закрытием журнала, думал он, возможно даже на время запретят его. После допроса ему, очевидно, велят убраться. Поэтому, когда появился агент и предложил следовать за ним, Маркос подумал, что его ведут к инспектору. Вместо этого его отвели в другое помещение, битком набитое арестованными, и оставили там, ничего не объяснив. Маркос осмотрелся, но не увидел ни одного знакомого лица. Он и в самом деле знал лишь очень немногих членов партии, да и то в Сан-Пауло: руководителей районного комитета, Мариану, Сисеро, еще трех-четырех человек. Он был связан большей частью с сочувствующими, с интеллигенцией, сотрудничавшей в журнале, с представителями литературных и художественных кругов. В Рио же он не имел контакта ни с одним партийным руководителем, тем более – ни с кем из низовых работников. Полицейский посмотрел на него с порога, прежде чем закрыть дверь. Маркос прошел вглубь помещения; дело было, видимо, серьезнее, чем он думал. Агент закрыл дверь. Один из арестованных, одетый в рубашку, брюки и домашние туфли, сидел на койке и приветливо пригласил его: – Садись, товарищ! Маркос поблагодарил и уселся рядом с ним. Тот улыбнулся и спросил, понизив голос: – Так, значит, схватили? В каком ты районе действовал? Что у тебя была за работа? Маркос хотел было ответить, что он редактор журнала «Перспективас», но, продолжая в этот момент оглядывать помещение, увидел чуть заметный предостерегающий знак, сделанный ему другим заключенным, низеньким небритым человеком. Тот же совет он прочел и на других лицах. – Я не имею никакого отношения к этим делам, – ответил Маркос. – Понятия не имею, почему я арестован. Видимо, какая-то ошибка. – Мы тут среди товарищей, – настаивал тот. – Можно говорить откровенно. – Да мне совершенно нечего говорить. – И Маркос поднялся. К нему подошел небритый человек. – Займите лучше себе койку. Тут есть одна свободная, рядом со мной. – Он указал на кровать, затем отвел Маркоса в сторону. – Этот тип – провокатор… – прошептал он. Вечером сосед по койке долго разговаривал с Маркосом. Время от времени беседа прерывалась: в дверях показывались полицейские, они выкрикивали имя того или иного арестованного, вызывавшегося на допрос. В час раздачи пищи провокатор исчез. – Его посадили сюда, чтобы выяснить, не знаете ли вы кого-нибудь из нас, чтобы попытаться вас подловить. Это они всегда так делают с новичками, которые попадают сюда впервые. Он рассказал Маркосу о происшедших событиях: ни разу еще со времени 1935–1936 годов полиция не наносила партии такого сильного удара, не арестовывала одновременно столько партийных работников. Помещения полиции были заполнены, и все же каждый час прибывали новые люди. Допросы сопровождались избиениями, руководители Национального комитета содержались в ужасных условиях, их изолировали в подвальных складских помещениях. Новый знакомый дал Маркосу ряд советов: против него полиция не могла иметь никаких улик, кроме того факта, что он ответственный редактор «Перспективас». Если Маркос будет отрицать, что имеет хоть какое-либо отношение к партии, ему, возможно, даже удастся избежать процесса. Что же касается его самого, то собеседник не строил себе иллюзий. – Когда придет моя очередь, они меня изобьют до полусмерти. Меня искали много лет. – Но как же полиция сумела обнаружить местонахождение руководителей партии? Арестовали одного ответственного работника, – начал рассказывать сосед по койке. Это случилось, когда тот, вопреки решению партии, отправился навестить семью. Его пытали, и кончилось тем, что он заговорил и выдал чуть не всю организацию, причем не только в Рио, но и в ряде штатов. А он казался таким твердым, даже похвалялся своей стойкостью и мужеством, и вот в трудную минуту не выдержал! Из-за него подвергли пыткам и многих других; полиция изощряется в насилиях. Маркос сможет увидеть, кого-нибудь притащат сюда после допроса. И Маркос увидел, и сердце его наполнилось гневом: одного товарища, которого несколько часов назад вызвали на допрос, полицейские приволокли обратно и полумертвого бросили на пол. В последующие дни такие сцены повторялись столько раз, что он даже не мог уснуть, находясь все время в тоскливом ожидании. Однажды ночью вызвали и его небритого соседа. Маркос проникся к нему уважением за эти дни: это был рабочий-металлург, отказавшийся от всего на свете ради партии. Всю ночь Маркос ожидал его возвращения, сердце его тревожно билось. Однако он больше не вернулся. Маркос встретил его снова лишь некоторое время спустя в исправительной тюрьме. У него вырвали все ногти плоскогубцами, обожгли грудь ацетиленовой горелкой. Маркоса ни разу не допрашивали. Восемнадцать дней он находился в помещении для арестованных. И вот однажды вечером его вместе с несколькими другими заключенными перевели в тюрьму. Он не получал никаких известий из внешнего мира, не читал газет с самого дня ареста; не имел даже смены белья. Первое время в управлении полиции он чувствовал себя одиноким среди неизвестных ему людей; в большинстве своем это были суровые рабочие из низовых партийных организаций. Но это чувство вскоре исчезло: один из них одолжил ему старые брюки, другие разговаривали с ним о его журнале, вспоминали отдельные статьи, кто-то рассказал ему о жене и детях. Он был окружен атмосферой товарищества; даже при этих трагических обстоятельствах никто не терял надежды. Они обсуждали разные вопросы, и уже на третий день после ареста Маркоса обратились к нему с просьбой сделать доклад об искусстве. Прошло немного времени – и архитектор почувствовал себя связанным с ними со всеми: он ощутил и здесь присутствие партии, причем это уже была не прежняя случайная связь с партией, а связь в определенной и конкретной форме. Эта вдохновляющая атмосфера наполняла его каким-то чувством бодрости. Когда его переводили в тюрьму, ему было тяжело расставаться с товарищами, он обнял их всех по очереди, одного за другим. В тюрьме он встретил не только тех, кто был арестован за последние дни, но и ранее осужденных товарищей, ожидавших отправки на остров Фернандо-де-Норонья. Там сидел также один бывший армейский офицер, арестованный еще в ноябре 1935 года. Из-за болезни глаз его привезли с острова, он должен был подвергнуться сложной операции. Среди заключенных находились активные партийные работники. Жизнь в тюрьме была организована по определенному плану: читались доклады, лекции, даже выпускалась стенная газета, специальные часы были отведены для игр и занятий. Прибытие Маркоса явилось настоящим событием. Хотя он никого не знал, его знали все. Товарищи сами приготовили для него уголок в камере рядом с бывшим офицером, и, когда утром все собрались на занятия, секретарь коллектива представил его: – Всемирно известный архитектор Маркос де Соуза, честный интеллигент, друг народа, антифашист. Большинство присутствующих подвергалось в различных случаях зверским истязаниям. Маркос обратил внимание на руки одного рабочего, который зааплодировал в ответ на слова секретаря, – руки, изуродованные пыткой. И он почувствовал себя связанным со всеми этими людьми, с их делом, с партией. Он зажил обычной жизнью заключенного – в определенные часы получал скудную еду, участвовал в политических занятиях, начал сам читать товарищам курс архитектуры. Когда с ним заговорили о лекциях, он тут же дал согласие, хотя и был уверен, что это предложение – скорее только любезность по отношению к нему, чем что-либо другое. Каково же было его удивление, когда он увидел, что эти рабочие делают записи во время его лекции, а по окончании задают ему самые различные вопросы. Он начал также давать некоторым заключенным уроки английского языка. С каждым днем он чувствовал, что связывается все теснее с этими людьми, как будто он сам обновляется, как будто происходивший в нем процесс нашел здесь, в тюрьме, свое завершение. Ему удалось с помощью товарищей получить чемодан с одеждой и бельем, который остался у него в отеле. Жена бывшего офицера расплатилась за номер и забрала чемодан. Маркосу принесли чемодан в день свидания, но он получил его лишь два дня спустя, после тюремного досмотра. Наконец-то он смог надеть свою пижаму! Он узнал также, что в Рио находятся два молодых архитектора – сотрудники его проектной мастерской. Они делали все, чтобы его освободить, но пока не могли добиться даже разрешения на свидание. Только близкие родственники – жены, матери, отцы, дети, братья и сестры – могли посещать раз в неделю исправительную тюрьму для встречи с заключенными. Но и эти свидания часто отменялись, а наиболее ответственных партийных руководителей, арестованных одновременно с Маркосом, полиция продолжала держать в строгой изоляции, без свиданий, без всякой связи с внешним миром. Больше всего взволновала Маркоса во время пребывания в тюрьме его территориальная близость к Престесу. Он знал, что руководитель коммунистической партии содержался в специально построенной для него камере с толстыми, как в средневековых замках, стенами. Это было круглое здание, находившееся поблизости от площадки, где они ежедневно совершали прогулку. В этот короткий час глаза Маркоса были все время прикованы к окнам в надежде, что, может быть, случайно в одном из них покажется фигура Престеса. Некоторые рассказывали, что Престеса однажды видели – правда, уже давно, – когда его возили в полицию. Целая армия шпиков наводнила в тот день тюрьму. Полицейские были тогда вооружены вплоть до ручных пулеметов; заключенных поспешно загнали в камеры, но кое-кому из них все же удалось увидеть Престеса. По ночам, когда наступала тишина, Маркос размышлял. Он думал о зданиях, строительство которых подходило к окончанию, о начатых постройках, о планах, подлежавших разработке. Его помощники по проектной мастерской, несомненно, стараются как-нибудь продолжать работу и без него. Он думал о Мануэле – девушка должна скоро прибыть в Бразилию на двухмесячные гастроли. Ему не удастся даже повидаться с ней, это просто неудобно, незачем ее компрометировать – ведь он теперь человек с клеймом. После гастролей она должна уехать с труппой в Соединенные Штаты, где им предстоит длительное турне по всей стране. Куда поедет она дальше, когда-то он теперь ее увидит? Он размышлял и приходил к заключению, что ему не остается ничего другого, как окончательно отказаться от Мануэлы. Никогда он не питал больших надежд завоевать ее любовь, но все же лелеял эту мечту и страстно ожидал возвращения Мануэлы. Может быть, он и решился бы сказать ей о своем чувстве, предложил бы выйти за него замуж. Но их жизни, особенно сейчас, далеки друг от друга: она будет, как сенсация сезона, с триумфом выступать в спектаклях, ей могут вскружить голову хвалебные отзывы прессы, цветы и приглашения поклонников. А он теперь уже не знаменитый архитектор Маркос де Соуза, а политический заключенный, которому грозит суд, осуждение и ссылка для отбытия наказания на острове Фернандо-де-Норонья. Дела его теперь расстроятся; даже когда он выйдет на свободу, ему нелегко будет найти работу: банкиры и промышленники вряд ли поручат ему постройку своих небоскребов и особняков. И все же не это было самым главным, что делало Мануэлу совершенно недоступной для него. Главное состояло в том, что на днях он принял решение, во имя которого готов был пожертвовать всем на свете. Маркос решил просить о принятии его в партию. Проанализировав всю свою деятельность, свои идеи и свою жизнь, он пришел к заключению, что до сих пор находился на ложных позициях. Он чувствовал себя во всем солидарным с коммунистами, мыслил, как они, хотел бороться за их победу. Так почему же он оставался вне партии, за ее пределами, в роли сочувствующего? Это было не чем иным, как своеобразным оппортунизмом, попыткой как-то совместить свои идеи, составляющие глубочайший смысл его жизни, со своим социальным положением, деловыми отношениями с крупной буржуазией, спокойным существованием. За эти дни Маркос взвесил всю свою жизнь и пришел к заключению, что, если он хочет остаться честным по отношению к самому себе, он должен сделать важный шаг – вступить в партию. В ту ночь, когда Маркос решился на это, его охватило глубокое волнение. И он вспомнил о своих друзьях: о Мариане, Руйво, Жоане, негре Доротеу и негритянке Инасии, при смерти которой он присутствовал. Он получит право сказать им «товарищ», идти рядом с этими людьми, человеческие достоинства которых были ему хорошо известны. Возможно, он навсегда потеряет Мануэлу, никогда ее не увидит, но еще хуже было бы потерять уважение к самому себе. На следующий день он обратился к одному из ответственных товарищей и попросил передать партийной организации его просьбу о приеме в члены партии. Товарищ обнял Маркоса и пообещал сообщить ответ, как только получит его от организации. Маркос стал ждать; дни его были заполнены чтением лекций, игрой в шахматы, рисованием для стенной газеты. Из полиции прибывали все новые заключенные, коллектив их увеличивался. Раз в неделю почти все заключенные надевали свою лучшую одежду и обувь, завязывали галстуки: это были те, у кого семьи жили в Рио и приходили навещать их. Всегда это был день волнений: ожидание часа свидания – в десять утра, затем обсуждение новостей, принесенных близкими. То был для заключенных одновременно и самый радостный и самый грустный день недели. Радость краткого свидания с родителями и женами, с детьми, братьями и сестрами. И вслед за этим грусть из-за невозможности быть вместе с родными; многие из узников после этих свиданий находились в подавленном настроении. Маркос в такие дни обычно ходил из камеры в камеру, чтобы узнавать новости. Так как он не имел семьи, а его помощникам было отказано в праве посещений, то Маркос даже не переодевался, а ходил в пижаме. Из одного фруктового магазина ему раз в неделю, в дни свиданий, посылали передачу по заказу, оплаченному сотрудниками его мастерской. Посылку сдавали в контору тюрьмы, и он ее получал к вечеру, причем почти всю отдавал товарищам. И все же волнение дня свиданий охватывало и его, он ожидал возвращения товарищей с некоторым возбуждением. Что происходило в городе, в Бразилии, в мире? Это был день, когда они узнавали последние сообщения о ходе войны, политические слухи, новости. В один из таких дней Маркос, как обычно, наблюдал приготовления заключенных к свиданию с родными. К десяти часам в камере остался лишь он да три-четыре рабочих, у которых семьи жили не в Рио. – Сыграем партию, чтобы убить время? – предложил Маркос одному из них, уроженцу Пернамбуко – энергичному человеку, который не имел здесь себе равных в шахматной игре. Не успели они взяться за доску, как в галерее появился надзиратель и выкрикнул его имя. – Маркос де Соуза! – Я. – К тебе пришли. Тебя ожидает жена. Одевайся. – Жена? – поразился Маркос. Но пернамбуковец уже подталкивал его: – Быстрее, друг, не теряйте времени. – И он прошептал ему: – Это, очевидно, трюк товарищей, чтобы поговорить с вами. Идите скорей. Потом сыграем. Маркос сорвал с себя пижаму, быстро надел брюки и пиджак; по лестнице он уже почти бежал. 11
Стоя у входа в помещение для свиданий и привлекая любопытные взгляды семей и заключенных, его ожидала Мануэла, прекрасная, как сновидение. Она бросилась ему в объятия, голос ее прервался от радостных рыданий: – Маркос! Заключенные на миг оторвались от своих семейных разговоров, на лицах у них засияли улыбки, они объясняли родным, что это знаменитый архитектор Маркос де Соуза. Жена бывшего офицера узнала Мануэлу по фотографиям в журналах. Наблюдали за сценой и надзиратели, они обменивались замечаниями по поводу красоты балерины. Взявшись за руки, как влюбленные, они уселись на одну из скамеек в глубине помещения. Маркос спросил: – Когда же ты приехала? Как случилось, что ты попала сюда? – Приехала я три дня назад, ничего о тебе не знала. Позвонила в Сан-Пауло, в твою мастерскую – я ведь послала тебе телеграмму о своем приезде. Думала, что ты заболел, но когда дозвонилась, мне все рассказали. Я прямо с ума сошла, ты себе представить не можешь!.. – и она сжала его руки, как бы для того, чтобы еще раз убедиться, что он тут, с нею. Маркос с благодарностью улыбнулся, ему было трудно говорить. – Я обратилась к адвокату, хотела выяснить, что можно предпринять. Этот человечишка, узнав, что речь идет о политическом заключенном, чуть не умер со страха, он, видимо, непрочь был бы выставить меня вон. Я решила идти прямо в полицию. – Одна? Она кивнула головой, ее волосы касались лица Маркоса, стыдливая улыбка появилась на лице девушки. – Там мне сказали, что посещать арестованных могут только ближайшие родственники: родители, дети, жены. Спросили, подхожу ли я к одной из этих категорий. – Она остановила свои голубые глаза на Маркосе. – Прости меня, Маркос, но я так хотела тебя видеть… – За что простить? – «Если бы она только знала, что означает для меня это посещение…» – Я сейчас объясню: я хотела тебя видеть, чего бы это ни стоило. Инспектор, антипатичный субъект, весьма любезно, но с явным желанием оскорбить меня, заявил: «Родители его умерли, братьев и сестер у него нет, и он холостяк…» Он хотел меня обидеть, Маркос, сказав: «…если только вы живете с ним как жена, не будучи повенчаны. В таком случае можно…» И я сказала, что да, это именно так. Ты меня прости, я очень хотела тебя видеть… Он посмотрел на нее, открыв рот, будто хотел что-то сказать, но не нашел слов. Она опустила голову. – Он нагло рассмеялся, но дал мне пропуск. Я знаю, что не должна была этого делать, но я просто не могла не повидаться с тобой. Я была, как сумасшедшая… – Мануэла… А твоя репутация, моя девочка? – Это не имеет значения. Я только боялась, что ты обидишься. – Я обижусь? Но неужели ты никогда не догадывалась, что… – Что? – Мануэла наклонилась к нему, ей так не терпелось получить от него долгожданный ответ, она приблизила свое лицо к лицу Маркоса. – …что я тебя люблю… – Так это правда? – воскликнула она. – Это на самом деле правда? О, Маркос! Как хорошо, что тебя арестовали, по крайней мере, ты сказал мне… Я ведь давно тебя люблю, давно ожидаю твоего признания… Она приникла головой к его плечу. Некоторые заключенные с улыбкой наблюдали за этой сценой. Мануэла прошептала: – Когда выйдешь на волю, будет так хорошо… – Ты согласна быть моей женой? – Выйти за тебя замуж? Но ведь ты хорошо знаешь, Маркос, что со мной произошло. Если ты даже просто захочешь жить со мной так, как сказал инспектор, и тогда я буду счастлива. Тебе же известно мое прошлое… – Что за глупости, Мануэла… Твое прошлое… Чем ты виновата, что была обманута? Неужели ты считаешь меня таким мещанином? Ты мне нужна, как жена, как подруга. Я тебе раньше никогда этого не говорил, потому что боялся огорчить тебя, думал, что я для тебя только друг… – Так вот почему? А я-то думала, что всему виной мое прошлое. Поэтому и я молчала. Какие же мы были глупые, Маркос!.. – улыбнулась она ему сквозь слезы. – Ты мне еще не ответила. Согласна? – Ты еще спрашиваешь, любимый?.. Это больше того, о чем я мечтала, больше того, что я желала… Она смотрела на него с безграничной нежностью. Глаза ее были полны слез, но это были слезы счастья. Маркос посмотрел на нее – у него внезапно появилось озабоченное выражение лица и он сказал, понизив голос: – Я должен рассказать тебе об одном деле. Оно может все изменить… – Тогда не говори. Для меня ничто не имеет значения. – Нет, имеет, и я обязан тебе это сказать. Слушай, Мануэла, я подал заявление о приеме в партию и если ты выйдешь за меня, то ты станешь женой коммуниста. – Я же дурочка, Маркос, и мало что смыслю в политике. Но однажды я уже тебе сказала, что мне представляется так: коммунисты – люди хорошие, а остальные – плохие. Для меня, по крайней мере, это так. Ты меня будешь учить, не правда ли? Чтобы я могла тебе помогать… – Как только я выйду на свободу, мы поженимся. Но если меня осудят года на два, на три… – На сколько бы тебя ни осудили, все равно я буду ждать. Ведь, я уже давно тебя жду, Маркос… Надзиратели предупредили об окончании свидания; заключенные стали прощаться с семьями. Маркос и Мануэла поцеловались; это был их первый поцелуй; любовь озарила тюремное помещение для свиданий. 12
В августе 1940 года на Сан-Пауло с юга надвинулась волна холода. Газеты, в которых в тот период не было сенсационных известий из-за границы (война после падения Парижа не изобиловала крупными событиями), истощив комментарии по поводу арестов коммунистов, пространно рассказывали об ущербе, причиненном несвоевременно наступившими холодами. В Баже выпал снег, в штатах Парана и Санта-Катарина температура упала ниже нуля, в Сан-Пауло иммигранты вспоминали европейскую зиму. Дамы высшего общества воспользовались возможностью продемонстрировать свои роскошные меховые манто, мужчины надели драповые пальто, обернули шеи кашне. Один из светских хроникеров в возбуждении написал: «Сан-Пауло в конце этой зимы, в разгар августа, оделся в снежный наряд так же элегантно и очаровательно, как одевается Париж в сочельник». Та же газета сообщала о смерти от холода на улице старого нищего и двух девочек-сирот. В светлом костюме из легкого дешевого холста, без кашне, без пальто, в дырявой обуви, засунув от холода руки в карманы, по улицам Сан-Пауло под моросящим дождем шагал какой-то высокий человек. Уроженец северо-востока, совсем недавно прибывший из Баии, он никак не мог привыкнуть к такому холоду. Ему не было и тридцати лет, но волосы у него уже начали редеть, и поэтому он казался старше. Усы закрывали верхнюю губу, придавая лицу суровое выражение. Его глубоко запавшие пытливые глаза останавливались на всем окружающем и на людях, как бы для того, чтобы изучить их и навсегда запечатлеть в памяти. Когда он говорил, суровость его, казалось, возрастала, голос звучал резко и повелительно. Но временами глаза незнакомца улыбались, улыбка расплывалась по всему лицу, голос становился чуть ли не мелодичным, в этом человеке проявлялась мягкость, обычно скрывавшаяся под суровой внешностью. В такие часы в нем чувствовалась одновременно и сила, и мягкость, и нелегко было устоять против его улыбки, как трудно было уклониться от повиновения, когда в его голосе появлялись суровые, требовательные нотки. Он проклинал этот холод; холщовый костюм явно не годился для Сан-Пауло: он промокал от моросящего дождя. Однако человек этот всю дорогу улыбался: газеты сообщали о провозглашении советской власти в трех прибалтийских государствах и об их принятии в состав Союза Советских Социалистических Республик. Границы социалистического мира расширялись, новые миллионы трудящихся освобождались от эксплуатации – это приводило врагов в ярость: Сакила в длинной статье, забыв о Гитлере и его концлагерях, распространялся о «советском империализме, угрожающем миру». Зато некоторые честные интеллигенты, вначале не разобравшиеся в значении советско-германского пакта, теперь стали отдавать себе отчет в истинном положении вещей. И они развернули активную деятельность за освобождение Mapкоса де Соузы. На фабриках и в учреждениях газетные известия также вызвали отклики, вновь разжигая пламя энтузиазма, сохранившееся несмотря на полицейские репрессии. Высокий человек, идя скорым шагом, чтобы согреться, повторял себе: «Какую массовую партию мы можем создать здесь, в Сан-Пауло, где сосредоточена большая часть промышленности страны!» Когда меньше месяца назад этот человек приехал и установил контакт с Марианой, она поразилась его планам. Несмотря на свойственный ей оптимизм, она растерялась, столкнувшись с жестокой действительностью. Лишь кое-где остались партийные кадры, разбросанные по фабрикам и заводам; большинство уцелевших товарищей, чтобы не попасть в тюрьму, вынуждено было отойти от работы; всего четыре-пять человек под руководством Марианы и Рамиро продолжали активную деятельность. Работа была сведена почти к нулю: листовки небольшого формата, выпускаемые на ротаторе малыми тиражами и циркулирующие в узких кругах. Террор еще продолжался. Работа среди интеллигенции совершенно замерла. Прежние сочувствующие старались, правда, добиться освобождения Маркоса, используя свое влияние среди политических деятелей и видных людей страны, но прекратили всякую связь с партией. Сисеро д'Алмейда, против которого также было возбуждено дело, вынужден был бежать в Уругвай, тайно перебравшись через границу. Инспектор Баррос получил повышение «за выдающиеся заслуги в деле подавления подрывной деятельности и ликвидации коммунистической партии». Мариана с покрасневшими от бессонных ночей глазами, уставшая до последнего предела от работы на своем ротаторе, недоверчиво относилась к этим смелым планам: ей казалось, что товарищ Витор витает в облаках. Он прибыл из Баии, где партийная организация фактически не была затронута провалом руководства в Рио. Его послали, чтобы снова поднять работу в Сан-Пауло. Он пользовался в партии популярностью и авторитетом: не он ли восстановил после разгрома в 1935 году всю работу в Баие, Сержипе и Алагоасе, и не ему ли, не его ли организаторским способностям партия была обязана тем, что в этих районах во время последних полицейских репрессий не было провалов, как то случилось во многих других штатах? Мариана, узнав о его прибытии, обрадовалась. Она уже начинала приходить в отчаяние из-за того, что работа шла так медленно, да и Рамиро, обладавший небольшим опытом, не находил выхода из положения. Получалось так, будто им приходилось начинать все сызнова. Об этом Мариана сказала Витору, когда услышала его смелые планы, проекты создания в Сан-Пауло многотысячной партийной организации, которая могла бы стать решающим фактором в политической жизни штата. – Я очень хочу, чтобы так было, товарищ. Но, говоря откровенно, нам еще очень далеко до этого. Я могу сосчитать по пальцам активистов; уверяю, их меньше, чем пальцев на руках. Организуешь встречу, товарищ обещает прийти, а к назначенному часу не является. А ведь речь идет о таком важном деле, как агитация и распространение партийных материалов. Нам не удалось набрать и четырех человек для писания лозунгов на стенах. Во всей округе только в Санто-Андре существует нечто похожее на организацию, и то благодаря Рамиро. Мы думаем теперь забрать его оттуда, чтобы оживить деятельность партии в других рабочих кварталах. В Санто-Андре почти все замерло, ему и пришлось вернуться туда, чтобы мы не растеряли того, что осталось. В провинции у нас уцелели лишь отдельные товарищи в Сантосе, Сорокабе, Жундиаи. В общем, почти ничего… Витор прищурил глаза – такая у него была привычка, когда он слышал что-либо неприятное. Его грубоватый голос обрушился на Мариану: – Ты что, товарищ, утратила всякую веру? Тоже поддалась утверждениям полиции о том, что партия ликвидирована? Начинать все сызнова – да кто тебе вбил в голову такие мысли? Даже те товарищи, которые в свое время основывали нашу партию, не начинали с пустого места. Существовал рабочий класс, существовал марксизм, существовала Октябрьская революция. Прибавь ко всему этому сегодня наличие социалистического государства СССР – раз, традиции нашей партии в Сан-Пауло – два, огромный авторитет Престеса – три. Кто руководил борьбой рабочего класса Сан-Пауло все эти годы? Мы! Кто организовал его на борьбу? Мы! Кто выступал против «нового государства», кто воспрепятствовал применению фашистской конституции? Мы! И ты, товарищ, думаешь, что у нас ничего нет? Этот уверенный, сильный голос воодушевил ее, она почувствовала себя гораздо бодрее. Все, что говорил Витор, было, конечно, правдой. Она ограничивалась тем, что видела перед собой только непосредственную, узкую задачу. Это объяснялось тяжелыми условиями ее работы. Витор открыл ей перспективы, показал заложенные мощные устои, на которых им предстояло заново воздвигнуть здание партии. Но он не удовлетворился подробным обсуждением проблемы, а принялся за практическую работу, не считаясь со временем, как будто время подчинялось ему. Мариана спрашивала себя с удивлением, смешанным с восхищением, как у него хватает времени на то, чтобы читать и учиться, чтобы так хорошо разбираться в международных событиях да еще следить за культурной жизнью страны. Он был требователен к товарищам, но прежде всего – к самому себе. Менее чем через месяц после прибытия Витора Мариана начала ощущать результаты его работы. Некоторые напуганные реакцией товарищи, войдя в контакт с Витором, вернулись к активной деятельности, другие, находившиеся до этого в подавленном настроении, заразились его энтузиазмом. Они выпускали все больше и больше материалов на ротаторе. Витор наладил новую систему распространения листовок, более эффективную и более надежную. Он обладал способностями руководителя, и Мариана видела, как в его руках зарождается новая организация; она переживала такое же чувство радости, как в тот момент, когда ее сын впервые повернулся в кроватке, когда он затем начал ползать, пытался делать первые робкие шаги, едва сохраняя равновесие на еще неокрепших ногах, когда он стал, наконец, ходить. Партийная организация еще была далека от того, чтобы начать ходить, но Мариана теперь знала, была твердо уверена, что партия снова поднимется, станет сильной, как никогда. Одновременно она начала открывать и новые черты характера в этом товарище, который поначалу произвел на нее впечатление какой-то машины, предназначенной исключительно для работы. Однажды, когда они встретились, товарищ Витор, поеживаясь от холода, сказал: – У меня есть для тебя новость: Жоана и других перевели в Рио. Процесс будет проведен там. Мариана не удержалась от горестного восклицания. Здесь она могла, по крайней мере, узнавать о Жоане через семьи других арестованных, иногда посылать ему фрукты. А теперь его увозят в Рио, он будет наверняка осужден, сослан на Фернандо-де-Норонья… Лицо Витора, стоявшего перед Марианой, потеряло свою обычную суровость, в нем появилась какая-то мягкость. – Я ломал голову, стараясь придумать, как бы тебе его повидать, не повредив партийной работе. Так ничего и не придумал, ничего не получается. Но я тебе гарантирую, что до суда ты съездишь в Рио, чтобы повидаться с ним. Сейчас это невозможно: я ни на один день не могу отпустить тебя. – Он ласково, по-братски улыбнулся ей. – Но у меня есть кое-что для тебя. Вот возьми… – И он протянул ей небольшой клочок бумаги, сложенный в несколько раз. Он смотрел, как жадно она читает записку Жоана, как перечитывает первые строчки, как будто желая заучить все письмо наизусть, прежде чем его уничтожить. «Моя дорогая, – писал Жоан, – нас увозят в Рио, там нас будут судить. Жаль, что не удалось с тобой повидаться, но я был рад узнать, что ты работаешь. Продолжай работу ради меня и ради себя, а я использую время на то, чтобы учиться; память о тебе помогает мне каждый день и каждую ночь. Я уже поправился, рука зажила. Не беспокойся обо мне, заботься лучше о сыне, научи его произносить мое имя. Поцелуй мать, она молодец. Хорошенько работай, так время пройдет быстрее. Люблю тебя! Счастлив, что ты моя жена». Слезы полились из глаз Марианы, она старалась справиться с волнением, ее ожидала работа с Витором. Она провела рукой по глазам и с трудом проговорила: – Ну что ж, начнем… Витор улыбнулся, положил ей руку на плечо. – Хватит времени для всего, Мариана. Я подожду. Поплачь, если хочется. Тебе станет легче, потом будешь лучше работать… Таков был товарищ Витор, на плечи которого теперь легла ответственность за воссоздание партийной организации в Сан-Пауло. Он с жадностью набрасывался на работу, вел ее в бурном темпе, увлекая за собой остальных, используя всякую возможность для того, чтобы воспитывать других и попутно всегда учиться самому. Он внимательно выслушивал товарищей, с которыми устанавливал связь, задавал им много вопросов. Так осваивался он в незнакомой обстановке. Его отличали два качества: во-первых, способность определять характерные особенности каждого человека, выяснять, как лучше использовать его, и, во-вторых, дух инициативы, благодаря которому он быстро находил практически осуществимые решения различных вопросов. Так как он держался открыто и прямолинейно, рабочие сразу прониклись к нему доверием: его знания, его пристрастие к спорам завоевали симпатии интеллигентов. Работа партии снова оживилась подобно сердцу, которое вновь стало биться в ускоренном ритме. Мариана привязалась к Витору, помогала ему, как могла. Витор снова поручил ей обязанности казначея; с помощью сотрудников Маркоса по архитектурной мастерской и врача, лечившего в свое время Руйво, она восстановила кружки друзей. Одновременно она установила связь между Витором и теми членами партии, которые ей были знакомы. При каждой встрече Витор неизменно находил несколько минут, чтобы поговорить о Жоане, похвалить его, поднять дух Марианы. Однажды он пришел к ней домой пообедать, поиграл с ребенком, долго рассказывал ей о своей жене, оставшейся в Баие. Ему хотелось, чтобы она приехала как можно скорее. В этот день он даже пошутил с матерью Марианы по поводу холодов в Сан-Пауло. Старуха и разжалобилась: – Бедный! Такая зима, а вы ходите в холщовом костюме. Она посоветовала ему быть осторожнее, поберечься гриппа, очень опасного в это время года. Но у Витора не было времени думать о холоде; он ограничивался тем, что только ворчал по поводу падения температуры. Мариана заботилась о нем, материнский инстинкт заставлял ее беспокоиться о здоровье товарища. При встрече с архитекторами из мастерской Маркоса она спросила, нет ли у кого-нибудь из них поношенного шерстяного костюма, чтобы подарить одному другу. Так она добыла не только костюм, но и теплое пальто. При встрече она передала Витору пакет, и тот, развернув эти сокровища, радостно воскликнул: – Теперь я посмеюсь над холодом… – Но тут же, после легкого раздумья, отдал костюм обратно. – С меня хватит и пальто. А костюм мы подарим Рамиро: португалец ходит в таких заплатанных штанах, что похож на пугало. Мариана заметила: – Это значит, что мне придется раздобыть еще один костюм – для тебя. Посмотрим, может быть, я достану у доктора Сабино. Он примерно твоего роста. – Это, несомненно, было бы идеальным решением вопроса. Но не в этом дело, пора приниматься за работу… И он забыл об одежде, о холоде, об усталости, сосредоточившись на задачах, которые предстояло осуществить. Нужно создать в Сан-Пауло, важнейшем промышленном центре Бразилии, «крупную массовую партийную организацию, партию нового типа», – объяснял он Мариане. 13
В этом сезоне Мануэла дебютировала в «Лебедином озере» Чайковского. Спектакль пришелся случайно в тот день, когда она вторично посетила Маркоса, неделю спустя после их признания в любви. Мануэла появилась в тюрьме, нагруженная свертками: она истратила на сладости, фрукты и консервы часть своих сбережений. – Это для тебя и для твоих друзей, – сказала она архитектору, показывая груду пакетов, которые надзиратели забирали на просмотр начальству. Она принесла также программу вечернего спектакля, ей пришлось и ее оставить в конторе тюрьмы для просмотра, прежде чем она будет передана заключенному. Но она и без программы рассказала ему о том, как распределены роли, описала каждого танцора и каждую балерину, их достоинства и недостатки. Она преподнесла жене бывшего офицера билет на спектакль; на прошлой неделе они вместе вышли из тюрьмы, та вместе с ней ходила по магазинам за покупками, давала советы, как действовать, чтобы добиться освобождения Маркоса. Архитектор был глубоко тронут всем этим; теперь он понимал, что значит день свиданий для заключенных. Мануэла вздохнула: – Ах, как бы мне хотелось увидеть тебя сегодня в театре! Мне кажется, я сделала успехи, Маркос. Серж – замечательный балетмейстер, я многому у него научилась. Маркос тоже вздохнул: он очень любил «Лебединое озеро»; чего бы только он ни дал, чтобы присутствовать на спектакле, в котором танцует Мануэла… – Не думаю, чтобы в этом сезоне мне удалось увидеть, как ты танцуешь. А потом ведь ты уедешь в Соединенные Штаты… – Уеду? Да я и не думаю об этом, Маркос. – То есть, как не думаешь? Нет, на это я не согласен. – Вот видишь? Мы еще не поженились, а ты уже хочешь мною командовать… – засмеялась Мануэла. – Настоящий феодальный властелин… Но он не смеялся. – Я не могу согласиться, чтобы ты принесла мне в жертву свое будущее. Если я выйду раньше твоего отъезда, мы поженимся; ты уедешь, а я буду тебя ждать. Я не смогу поехать с тобой – у меня запущены дела, и, кроме того, не думаю, чтобы мне дали визу в Соединенные Штаты. Если я не выйду до этого, то я тем более не согласен, чтобы из-за меня ты жертвовала своей карьерой. – А кто тебе сказал, что это турне поможет моей карьере? Есть две вещи, Маркос. Во-первых, я не уеду отсюда, пока ты не выйдешь из тюрьмы. Нет такой силы, которая заставила бы меня это сделать. Во-вторых, если мы поженимся, то я хочу, чтобы ты мне помог осуществить кое-какие планы, которые я наметила… – Какие планы? – Это долгая история, мы сейчас не сможем обсудить ее, у нас нет времени. Оставим лучше до другого раза. Мне надо тебе рассказать, какие мы предпринимаем шаги, чтобы вырвать тебя отсюда… Она рассказала ему о стараниях друзей Маркоса; вполне возможно, что он не будет фигурировать в числе обвиняемых на процессе. Мануэла питала на это большие надежды; один из архитекторов его мастерской снова приехал в Рио и ведет переговоры с влиятельными лицами. Она не хотела и думать, что Маркос не выйдет на свободу раньше окончания ее гастролей… В этот вечер, после первого акта, ей преподнесли массу цветов, публика без устали аплодировала. Ее много раз вызывали, и она, выходя на вызовы публики, глазами разыскивала жену бывшего офицера, которая сидела в первых рядах. Мануэла танцевала как будто прежде всего для нее, а через нее – для заключенных, для Маркоса. И в самом деле, она никогда так хорошо не танцевала, как в этот вечер, когда ее сердце было преисполнено любви, радости и печали, страха и надежды. От первого и до последнего жеста она находилась во власти созданного ею образа. Публика была в восторге, сам директор труппы – знаменитый европейский балетмейстер – пришел поздравить ее. На спектакле присутствовал также и Лукас Пуччини. Он прибыл к вечеру из Сан-Пауло; вместо с ним в театре была комендадора да Toppe с племянницей. Они занимали ложу, старая миллионерша вооружилась биноклем. Поэт Шопел пришел к ним в ложу, высказывал свои соображения по поводу музыки и балета, обсуждал известия, полученные от Пауло и Розиньи, события последних дней. Эрмес Резенде отправляется в Соединенные Штаты, но вместо того чтобы ехать прямо из Рио в Нью-Йорк, поедет в Буэнос-Айрес, затем пересечет Анды, сядет в Вальпараисо на пароход, идущий в Сан-Франциско. – И, – лукаво добавил Шопел, – он сядет случайно на тот же пароход, что и неподражаемая Энрикета Алвес-Нето… Комендадора рассмеялась: – Ну и злой же у тебя язык… Оставь ты бедняжку в покое, ей так мало осталось в жизни, а она жадная… Вот у Эрмеса действительно плохой вкус, если он не мог найти себе что-нибудь получше. – Эрмес – изысканный человек, комендадора, он лучший представитель цивилизации, затерявшийся в этой варварской стране, именуемой Бразилией. – А какое все это имеет отношение к Энрикете? – Он любит дичь с душком… Шопел больше всех смеялся своей остроте, хохот сотрясал его жирные щеки. Комендадора, смеясь, похлопывала его веером: она обожала такие разговоры. Но в это время поднялся занавес, начинался второй акт, и комендадора навела бинокль на сцену. По окончании спектакля все отправились за кулисы поздравить Мануэлу. Лукас, как только прибыл из Сан-Пауло, позвонил сестре, оповестив ее о том, что будет вечером в театре, и пригласил после спектакля поужинать с ним. Она согласилась: ей самой хотелось поговорить с братом. Увидев его с миллионершей, Мануэла удивилась. – Ты ведь знакома с комендадорой да Toppe, не правда ли? – Лукас представил их друг другу после того, как обнял Мануэлу и поцеловал ее в щеку. – Ведь в первый раз вы танцевали в моем доме, – напомнила старуха, протягивая ей руку, унизанную кольцами. Лукас представил Алину: – Сеньорина Алина да Toppe, племянница комендадоры. Шопел с интересом наблюдал за этой сценой. Мануэла холодно поздоровалась, повернулась к другим поклонникам и сразу очутилась перед Сезаром Гильерме Шопелом с его толстой необъятной фигурой. – Богиня танца с магическими ножками феи, позволь поцеловать ручку самому смиренному из твоих вассалов. Лукас предупредил: – Я провожу Алину и комендадору до автомобиля и вернусь за тобой. Шопел склонился в почтительном поклоне перед миллионершей и остался среди поклонников, окруживших Мануэлу. Девушка не протянула ему руки, ответила лишь наклоном головы, но Шопел сделал вид, что не заметил этого, и когда она, освободившись от поклонников, направилась к себе в артистическую уборную, возобновил наступление: – Чем перед тобой провинился бедный поэт, что ты смотришь на него с таким презрением? Почему ты так дурно обращаешься со мной? Ты забыла, что в трудные минуты я был твоим другом? – Моим другом… Вы наглец, Шопел. – Она посмотрела на него, как бы изучая. – Скажите: вот вы прикидываетесь умным человеком, и как до сих пор сами не видите, что все вы – просто гнилье… – «Все вы» – это кто же? – Вы, старая комендадора, ее племянница, вся ваша публика… Гнилье, сплошное гнилье. – Гнилье? Как это понимать? – Именно так, как я говорю. Вы настолько разложились, что от вас даже несет зловонием… – И она оставила его озадаченным, с таким глупым лицом, что несколько молодых великосветских повес, ухаживавших за балеринами, расхохотались. – Что, Шопел, фиаско? – спросил один из них. Поэт не ответил. Выходя из театра, он ворчал: «Ее обработали эти сволочи коммунисты…» В дверях он столкнулся с музыкальным критиком, восторженно отозвавшимся о таланте Мануэли. Шопел оборвал его: – Выдающаяся балерина? Не преувеличивайте, дружище, не изображайте из себя дешевого патриота. Она не более как заурядная дилетантка и ей никогда не удастся стать настоящей артисткой… Критик возмутился, хотел было опровергнуть это утверждение, но Шопел уже спускался по лестнице муниципального театра, раскуривая на ходу сигару. Лукас вернулся за Мануэлой. Они отправились в роскошный ресторан; промышленник с гордостью ловил взоры, направленные на его сестру, и с удовлетворением отметил движение в зале при ее появлении. Он соблазнился свободным столиком в центре, но Мануэла увлекла его к другому, в углу залы. – Я хочу с тобой поговорить… – Ты не должна прятаться от своих поклонников. Она наблюдала за братом, пока он заказывал ужин, выбирая самые дорогие вина. Прошло больше года, как она не видела Лукаса; он ничем уже больше не напоминал того юношу, которого меньше пяти лет назад какой-то прохожий обозвал паяцем из-за его поношенного, тесного и короткого костюма. Мануэла вспомнила эту далекую сцену: все для Лукаса и для нее началось с того вечера в луна-парке. Брат разбогател и наживается все больше и больше; она слышала на этих днях в Рио, что он объединился с Коста-Вале и комендадорой. Пройдет немного времени, и осуществятся все его былые мечты: он будет иметь банки, крупные предприятия, власть. Однако Мануэла с сожалением вспоминала честолюбивого юношу из сырого дома в предместье Сан-Пауло. Она его тогда так любила, он ей казался лучшим из людей. А этого, хорошо одетого, с наманикюренными ногтями, с брильянтовым кольцом на пальце, с автомобилем, ожидающим у дверей ресторана, – этого брата ей было как-то жаль, хотя она сама не могла объяснить себе – почему… Ради него она пошла на величайшую из жертв и чуть не возненавидела его потом; некоторое время даже не хотела его видеть. Сегодня же, когда она чувствовала себя счастливой, у нее снова возродилась какая-то нежность к брату. Ей было жаль его, живущего исключительно для удовлетворения своего честолюбия, жертвующего всем из-за своего стремления к богатству и власти. – Ты постарел… Лукас ударил кулаком по ладони – это был жест торжества. – Теперь, Мануэла, я иду, куда хочу. Ты помнишь? Еще не так давно… Года четыре назад, не так ли? Я тебе сказал, что буду зарабатывать большие деньги, столько денег, что… Так вот, Мануэла, я этого достиг, но буду зарабатывать намного больше… Больше всех… Теперь это уже не авантюры, а солидные дела, я теперь связан с крупными капиталистами. – Знаю… – Тебе уже рассказали? Ну так вот… И быть может, почем знать… – в его голосе послышались интимные нотки, –…я свяжу себя и другими узами. – Что ты имеешь в виду? – Как тебе понравилась племянница комендадоры? Не очень красива, верно? Но и не настолько дурна, чтобы казаться страшной, не так ли? С миллионами, которые у нее есть, и теми, что она унаследует, она всем покажется красавицей. И у нее есть то, чего нельзя не принимать во внимание: прекрасное воспитание, она отлично играет на рояле, даже рисует акварели. – Ты думаешь жениться на ней? – Не могу сказать ничего окончательного. У меня такое впечатление, что я ей нравлюсь и что комендадора даст согласие. Но есть целая куча претендентов, сестренка. Они кружат над ней, как урубу над добычей. И все это отпрыски самых знатных фамилий, а не выходцы из иммигрантов, как мы. Сестра ее замужем за одним из таких. Но ты его знаешь лучше меня – ведь это Паулиньо… – Значит, ты станешь его шурином… – Очень может быть. Я надеюсь на поддержку комендадоры в решающий момент. Она не выше нас по происхождению, даже наоборот. Первую из племянниц она уже выдала за дворянина, а теперь она нуждается в таком человеке, как я, который мог бы заменить ее в деловом отношении. И я тебе скажу, Мануэла, если только мне удастся запустить руку в сейф комендадоры, то за короткое время я стану самым богатым человеком в Бразилии и заткну за пояс самого Коста-Вале. За короткое время… Что ты об этом думаешь? – Я ничего не думаю – это твое дело. – Но ты же моя сестра, неужели ты предполагаешь, чтобы я стал обсуждать свои дела с тетей Эрнестиной? Ну, скажи все-таки, как тебе показалась Алина? Не слишком дурна? – Нет, не так уж дурна. – Она взглянула на брата. – Ты знаешь, что я сказала Шопелу, когда ты вышел? – Нет. Что же ты ему сказала? Шопел тебя очень ценит. – Я сказала, что он, комендадора, ее племянница – вся эта публика – гниль и от нее несет зловонием. Я боюсь, что разложение затронуло и тебя. – Но к чему это? Что тебе сделал Шопел, что тебе плохого сделали комендадора и Алина? – После того, что со мной произошло, Лукас, я не могу выносить этой публики. Когда я вспоминаю, что готова была покончить с собой из-за них (она хотела сказать «из-за тебя», но удержалась, чтобы не огорчить его еще больше), что если бы я не встретила других, настоящих людей, то пропала бы… Лукас воспользовался приходом официанта с блюдами, чтобы скрыть свое смущение. Они в молчании приступили к еде. – У тебя, конечно, есть основания так говорить, – сказал он, положив вилку. – Не отрицаю. Но ты слишком обобщаешь, Мануэла, ты обвиняешь и тех, кто вовсе не виноват. А кроме того, ты делаешь драму из того, что по сути дела не имеет значения… – Ты знаешь, сколько было бы моему сыну, если бы он родился? Он снова замолчал. Возобновила разговор Мануэла: – Как бы там ни было, если ты женишься, я желаю тебе счастья. Хотя мне кажется, что это скорее бизнес, чем брак. – Я не буду тебя уверять, что это безумная любовь. Однако мы понимаем друг друга, ей со мной хорошо: представители золотой молодежи ее пугают. Любовь… Существует ли она вообще, Мануэла? Ты казалась сумасшедшей от любви и, тем не менее, потом все забылось. – Я была сумасшедшей, это верно. Но, Лукас, это была не любовь, а именно сумасшествие. Только потом я узнала, что такое настоящая любовь. Возможно, ее нет в тех кругах, где ты вращаешься… Но вне твоего мира она существует, могу тебя заверить. Мне жаль, что она тебе незнакома, и ты ее никогда, может быть, и не испытаешь… Лукас заинтересовался: – Что же произошло? Расскажи мне… – Я и пришла поужинать с тобой, чтобы все рассказать. Но вышло так, что ты мне первым сказал о своей предстоящей женитьбе, раньше, чем я собралась заговорить о своей… – Ты выходишь замуж? – Да, и выхожу по любви, по настоящей любви. – За кого-нибудь из труппы? За директора? Когда же это произошло? – Нет, он вовсе не артист. За директора? О нет, директор у нас женоненавистник… Я выхожу замуж, как только мой жених выйдет из тюрьмы. – Выйдет из тюрьмы? – удивился Лукас. – Кто же он? – Архитектор Маркос де Соуза… Он арестован… – …как коммунист. Я знаю… – Он насупился. – Этому браку не бывать! Я не согласен. Мануэла подняла глаза на брата: – А я вовсе не спрашивала твоего мнения. Я только сообщила тебе, Лукас. Но поскольку я высказала свое мнение по поводу твоего брака, могу, конечно, выслушать и твое. Скажи, почему, собственно, ты не согласен? Спокойствие девушки вызвало в нем раздражение. Он давно почувствовал, что уже не пользуется у Мануэлы авторитетом. Сейчас он раскаивался: он не должен был с ней резко говорить, так ее не переубедить. Лукас постарался сдержать себя. – Мне это не представляется для тебя хорошим браком. – Почему? – Ты артистка, твое имя начинает приобретать известность. У тебя впереди блестящая карьера. Маркос, со своей стороны, тоже весьма известен. Но его слава забьет твою. – Придумай довод получше, этот слишком глуп. – Но самое плохое, это, конечно, то, что он коммунист. Этим он похоронил себя как архитектор… Никогда и никто больше не даст ему работы! Придется жить впроголодь… И это при том условии, что он не попадет под суд и его не засадят на многие годы. – Пусть даже он растеряет клиентуру, это меня мало трогает. Ведь, в конце концов, я выхожу замуж не за его клиентуру. Однако я хочу тебя заверить, что никакой клиентуры он не потеряет. Как раз его клиенты и прилагают сейчас наибольшие усилия, чтобы добиться его освобождения. Не так-то легко покончить с крупным архитектором, а Маркос – безусловно крупный архитектор. И если даже ему придется провести долгое время в тюрьме, я буду его ждать, потому что я его люблю. Благодарю тебя за интерес, проявляемый к моему будущему, но советов твоих я не приму. – Давай выйдем… – предложил он. – На улице можно поговорить спокойнее. – Хорошо, только дай мне сначала выпить кофе. Лукас ожидал ее с нетерпением. Они сели в небольшой автомобиль, приобретенный Лукасом для езды в Рио, и поехали в Копакабану. Ехали молча. Мануэла вдыхала морской ветерок, думала о Маркосе. Как жаль, что он не мог присутствовать сегодня в театре… Они бы вышли вместе под руку, бродили по улицам и останавливались у парапета на набережной Фламенго, подобно той влюбленной парочке, которую они повстречали еще во время взаимной застенчивости. В конце авениды Атлантика, близ форта Сан-Жоан, Лукас остановил автомобиль. – Мануэла, этот брак – бессмыслица. Зачем тебе путаться с коммунистами, портить себе жизнь? – Путаться с коммунистами? Значит, ты не знаешь, что я сама коммунистка? – Ты? С каких пор? Ты что, уже вступила в партию? – Нет, в партию я пока не вступила: кто я такая, чтобы иметь на это право? Я хочу лишь, чтобы ты понял, что я мыслю так же, как они, и чувствую себя солидарной с ними. Я против всех вас, Лукас. – С каких пор ты стала так думать? – спросил он, узнав с облегчением, что она хоть не ведет активной партийной работы. – С тех пор, как вы меня чуть не убили морально, а они меня спасли. Это они мне подали руку и вытащили из грязи, куда вы меня бросили. – Коммунисты? Ты хочешь сказать, Маркос?.. – Нет… Я хочу сказать – коммунисты. Я только потом познакомилась с Маркосом. – Расскажи мне, как это было. – Нет, я тебе этого не расскажу. Зачем я буду это делать? Достаточно тебе знать, что я на их стороне и что они не портят мне жизнь. Наоборот, если я сейчас могу танцевать и пользоваться успехом в театре, этим я обязана именно им. А не тебе и не твоим друзьям… Снова воцарилось молчание. Лукасу было несколько стыдно прибегать к тем же аргументам, какие он уже однажды использовал в тяжелое для нее время. Но у него не было другого выхода. – Мануэла… – Я слушаю тебя. Лунный свет отражался в воде океана. Она думала о Маркосе. Нужно освободить его из тюрьмы как можно скорее, каждый день без него – потерянный день. Они приходили бы вместе любоваться сиянием луны. – Ты ведь знаешь… Мои дела идут хорошо. Мои успехи и твое искусство – все это заставляет других забыть о нашем происхождении. – Лукас, не станешь же ты отрекаться от наших родителей… – Речь не о том, Мануэла. Ты пойми, ради бога… Твой проклятый брак может разрушить все мои планы. Я уже тебе говорил, что против меня ведется яростная война, чтобы помешать жениться на Алине. Вообрази, если ты выйдешь за Маркоса, это еще один довод против меня; он может меня погубить. Комендадора не выносит Маркоса со времени свадьбы Розиньи. Он отказался тогда заняться декорированием ее дома… – Он это сделал из сочувствия ко мне. Понимаешь? – И Коста-Вале его не выносит. Если все ополчатся против меня… – Но почему против тебя? Ведь не ты же вступаешь с ним в брак… – Не будь наивной. Если ты выйдешь за Маркоса, это испортит мне всю жизнь. – Не думаю… – Она с грустной улыбкой посмотрела на лицо Лукаса, освещенное луной. У него был жалкий вид. – Несмотря на все, я тебя уважаю, ты мне брат, мы вместе выросли, было время, когда ты был для меня всем. И тем не менее я должна сказать правду: даже если мой брак повредит твоей женитьбе, все равно я повенчаюсь с Маркосом. Однажды я принесла тебе в жертву своего ребенка. Это было преступление, Лукас, и я дорого заплатила за него. Сейчас я не намерена чем-либо жертвовать ради тебя. – Мануэла! Можешь ты, по крайней мере, отложить осуществление твоего сумасшедшего плана пока я не женюсь? Ты, таким образом, будешь иметь больше времени для размышлений… – Я уже столько передумала за последние годы… Нет, Лукас, я выйду замуж немедленно. Пусть Маркос еще находится в заключении… Но ты не беспокойся: мой брак не повредит твоему. Не только потому, что ты сумеешь себя защитить, но и потому, что, если уж комендадора тебя выбрала, тебе не угрожает никакая опасность. Тебе кажется, что ты с ней ведешь хитрую игру, а на самом деле она играет тобой… – Мануэла взяла его руку и пожала ее. – Будь счастлив, Лукас, я желаю тебе этого от всей души… Самого большого счастья… – Это твое последнее слово? Она кивнула головой. – Как ты изменилась, Мануэла… – Да, это верно. Ну, а теперь и ты пожелай мне счастья. Отвези меня в отель. Лицо Лукаса было нахмурено; он включил мотор, машина рванулась вперед. Они снова ехали молча. Мануэла думала о Маркосе. Если его в ближайшее время не освободят, она выйдет за него замуж, даже пока он в заключении. Ей хотелось без конца повторять его имя, кричать о своей безграничной радости. На ее лице появилась улыбка. Лукас отвернулся, чтобы не видеть ее. У подъезда отеля он протянул Мануэле руку. – Если я тебе когда-нибудь понадоблюсь… Мануэла ласково сказала: – Спасибо, Лукас. Я уверена, что буду очень счастлива. 14
Восстановление партийных кадров, избежавших последних полицейских репрессий в Сан-Пауло, фактически было закончено. Витор чувствовал себя удовлетворенным, – правда, это была лишь небольшая группа товарищей в самом Сан-Пауло и его окрестностях, но все же теперь можно было снова начать партийную работу, организовав новый набор членов партии. Витор делал ставку на крупные предприятия, железнодорожные узлы, жилые рабочие кварталы. Был создан временный секретариат, пока представится возможность созвать пленум и избрать новый состав руководства районного комитета. Мариана привела в порядок партийную кассу; уже действовали некоторые кружки друзей – с помощью группы сочувствующих она собрала необходимые средства для приобретения небольшого печатного станка и наборных касс. Витор был озабочен вопросом о типографии. Она была крайне нужна для расширения работы, для массовой агитации. Он обратился к товарищам в Баие с просьбой прислать ему рабочего-типографа и вместе с Марианой подыскал дом в Санто-Амаро, где можно было разместить типографию. Из Сантоса поступили дополнительные средства, которые позволили закончить оборудование типографии – эти деньги были собраны по подписке среди грузчиков, докеров и рабочих порта, среди матросов пароходов и буксирных судов. Купили партию бумаги и, пока помещения для типографии еще не было, тщательно припрятали ее. Другой задачей Витора была работа среди крестьян. Она оказалась совершенно запущенной: то, что раньше было достигнуто, ныне развалилось. Товарищ, отвечавший за работу среди крестьян, был арестован в Кампинасе, его должны были судить в Рио. Витор взвесил качества и способности всех работавших в настоящее время товарищей, но никто из них не показался ему подходящим для этой трудной и опасной работы. Ему нужен был человек, хорошо знающий образ мыслей крестьян и проблемы, волнующие батраков, издольщиков, колонов, – человек, который бы умел говорить, как они, походить на них, мог завоевать их доверие и уважение. Партийная работа на фабрике или в рабочем квартале резко отличалась от работы среди крестьян. Витор считал, что даже организационная работа должна быть там особой – нужно приспосабливаться к условиям, существующим и на крупных фазендах, и на небольших плантациях. У него по этому вопросу было много проектов; он с успехом применял некоторые из них в Баие, в Сержипе, в Алагоасе, но в Сан-Пауло не было такого человека, который смог бы осуществлять их здесь. Витор надеялся найти его среди товарищей в провинции – в Сорокабе или в Кампинасе; там были люди, но Витор с ними еще не познакомился. Как раз в это время к партийной работе вернулся один старый активист, рабочий по имени Алфредо. Он был механиком, служил в небольшой авторемонтной мастерской и жил в рабочем квартале Фрегезиа-до-О. Всегда улыбающийся и приветливый, широко известный и всеми уважаемый, он сделал много для того, чтобы поднять популярность и авторитет партии в своем районе. Тюрьмы он избежал, уехав на время в провинцию. Хозяин мастерской, бывший шофер, обещал сохранить за ним место. Квартальная ячейка, секретарем которой он являлся, в его отсутствие распалась, хотя и не была затронута репрессиями. Арестованы были товарищи, проживавшие здесь, но проводившие партийную работу в фабричных ячейках; в таком положении, впрочем, было большинство коммунистов в квартале. Местная же ячейка состояла из служащих мелких учреждений, кустарей и учителя начальной школы. С отъездом Алфредо и в связи с арестами в комитете штата ячейка перестала собираться, вся работа приостановилась. Алфредо по возвращении попытался связаться с Марианой. Но разыскать ее оказалось делом нелегким; Витор умело защищал товарищей и организацию, применяя в партийной работе методы, обеспечивавшие строгую конспирацию и постоянную бдительность. Сам он пользовался двадцатью различными именами и кличками и, по мере того как партийная организация начинала разрастаться, изыскивал все новые способы для обеспечения безопасности. Именно поэтому Алфредо пришлось долго бродить в поисках Марианы и горевать, что не может ее найти. Несмотря на бесспорные успехи, в квартале Фрегезиа-до-О вместе с тем происходило что-то странное: у Витора создалось впечатление, что в их среду затесался ловкий провокатор. Первым ему рассказал об этом учитель начальной школы – он и описал подозрительного человека. Пока Алфредо был в отсутствии, сюда приехал на жительство один рабочий, который вскоре завоевал общие симпатии. Он огромного, поистине гигантского роста, очень приветлив, быстро завязывает со всеми дружбу. Работал он на дальней каменоломне, и труд его был очень тяжел. Однако, возвращаясь к вечеру домой, этот человек, вместо того чтобы отдыхать, принимался за агитационную работу среди жителей квартала. По мнению учителя, великан – звали его Фернандес – сделал за короткое время для революционного дела больше, чем все они за истекшие годы. Он связался и с учителем; они попытались объединить людей, но не в маленькую ячейку, как раньше, а в большую, расширенную за счет включения в нее рабочих, привлеченных Фернандесом. Алфредо почесал в затылке, когда учитель рассказал ему всю эту историю. Он услышал затем и от многих других похвалы великану. Однако все же он не доверял этому человеку и не хотел устанавливать с ним какого-либо контакта; по его мнению, это был провокатор, подосланный полицией. Более чем когда-либо Алфредо нужно было найти Мариану, установить связь с партией. Он не мог, однако, оставаться в бездействии, поджидая, пока представится такой случай, и давая тем временем провокатору возможность безнаказанно действовать в их квартале. Он обсудил это с учителем, высказал ему свои подозрения: – Откуда появился этот тип? Кто может гарантировать, что он действительно работает в каменоломне? Я уверен, что он просто зубы заговаривает. Ясно, что это провокатор, который собирается выдать всех нас полиции. Учитель выразил сомнение. Если он провокатор, то действует мастерски. Ничто не говорит за то, что он полицейский шпик. Почему бы Алфредо не потолковать с ним, прежде чем составить окончательное мнение? – Я не настолько наивен, чтобы лезть в пасть волку. Сообща с товарищами он принял меры предосторожности, отложил воссоздание ячейки из боязни навести этого человека на след. Он обошел всех товарищей, одного за другим, и разъяснил им положение. Некоторые уже были связаны с великаном, но в результате твердой позиции Алфредо перестали с ним встречаться. Даже у учителя зародились сомнения, и он прекратил знакомство с этим Фернандесом. Однако неожиданная враждебность, казалось, не произвела впечатления на великана: он продолжал приходить к ним, завязывал дружбу с рабочими. Алфредо всех предупреждал: «Это провокатор». Время шло, и Алфредо чувствовал себя все более тревожно. Наконец в один прекрасный день Мариана пришла к нему сама. Только недавно она узнала о его возвращении, они назначили встречу. Алфредо хотел рассказать ей о положении дел, но она не согласилась его выслушать. – Ты информируешь об этом другого товарища, ответственного по району. Я тебя свяжу с ним. Его зовут Жоакин. Витор, прежде чем вступить с кем-либо в контакт, всегда предварительно расспрашивал о нем и при встрече уже знал его биографию. То, что он узнал об Алфредо, свидетельствовало, что это, видимо, честный и преданный партии товарищ. Выслушав его, Витор утвердился в своем первом впечатлении: хороший работник, скромный и бдительный. Секретарь ячейки квартала Фрегезиа-до-О сообщил ему о положении. Они не могли ничего делать из-за провокатора, который во что бы то ни стало хотел связаться с партийным комитетом. По мнению Алфредо, он всеми своими разговорами, установлением связей и попыткой воссоздать квартальную ячейку добивается захвата организации и ареста ее активистов. Некоторые поддались ему; однако, к счастью, ничего не рассказали; провокатор ведь появился тогда, когда ячейка перестала действовать. Этот Фернандес особенно опасен именно потому, что по внешности нисколько не похож на шпика и производит впечатление честного человека, искреннего революционера. Витор подробно расспрашивал о деятельности Фернандеса; Алфредо передал ему то, что слышал от учителя и других товарищей. Фернандес даже собирал деньги для помощи семьям арестованных и сам внес сравнительно большую сумму. Где он мог достать деньги, если только не в полиции? Даже если он туже затянул пояс, сокращая свой ежедневный рацион, это не было бы удовлетворительным объяснением: заработная плата рабочего не позволяет такой щедрости. Он явно старался завоевать этим путем доверие товарищей и проникнуть в партию. Витор слушал с интересом, история эта казалась ему странной. Алфредо, несомненно, поступил правильно, проявив бдительность и заботу о безопасности товарищей. Но, с другой стороны, было бы неправильно из-за этих подозрений парализовать всю партийную деятельность, не создать заново ячейку. Кроме того, в манере этого Фернандеса было нечто такое, что не подходило к облику провокатора. Когда Алфредо кончил, Витор спросил: – А ты сам видел этого человека? – Много раз, товарищ Жоакин. Он даже пытался заговаривать со мной, возможно, что-нибудь узнал обо мне. Но я не поддержал разговор. – Каков он из себя? – Ну, как я уже сказал… Обычный маскарад… – Да нет, я не об этом. Как он выглядит? – Это человек средних лет, огромного роста, гигант. Очень загорелый, широколицый. По внешности он симпатичный… способен обмануть кого угодно. У Витора блеснула мысль. Но нет, это невозможно, мертвые не воскресают… Всего вероятнее, что Алфредо прав, речь идет о провокаторе. На всякий случай он задал ему несколько вопросов по поводу внешних примет этого человека. Поразительно, что ответы Алфредо подтверждали ту же нелепую мысль, которая пришла ему на ум. Подтверждали до такой степени, что Витор решил выяснить все до конца. – Пока, товарищ, ничего не предпринимай. Я подумаю об этом. Давай встретимся… Подожди… завтра нельзя, послезавтра тоже… В пятницу… – назначил он. После этого Алфредо ушел. В пятницу Витор ждал его с нетерпением. Алфредо опоздал на несколько минут. Они пошли гулять по тихой улице богатых особняков. Витор вытащил из бумажника маленькую карточку, показал ее Алфредо. – А он, случайно, не похож на этого человека? Алфредо взглянул на любительскую фотографию. – Он самый. Готов поклясться, что это он… Витор улыбнулся; три дня он провел между этой надеждой и опасением, что обманулся, повторяя себе: «Ведь это невероятно: он же погиб!» Алфредо заметил, как сразу изменилось выражение лица руководителя. – Ты его знаешь? Он провокатор? Витор отрицательно покачал головой. – Нет. Это наш друг, он только потерял связь с партией. Послушай, Алфредо, пойди разыщи его. Чтобы убедиться, что он именно тот, о ком я думаю, передай ему привет от падре Антонио. Если услышишь в ответ: «тетя здорова» – значит, это он. Не думаю, чтобы он забыл старый пароль. Если это не он, переведи разговор на другую тему, придумай какую-нибудь историю. Если это он, приведи его ко мне. – Когда? – Завтра же. Завтра суббота, жду к четырем часам. – Туда же, куда и сегодня? – Нет. Лучше в другое место. – И Витор дал ему адрес. – Выучи его наизусть, а потом постарайся забыть и адрес и вообще все, что касается Фернандеса. – Ладно. – Теперь давай поговорим насчет твоей работы… Алфредо, выйдя вечером из мастерской, направился на остановку трамвая, где Фернандес ежедневно сходил, возвращаясь с работы; он снимал на этой улице комнату в домишке бедной рабочей семьи. Алфредо не пришлось долго ждать: около семи часов он заметил, как Фернандес соскочил с трамвая. Он последовал за ним в отдалении и, когда тот остался один, подошел к нему. – Привет от падре Антонио, – прошептал он, идя позади Фернандеса. Великан вздрогнул, будто его ударило электрическим током. Однако ничего не ответил, только остановился. Алфредо продолжал свой путь, словно его необычная фраза была обращена не к Фернандесу. Но великан настиг его и схватил за руку. – Постой! Дай мне вспомнить… Прошло столько времени, я уже забыл. Но ради всего, что тебе дорого, не уходи. Подожди. Кто же это здоров-то, о, господи! Какой-то родственник… Постой… Вспомнил… «Тетя здорова…» – великан облегченно вздохнул. Алфредо сказал: – Ты мне чуть руку не вывихнул. У меня сегодня вечером сверхурочная работа в мастерской. Около девяти приходи поговорить. В девять великан появился. Алфредо был один, он ремонтировал автомобиль – так вечерами он отрабатывал владельцу мастерской те часы, что прогуливал по утрам. Он дружески улыбнулся тому, кто называл себя Фернандесом; чувствовал себя несколько виноватым из-за своих подозрений. Однако они не стали об этом говорить, Алфредо ограничился тем, что назначил встречу на следующий день. – Тебя хочет видеть один товарищ. Фернандес не стал задавать никаких вопросов, несмотря на снедавшее его любопытство. Он предложил свои услуги, чтобы помочь товарищу в работе: – Я кое-что смыслю в этом… – Не нужно. Вообще тебе лучше уйти, а то кто-нибудь может появиться. Выйдя на улицу, великан задумался: как партия отыскала его? Когда он прибыл в Сан-Пауло, у него была явка к Жоану, но он приехал поздно – тот уже был арестован. Как знать, не вернулся ли из долины Доротеу, не расхаживает ли он по Сан-Пауло? Возможно, Доротеу его и увидел здесь случайно, а узнав, послал за ним. Да, должно быть, это Доротеу, ведь помимо него он знал в Сан-Пауло только двух товарищей – Карлоса и Жоана, но они оба сейчас арестованы. Как бы ни было, что бы ни произошло, это означало конец его страданиям. Когда он очутился в Сан-Пауло без всякой связи с партией, то при известии о провале комитета штата и Национального комитета в Рио, он впервые в жизни почувствовал отчаяние. Как можно жить, не поддерживая связи с партией, не ведя политической работы? Он проделал длинный путь, чтобы добраться сюда, по дороге ему удалось приобрести документы, теперь он именовался Мигелом Фернандесом. В Сан-Пауло Гонсало считали мертвым, полиция его не разыскивала. Но какой был для него в этом толк, если по прибытии он прочел в газетах сообщения об арестах и заявление начальника полиции о ликвидации партии? Он, конечно, не поверил этим утверждениям: партия и раньше переживала периоды, не менее трудные, чем нынешний. Но как добиться того, чтобы ее разыскать, чтобы снова приобщиться к работе? Ведь должна была ощущаться огромная нехватка кадров, партии нужны были все активисты, оставшиеся, подобно ему, на свободе. Он собирался отправиться в Баию, где ему было бы легко установить с партией контакт. Но Жоан, от имени руководства, дал ему указание прибыть в Сан-Пауло, здесь его новый пост. Надо было искать партийную организацию, – искать, пока он ее не найдет. Он поселился в рабочем районе; если хорошо искать, рано или поздно ему удастся найти партию, она не могла ведь прекратить существование, когда в городе столько рабочих. Он стал активно ее разыскивать, настолько активно, что даже возбудил подозрения Алфредо. Вначале ему показалось, что партийная организация в Фрегезна-до-О полностью ликвидирована. По мере того как он стал знакомиться с соседями, он узнал жизнь этих людей, услышал об арестах на соседних улицах. Он думал сам воссоздать здесь организацию своими силами, раз ему не удается установить контакт с товарищами по партии. Он завязал отношения с учителем начальной школы, сблизился с другими, собрал деньги для семей арестованных (сам отдал почти весь свой двухнедельный заработок), и дело наладилось. Но вдруг некоторые товарищи стали упорно избегать его. Он понял, что произошло: они ему не доверяли. Это означало, что где-то здесь находилась партия, что она проявила бдительность. Ему хотелось открыться кому-нибудь, – возможно, учителю, – но он не был убежден, что должен поступить именно так. Он продолжал агитацию среди рабочих. Как бы то ни было, это все же работа для партии. Когда, наконец, он найдет партию, когда снова получит возможность вести активную работу в ячейке? Сейчас после встречи с Алфредо у него стало легко на душе. Независимо от того, каким образом его нашли, это был конец многомесячным горестям. Должно быть, это все-таки негр Доротеу: дальнейшее пребывание в долине, видимо, стало для него невозможным. И Жозе Гонсало улыбнулся, вспомнив о негре: никто не играл на губной гармонике лучше, чем этот добрый и молчаливый негр, тяжело переживающий свое горе. Мужественный, замечательный товарищ… Как он его сожмет в объятиях при встрече… Но не его, а Витора встретил он на другой день. Войдя в комнату, где его ожидал руководитель, Жозе Гонсало не смог удержаться от громкого возгласа: – Витор! Они трижды обнялись. Алфредо с некоторым удивлением заметил слезы на глазах великана. Витор тоже был взволнован, они похлопывали друг друга по спине. – Жив, а! Мне это казалось совершенно невозможным… – Они приняли погибшего товарища за меня, а он стоил больше, чем я. Что за товарищ! Какой человек! Алфредо оставил их одних. Витор посоветовал ему никому ничего не говорить о Фернандесе. Надо было вести дальше работу, используя, в частности, и тех людей, с которыми великан установил контакт. – В нашем квартале есть люди очень хорошие, нужно только привлечь их… – сказал Гонсало. Он объяснил затем Витору: – Я решил начать действовать, хоть сам что-нибудь делать, если мне не удалось найти партию. Но меня изолировали… – Решили, что ты провокатор. – Я так и подумал. И даже обрадовался этому: это был признак, что партия не умерла, как я вначале предполагал. Трудность заключалась в том, чтобы найти ее, установить с ней связь. Ты знаешь, Витор, как я страдал эти месяцы. После всех арестов я было подумал, что никогда не найду семьи… – Он сказал «семьи», и так именно он чувствовал, говоря о партии. – Я тебя считал погибшим. Даже на одном собрании произнес траурную речь. – А ты, как ты-то сюда попал? – Меня послали наладить здесь работу. Она было совсем замерла в результате полицейского разгрома. Серьезное дело, старина. Но мало-помалу все приходит в движение. И ты появился как раз в нужный момент. У меня есть задание для тебя. – Какое же? – Сейчас дойдем и до этого. Расскажи мне сначала о событиях в долине. Я о них знаю только частично. Через некоторое время, как только положение здесь немного прояснится, мне придется особо заняться Мато-Гроссо и долиной. Гонсало рассказал о борьбе, происходившей в долине, упомянул о Ньо Висенте, Клаудионоре, Эмилио – о трех героях, погибших во имя создания партийной организации в тех краях. Отметил он и деятельность Нестора. – Храбрый и умный человек. Этот кабокло, если ему помочь, станет крупным крестьянским руководителем. Я тебе рекомендую его. Он – золото. – Далее он рассказал о негре Доротеу, о забастовке рабочих. – Я было под конец чуть не совершил одну глупость, но негр мне не позволил. Он, правда, не слишком красив, но зато какой он чудесный парень. В общем, он задаст американцам; ему вполне можно доверить руководство партийной организацией. – Он не только задаст американцам, но уже задал им хорошую трепку. Ты разве не знаешь, что произошло на празднествах по случаю открытия рудников акционерного общества? Партия ведь опубликовала материалы, где об этом было рассказано. – Ты говоришь так, будто я находился в партийной среде. Со времени отъезда из долины я только сегодня впервые… – Да, верно. Ну, я тебе расскажу… Гонсало слушал с улыбкой на лице, его сердце радостно билось. – Эх, Витор, как я полюбил долину!.. Когда-нибудь я вернусь туда. Во всяком случае, когда настанет час выбросить оттуда этих гринго, я непременно хочу быть там. Чтобы отомстить за Ньо Висенте, Эмилио, Клаудионора. Чтобы завершить то, что мы начали… – А почему бы и нет? Такой день безусловно наступит… Но сейчас ты останешься в Сан-Пауло. Знаешь, что я тебе хочу поручить? – Что? – Руководство работой среди крестьян. Надо все начинать сначала; то немногое, что здесь было достигнуто, – утрачено в результате репрессий. Я тебя свяжу с некоторыми людьми… – Нельзя ли вызвать сюда и Нестора? – Что ж, неплохая идея. Надо будет обсудить с товарищами из секретариата. И насчет тебя также. Думаю, что они, конечно, согласятся. Мы как раз подыскивали руководителя для этой работы. А когда будем посылать кого-нибудь в долину, вызовем и Нестора. Думаю, что районный комитет Мато-Гроссо возражать не станет. Они закончили беседу. Зажглись уличные фонари, наступил вечер. Перед тем, как еще раз обняться на прощание, Витор сказал: – Когда распространилась весть, что ты погиб, негр Балдуино сложил о тебе песню; ее до сих пор поют в порту Баии. Дай-ка я попробую ее вспомнить. Вот послушай: Эти гринго-кровопийцы, Все сплавляя за границу, Грабят наш бразильский люд, Все семь шкур с него дерут. Эти подлые собаки С полицейскими, во мраке, Под прикрытием тумана Застрелили Гонсалана. – Теперь мне лучше вообще не показываться в Баие… – Постой, ведь это еще не конец! Жадной стаей, хищной сворой Нападали эти воры; Не страшась, Гонсало смело Крикнул шайке оголтелой: «Все равно грядет свобода Для бразильского народа!» Так он крикнул, умирая, Чужестранцев проклиная. У Гонсало стояли слезы на глазах, Витор обнял его. – Вот видишь? На нас ложится большая ответственность, старина. За такую песню, родившуюся в гуще народной, мы должны отплатить тем, чтобы работать не покладая рук. Чтобы гринго убрались вон!.. 15
Маркоса выпустили на свободу в середине сентября, и меньше чем через две недели состоялась свадьба. Он все же успел попасть на спектакль балетной труппы, и в тот вечер Мануэла превзошла саму себя: радостью сверкал ее танец, и в театре, казалось, был праздник. Маркоса не привлекли к суду, несмотря на все старания полиции. Друзья его сумели воспрепятствовать этому и добились его освобождения. Маркоса выпустили на рассвете; шел сильный дождь. Из тюрьмы его сначала отвезли в полицию, где один из инспекторов охраны политического и социального порядка объявил ему приказ об освобождении. Однако при этом предупредил, что он будет немедленно арестован снова при малейшей попытке «восстановить ликвидированную коммунистическую партию или какую-нибудь другую группировку подрывного характера». Архитектор остановил первое попавшееся такси и велел ехать прямо в отель, где обычно останавливался. Он снял там номер и сразу же позвонил в гостиницу Мануэле. Полчаса спустя он уже гулял с ней под проливным дождем. Они обсуждали, кого пригласить на свадьбу; Мануэла пожелала, чтобы свидетельницей у нее была Мариана. – Возможно ли это, Маркос? – Я выясню в Сан-Пауло. Я туда отправлюсь завтра с первым же самолетом. Через два-три дня вернусь. – Я танцую в воскресенье. Ты вернешься к этому времени? Они проговорили чуть ли не до утра. Маркос хотел убедить ее продлить контракт с труппой, поехать на гастроли в Соединенные Штаты. Однако у Мануэлы были свои планы. – Послушай, Маркос: у нас в Бразилии, несмотря на богатство нашего народного танца, несмотря на талантливость народа, – все же нет балета. Я знаю по себе, с какими трудностями сталкивается тот, у кого есть призвание к танцам. Кончается обычно тем, что такой человек оказывается в варьете и танцует танго… Я могу поступить двояко: или гастролировать с труппой, лишь изредка бывая в Бразилии во время балетного сезона, или, – а это то, что я и собираюсь сделать, – остаться здесь, открыть балетную школу, а затем попытаться организовать труппу. И найти композиторов, убедить их написать бразильский балет по мотивам нашего народного танца. Ты не думал, какой замечательный балет может дать макумба? Вот, что я хочу организовать и в чем очень рассчитываю на твою помощь. Знаешь, что меня навело на эту мысль? Ты даже не представляешь себе! Я присутствовала в Мексике на демонстрации документальных фильмов об ансамблях народного танца в России. Какое великолепие, Маркос! Какая красота! – Я не хочу, чтобы из-за меня ты загубила свою карьеру. – И ты называешь это загубленной карьерой? Неужели ты не видишь, что я права, что это действительно лучшее, что я могу создать? У меня столько планов, Маркос… Я тебя буду так эксплуатировать… – И она поцеловала его. В Сан-Пауло Маркос встретился с Витором. Его первое впечатление от нового политического секретаря районного комитета было не вполне благоприятным. Он привык к Руйво и Жоану и его поразила резкость Витора. Первые минуты беседы были напряженными. Витор сказал ему сразу же, как только вошел: – Теперь вы, товарищ, – член партии, нужно отнестись к делу серьезно. Насколько я знаю, идеологически вы еще недостаточно подготовлены. Это, между прочим, можно было понять, читая ваш журнал. Учиться, товарищ, многому учиться – вот что вам нужно. – В конце концов, я все-таки грамотный… – ответил Маркос, раздосадованный таким началом беседы. – Крупный архитектор… – заметил Витор. – Крупнейший бразильский архитектор, не так ли? Но, мой дорогой, ваша культура ничего не стоит, если она не пронизана марксистской теорией. Вы можете быть самым выдающимся архитектором, но для меня вы станете им только тогда, когда овладеете теорией марксизма. Только тогда вы окажетесь в состоянии полностью развернуть свой талант… Однако по мере развития беседы раздражение Маркоса стало исчезать. Точно так же смягчилась и суровость Витора, изменились и его грубоватые манеры. Маркос рассказал ему о тюрьме, о товарищах, об их настроениях. Витор вспоминал своих знакомых, оказавшихся в тюрьме; интересовался, как они проводят занятия. Затем они снова вернулись к проблемам культуры, и Маркос неожиданно оказался вовлеченным в дискуссию. Раньше всего его подкупила культура и эрудиция руководителя. Он казался информированным обо всем, будто прочел все книги. Мог говорить о чем угодно, – например, вспомнили об Эрмесе Резенде, и Витор несколькими меткими замечаниями развенчал весь его «социологический» труд. Они поговорили даже об архитектуре, и Витор критиковал Корбюзье. «Где он мог все это изучить?» – спрашивал себя Маркос. Руководитель улыбнулся, положив ему руку на плечо. – Будем друзьями… Не обращайте внимания на мою грубость: это влияние малокультурной среды. Я простой сертанежо, отпугиваю людей. – Маркос тоже улыбнулся, как бы соглашаясь с ним. – Я сам знаю, что это так. Вы можете мне подсказывать, даже должны это делать: это поможет мне исправиться. Ведь это недостаток, и крупный. Резкости у меня хоть отбавляй, и бывает, я часто незаслуженно обижаю людей. Для активиста партии – это серьезный минус, он мешает в работе. Я стараюсь измениться, понемногу выправляюсь, но, видно, это заложено у меня в натуре. Я родился в каатинге и сам колючий, как кактус. Мне нужно еще немало поработать над собой в этом направлении, и я рассчитываю на вашу помощь. Эти искренние слова Витора вызвали на откровенность и Маркоса: он заговорил о своих личных делах. – Я на днях женюсь и мне нужно в связи с этим спросить вас кое о чем… – Женитесь? А мне говорили, что вы убежденный холостяк… Мариана считает это вашим единственным недостатком… – Как раз насчет Марианы я и хотел с вами поговорить. Девушка, на которой я женюсь, знакома с Марианой, они подруги. – А, эта балерина? Поздравляю. Говорят, у нее большой талант. По рассказам Марианы, она хороший человек. Я знаю историю с деньгами, которые она нам послала. – Ну, раз вы знаете, кто она, прежде чем говорить о Мариане, я поставлю перед вами другой вопрос. – И он рассказал о проектах Мануэлы, о ее намерении оставить труппу, основать балетную школу и попытаться создать национальный балет. – Она безусловно права! – воскликнул Витор, когда Маркос закончил. – Это как раз то, что нам нужно… Она на правильном пути, нужно лишь ею руководить, чтобы она не впала в этакую живописность, лишенную содержания, в искажение фольклора. Знаете, что вы должны сделать? Свезти ее в Баию, чтобы она почувствовала народные ритмы, побывала на народных праздниках и увидела там настоящие негритянские танцы. Почему бы вам не провести медовый месяц в Баие? – Я не могу сейчас уехать, у меня запущены дела, просрочены все договоры. Возможно, в декабре… – Поезжайте, как только вам удастся выбраться. Идея вашей невесты отличная. – Теперь еще насчет Марианы… – А что такое? – Мы бы хотели, чтобы она была у нас на свадьбе свидетельницей. Как вы думаете, может она появиться на бракосочетании, подписать свое имя, не опасно это для нее? – Нет, почему же? Вы хотите венчаться здесь? – Да. Здесь у меня друзья, дед и бабушка Мануэлы, ее тетка. Потом я поеду в Рио, у меня там крупная постройка. Об этом я, прежде чем прийти сюда, уже говорил с товарищами. – Сколько времени вы пробудете в Рио? – С полгода, может быть, и больше. Но каждую неделю, и уж во всяком случае раза два-три в месяц, буду приезжать в Сан-Пауло. – Хорошо. В таком случае я тоже хочу поговорить с вами о Мариане. Вы ведь поселитесь там, не так ли? – В Рио? Я думаю снять там квартиру. – Так вот, не могла ли бы Мариана у вас погостить? Она очень переутомлена, у нее ослаблен организм, она все время болеет гриппом. Дела здесь сейчас идут лучше, и мы решили заставить ее немного отдохнуть. Кроме того, ей нужно будет повидаться с Жоаном до суда и неизбежной высылки на Фернандо-де-Норонья. Мы уже обсуждали этот вопрос в секретариате, и вот раздумываем, как бы все это устроить. Если вы сможете принять ее к себе на месяц, на два, было бы замечательно. – Конечно, для Мануэлы это будет большой радостью. Надеюсь, Мариана поедет с мальчиком, не так ли? – Конечно. – Отлично. Мы поженимся еще в этом месяце, и в первых числах октября будем ждать Мариану в Рио. – Когда я буду в Рио, и я остановлюсь у вас, чтобы потолковать с вами об архитектуре и с Мануэлей о балете. Но, мой дорогой, будьте уверены в одном: если вы не изучите как следует труды Ленина и Сталина, вы не сможете помочь жене… К следующему разу, когда мы увидимся, я подготовлю программу ваших занятий. Идет? Свадьба носила чрезвычайно скромный характер. Мануэла накануне приехала из Рио, остановилась на квартире у дедушки и бабушки. Тетя Эрнестина посматривала на нее с недоверием, шептала молитвы. Назавтра в час дня все собрались на брачную церемонию. Пришли товарищи Маркоса по работе, доктор Сабино, семья Мануэлы, – всего человек десять. Мариана приехала вместе с Маркосом; она была одета в новое платье, на голове – голубой берет. Мануэла поцеловала ее, нашла похудевшей и очень утомленной. Церемония прошла быстро, чиновник произнес небольшую речь, в которой воздал должное жениху и невесте. По окончании церемонии Мануэла напомнила Мариане: – Мы тебя ждем на следующей неделе с малышом. После регистрации брака они направились прямо на аэродром. В тот момент, когда молодые выходили, чтобы сесть в автомобиль, появился Лукас Пуччини, принося извинения за опоздание: – Я был на завтраке у Коста-Вале и никак не мог раньше выбраться. – И он преподнес Мануэле бриллиантовое кольцо. В автомобиле она отдала кольцо Маркосу. – Ты знаешь, что с ним сделать, не так ли? – Для партии? – Для нашей партии… Могу я так сказать или нет? Ведь это – твоя партия, партия Марианы… Маркос обнял ее, машина остановилась на перекрестке улиц, прохожие с улыбкой смотрели на целующуюся в автомобиле пару. 16
В середине октября трибунал национальной безопасности начал слушание процессов арестованных несколько месяцев назад коммунистов. Некоторые члены национального руководства партии были осуждены на пятьдесят с лишним лет каждый «по совокупности наказаний». Стремясь дискредитировать партию перед массами, ее руководителей обвиняли в уголовных преступлениях: убийствах, покушениях, грабежах – во всем, что только приходило в голову следователям и прокурорам. Газеты публиковали пространные отчеты, в которых Престес изображался как главный виновник всех этих вымышленных зверств. Как правило, суды проводились в отсутствие обвиняемых. «Перевозка заключенных чрезвычайно опасна», – заявляла полиция. Публика не допускалась в залы трибунала, о приговорах узнавали лишь по сообщениям, публиковавшимся на первых полосах газет. Клеветническая кампания в печати и по радио достигла своего апогея: нападки на Престеса, которого расписывали как чудовище, носили самый грубый характер. Наряду с этим всячески восхвалялись энергичные действия полиции, «вырвавшей из почвы родины сорную траву коммунизма», как написал в своей статье поэт Шопел. Суд над Престесом должен был, по выражению одной из газет, «закрыть золотым ключом победоносную кампанию по ликвидации влияния коммунистических организаций в стране». Мариана, гостившая в Рио у Маркоса и Мануэлы, каждую среду ходила в тюрьму на свидание с Жоаном и брала туда с собой сына. Ребенок радостно бегал по помещению, где происходили эти свидания; возвращаясь, Мариана приносила известия об арестованных. Руйво стал немного поправляться. Когда его перевозили в Рио, состояние больного было исключительно тяжелым; опасались за его жизнь. Теперь ему стало несколько лучше. Олга последовала за ним в Рио, носила ему лекарства и медикаменты для инъекций, ходила по адвокатам, стараясь добиться, чтобы после суда он остался отбывать заключение в тюремной больнице, вместо отправки на Фернандо-де-Норонья. Маркос собирал среди сочувствующих интеллигентов деньги, чтобы помочь защите заключенных. Процесс сан-пауловских коммунистов был начат раньше намеченной даты. В последнюю среду адвокат Жоана, весьма энергичный молодой юрист, сказал ему, что суд состоится в конце ноября: трибунал занят подготовкой нового процесса Престеса. И вот удар: сообщение на первых полосах утренних газет, напечатанное крупным шрифтом. У Марианы подкосились ноги, она упала на диван с газетой в руке. Она обычно вставала раньше, чем супруги, приготавливала завтрак для ребенка, читала газеты, ожидая Маркоса и Мануэлу, чтобы вместе с ними выпить кофе. Там было написано: «Агиналдо Пенья приговорен к восьми годам тюрьмы». Это было тяжелое наказание, лишь Освалдо должен был отбыть в общей сложности тринадцать лет – семь по этому приговору и шесть по предыдущему, вынесенному на процессе забастовщиков Сантоса. Руйво был приговорен к пяти годам: адвокат использовал для защиты факт его болезни и то обстоятельство, что он некоторое время пробыл в санатории, – этим с него снималась ответственность за события того периода. Судья (единственный юрист, согласившийся войти в состав этого чрезвычайного трибунала, сформированного из людей, не имеющих отношения к юстиции) рассмеялся: – Этому больше полгода не протянуть. К нему можно проявить великодушие… Остальные приговоры колебались от шести месяцев до шести лет, ни один из обвиняемых не был оправдан. Даже Сисеро д'Алмейда был приговорен к десяти месяцам тюрьмы, несмотря на то, что его брат нанял для защиты двух видных адвокатов и обращался ко всем за поддержкой, добиваясь оправдания Сисеро. Сисеро находился в Монтевидео, он вовремя скрылся, и теперь в Уругвае и в Аргентине участвовал в кампании солидарности с Престесом и другими бразильскими политическими заключенными. Когда Маркос, насвистывая самбу, появился в комнате, он увидел Мариану, смотревшую на газету каким-то отсутствующим взглядом. Ребенок играл с плюшевым медвежонком – подарком Мануэлы. Мариана даже не поздоровалась. Архитектор подошел к ней. – Что-нибудь случилось, Мариана? Только тогда она его заметила. – Жоану – восемь лет. – Что? Она протянула ему газету, встала и вышла на балкон двенадцатого этажа, на котором была расположена квартира Маркоса. Отсюда виднелись просторы океана. Эти просторы Жоану предстояло пересечь в грязном трюме парохода, направляющегося к острову Фернандо-де-Норонья. Они не будут видеться многие годы: оттуда редко приходят известия; проходящие мимо пароходы только случайно пристают к этому острову – затерявшейся точке между Бразилией и Африкой, – такому одинокому среди океана. Мариана вдруг почувствовала себя опустошенной, будто у нее вырвали сердце. Маркос остановился возле нее, молча взял ее руку, сжал в своих руках. – Мужайся, Мариана. Такова наша борьба… Она ответила не сразу. Глаза ее смотрели на океан – далеко-далеко отсюда был остров Фернандо-де-Норонья, пустынный и бесплодный, – многие оттуда так и не вернулись. Она оторвалась от этих видений, повернулась к Маркосу. – Я это отлично знаю… Но я не ожидала этого сегодня. Конечно, я никогда и не думала, что он будет оправдан. Еще на последнем свидании он мне сказал, что рассчитывает получить от шести до десяти лет. Как он угадал – дали восемь. Но известие это обрушилось на меня сейчас так неожиданно, не успела я развернуть газету. Адвокат думал, что суд состоится в конце будущего месяца. Я просто ошеломлена… – Скоты!.. – выругался Маркос. – Придет день, и эти субъекты из трибунала безопасности ответят за все. Мануэла из столовой звала их пить кофе. – Вы хотите меня уморить голодом? – Пойдем, Маркос… – сказала Мариана с дрожью в голосе. Мануэла взяла на руки ребенка, приласкала его. Она проводила значительную часть дня, играя с мальчиком; они переворачивали вверх дном всю квартиру. Мануэла грозила, что отнимет у Марианы сына и сейчас, по обыкновению шутя, повторила: – Я оставлю его себе. – Но тут же, заметив грустное лицо подруги, спросила: – Что с тобой? Маркос ответил за нее сдавленным голосом: – Жоана приговорили к восьми годам. Мануэла прижала к себе ребенка, слезы полились из ее прекрасных голубых глаз. – Мариана, милая моя… Печальным был этот утренний завтрак. Мануэла отодвинула чашку, она не могла ничего есть. Держа мальчика на руках, она продолжала ласкать его. Маркос вернулся к себе, чтобы переодеться. Мариана решила выйти вместе с ним. – Я пойду к адвокату. Он, наверное, отправится в тюрьму сообщить приговор. Я поеду с ним: может быть, мне разрешат поговорить с Жоаном. Вернулась она уже не такой удрученной. Ей удалось вместе с адвокатом попасть в тюрьму, она разговаривала с Жоаном. Теперь она уже не чувствовала себя такой опустошенной, она снова обрела равновесие и была готова перенести эту долгую разлуку. Жоан ей сказал: – Я вернусь к тебе гораздо раньше, чем пройдет восемь лет… – И, сжав руку, добавил: – Ты с товарищами вытащишь нас из тюрьмы. Это было как раз то, о чем Мариана говорила Мануэле: Жоан никогда не терял присутствия духа, он видел завтрашний день. Мариана во время свидания сказала ему о своем желании как можно скорее вернуться к партийным обязанностям. Теперь, когда он был осужден, только на партийной работе она будет чувствовать себя тесно связанной с ним, словно океану не суждено разъединить их. Только так, вместе с партией, она будет бороться за его освобождение. Она просила Жоана разрешить ей немедленно вернуться к активной деятельности. Но Жоан не согласился. – Ты еще слишком слаба, – сказал он. – Подожди, по крайней мере, месяц; питайся, отдыхай, набирайся сил. Не такое ли задание тебе дали товарищи? Ты помнишь, когда заболел Руйво? Как мы тогда рассуждали? Если ты сейчас не отдохнешь, то потом не вынесешь напряженной работы, сорвешься, заболеешь и вместо того, чтобы помочь товарищам, только обременишь их. – Но партийная работа поможет мне перенести разлуку… – Знаю, и мне это поможет. Но ты коммунистка, Мариана, и не имеешь права приходить в отчаяние от этого приговора. Ты здесь в Рио для того, чтобы набраться сил. И сделать это нужно с той же сознательностью, с какой ты выполняешь все другие задания. Используй время для чтения, чаще общайся с Маркосом: он может научить тебя многому. И, пока я буду здесь, приходи меня навещать. Приводи нашего сына… Мариана рассказала об этом разговоре Мануэле; балерина обрадовалась: – Я не отпущу тебя отсюда до тех пор, пока ты не станешь здоровой, толстушкой. Ни тебя, ни Луизиньо. Вернулся Маркос. Он не завтракал в центре, как это обычно делал, – хотел узнать, как себя чувствует Мариана. Предложил пойти всем в кино, чтобы отвлечься, но Мариана не захотела. – Спасибо, Маркос, ты обо мне не беспокойся. Я возьму себя в руки, – улыбнулась она с грустью. – Достаточно мне было повидать Жоана, и он меня вылечил. Лучше всего я буду заниматься. – Ну что ж, хорошо, – согласился Маркос. – Я верю, что ты скоро придешь в себя. В таком случае я опять поеду на постройку. Вечером втроем они вышли прогуляться по набережной. Говорили о самых различных вещах, но все трое думали о Жоане, Руйво, Освалдо и других осужденных товарищах. Мануэла замечала время от времени тень грусти в глазах Марианы, устремленных на просторы океана, волны которого разбивались о прибрежный песок. «Как отвлечь ее от тяжелых мыслей?» – спрашивала она себя. Когда они вернулись, Маркос прошел в кабинет; ему надо было закончить работу. Мануэла осталась с Марианой. – Ты ведь никогда не видела, как я танцую, Мариана… – Никогда… – улыбнулась Мариана. – По правде сказать, я знаю балет только по кинофильмам. В театре я его никогда не видела. – Тогда сегодня я дам спектакль только для тебя одной. Давай приготовим сцену… – Она сдвинула в сторону стулья и столы, выбрала пластинки для радиолы. – Я переоденусь и тотчас вернусь. Мануэла загримировалась и оделась, как для настоящего спектакля. Она появилась в полумраке залы, воздушная и прекрасная. Раздалась музыка «Лебединого озера», Мануэла начала свой танец, Маркос вышел из кабинета и остановился в дверях. Сидя в кресле с влажными от волнения глазами, Мариана улыбалась. Музыка, подобно бальзаму, успокаивала ее страдающее сердце. Из легких, прекрасных и смелых движений Мануэлы как бы исходила уверенность в счастливом завтрашнем дне. «Настанет день, – думала Мариана, – вернется Жоан, мы будем вместе работать, вместе строить такой же гармоничный и чистый мир, как эта музыка, как этот танец. Чтобы завоевать этот мир, чтобы заложить его прочный фундамент, стоит вынести все, даже разлуку, еще более долгую и еще более печальную. Да, стоит вынести все, чтобы построить этот мир, полный любви, красоты и радости, наполненный всем тем, что Мануэла выразила в своем танце». 17
Когда, сходя с трамваев, при еще неясном свете раннего утра, рабочие заметили красные флажки на электрических проводах, улыбка заиграла у них на лицах, и они стали подталкивать друг друга локтями. Были даже такие, что останавливались, чтобы лучше разглядеть флажки; другие замедляли шаг; кто-то прошептал: – Я же говорил, что никто не в состоянии с ними покончить… Их было немного, этих маленьких флажков из красной бумаги, раскачивавшихся под порывами утреннего ветерка: они висели, зацепившись за электрические провода, заброшенные туда ночью, вероятно, теми же людьми, которые на стене банка, немного поодаль от этого места, сделали надпись: «Амнистию Престесу! Долой Варгаса!» Небольшое это дело, конечно, но какое огромное значение оно имело для рабочих, сошедших с трамваев в это октябрьское утро! Полиция не замедлит явиться, чтобы сорвать флажки, чтобы стереть надпись на стене банка. Но новость уже обежала фабрики и заводы, предприятия и учреждения. Она распространилась и по предместьям, далеко за пределы Сан-Пауло ее занесли шоферы грузовиков и автобусов: партия жива; ложь,– что она окончательно ликвидирована! Целые группы рабочих – их становилось все больше и больше – видели флажки на проводах, читали лозунг на стене, написанный этой ночью. Воодушевление овладевало, казалось, самыми различными группами людей: слышались оживленные замечания, лица становились радостными. А красные флажки весело развевались на ветру не только на площади да Сэ. Флажки и надписи появились и перед крупными фабриками и заводами в Сан-Пауло и его пригородах, свидетельствуя, что партия продолжает существовать. К вечеру того же дня в различных пунктах города были разбросаны листовки, разоблачающие политику правительства, которое заключает в тюрьмы лучших сынов рабочего класса, обрекает народ на голод и продает страну иностранным империалистам – американцам и немцам. Эти листовки были подписаны Сан-пауловским районным комитетом коммунистической партии, и трудящиеся самых различных профессий, интеллигенция, простые люди тайком читали их. Полицейские машины с воющими сиренами снова стали проноситься по улицам, не обращая внимания на знаки, регулирующие движение. Неизвестно откуда появившиеся листовки распространялись на фабриках и заводах. И с ними распространялась радость, с ними возрождалась надежда. К концу этого дня, когда работа на предприятиях уже закончилась, старый рабочий с седой головой и усталыми глазами толкнул дверь маленькой лачуги в предместье города. В единственной комнате, на голой кровати без матраца, лежала исхудавшая больная. Она была такой же старой, как и муж, щеки у нее ввалились, глаза были воспалены. По временам из ее уст вырывался легкий стон. Рядом с койкой на пустом бидоне из-под керосина стояли пузырьки с лекарствами. Рабочий вошел в комнату, нагнулся над больной, взял ее горячую от жара руку. – Ну, как ты себя чувствуешь? – Все так же… – прошептала она. Она попробовала подняться, опираясь на локоть, но старик не позволил: – Оставь, я все сделаю сам… Она попыталась улыбнуться. – Еда в шкафу, надо только разогреть. Но муж не сразу вышел из комнаты. Он сел на край постели, расстегнул рваный пиджак и, сунув руку под рубашку, вытащил печатную листовку. Жена подняла голову, чтобы лучше видеть. – Что это? – Послушай: «Сан-пауловский районный комитет Коммунистической партии Бразилии обращается к рабочим и крестьянам…» – Я знала… я знала… – прошептала больная, снова опуская голову на дощатое изголовье. – Я знала, что они работают. Тяжело было думать, что все кончено. – Она закрыла глаза, и на ее худом лице появилось выражение удовлетворения. Старик продолжал читать, его руки дрожали, настолько он был взволнован. Никогда ни он, ни его жена не были коммунистами. Но почти два десятилетия, с тех пор как в 1922 году была основана партия, они следовали ее указаниям, давали деньги в фонд МОПР, под ее руководством боролись за лучшие условия жизни; в их лачуге скрывались партийные активисты в те времена, когда партия подвергалась свирепым репрессиям. Как и многие другие на фабриках и фазендах, они прочли заявление начальника полиции Рио о мнимом уничтожении партии, знали об аресте членов ее национального руководства и людей, которые были им знакомы по комитету штата Сан-Пауло: Руйво, Жоана, Освалдо. Они видели, что всякая деятельность партии прекратилась и, подобно многим другим, какое-то время думали, что, может быть, и правда – всему конец. Старик кончил читать и сказал: – Я видел красные флажки на проводах, это так красиво… Больная открыла глаза. – Я хочу поправиться… Теперь, когда они вернулись, стоит жить. В других бесчисленных лачугах, в бедных хижинах, где нехватало еды, тот же свет надежды возрождался во взволнованных словах рабочего, рассказывавшего о надписях и флажках или читавшего огненные призывы листовки. Снова партия с ними, она для них, как яркий свет в конце узкого и мрачного туннеля. 18
Португалец Рамиро посмотрел на исхудавшее лицо товарища Витора. В его взоре сквозило восхищение и горячая привязанность. Витор, размахивая руками, попытался разогнать дым от сигарет, выкуренных только что ушедшими. Это была маленькая комната с закрытыми окнами, и Витор, который вообще не курил, ворчал: – Надымили хуже заводской трубы. Не знаю, что только хорошего находят в курении… Рамиро смеялся: – Надеюсь, ты не объявишь декрет о запрещении табака в партии? Мы потеряем тогда много хороших людей. Витор тоже рассмеялся: – Нет, это никому не угрожает. – И серьезным тоном сказал: – Ну, как там, говори! Рамиро стал рассказывать о том, какое впечатление произвели первые проявления публичной деятельности нового комитета: флажки, надписи на стенах, листовки. – Товарищи с завода «Нитро-кимика» говорят, что они никогда не видели рабочих такими довольными. Ведь многие думали, что партия ликвидирована. – Улыбка расплылась на его лице. – Любовь, которую трудящиеся питают к партии, воодушевляет нас. Даже люди, которые как будто не имеют с нами ничего общего и соприкасаются с партией только в случае забастовки или какого-нибудь другого массового движения, и те проявляют свою радость. Листовки сегодня обсуждались, передавались из рук в руки. Витор интересовался подробностями: ему нужны были конкретные факты, пусть даже мелкие, которым другие не придавали бы значения. – Здешняя полиция появилась в Санто-Андре, шарит там по фабрикам. Но люди настроены так, что никто не испугался. Знаешь, Витор, я теперь начинаю осознавать то, что ты всегда говоришь: да, мы можем организовать здесь большую, массовую партию. Правда, до сих пор я не понимал этого толком, я был далек от масс, замкнувшись внутри партийной организации… – Да, мы замкнулись, отдалились от масс. Товарищи, стремясь обеспечить безопасность организации, уж слишком глубоко ушли в подполье. Вот и получилось… – Мы так долго не выходили на улицу, – заметил португалец, – что люди действительно могли поверить слухам о ликвидации партии. Витор покачал головой. – Ты неправ. Это был необходимый этап: надо было заново сколотить костяк организации, прежде чем начать снова агитацию. Какой толк выходить на улицу, не создав руководства партии, не имея организованных низовых ячеек? Я понимаю нетерпение некоторых товарищей. Но было бы неправильно ускорять ход событий. Мы действовали именно так, как надо. И теперь не следует увлекаться. Не думай, что мы будем тратить время только на то, чтобы забрасывать флажки на провода и делать надписи на улицах. Гораздо важнее укреплять партию, создавать ячейки на предприятиях, вербовать и воспитывать кадры, готовиться к предстоящей борьбе. Рамиро внимательно слушал. За эти месяцы он крепко привязался к Витору, чувствовал все большее восхищение перед своим руководителем. Он часто вспоминал, как они были подавлены, до того как Витор прибыл из Баии и начал работу по восстановлению партийной организации штата. Не так давно они собрали, наконец, пленум, избрали новый комитет. В течение трех дней обсуждали предстоящие задачи и методы их осуществления. Рамиро, избранный в состав руководства, не скрывал своей радости. Всего каких-нибудь несколько месяцев назад положение казалось ему безнадежным. Он вспомнил свою первую встречу с Марианой после провала прежнего состава секретариата, ареста десятков товарищей, почти полной ликвидации низовых партийных ячеек. В тот час заявление начальника полиции приобретало, казалось, трагическую реальность. Даже Мариана, всегда полная такого воодушевления, потеряла было на мгновение присутствие духа, да и сам он, споривший с ней, не очень-то был уверен в том, что удастся снова поднять организацию, так сильно пострадавшую от ударов полиции. Когда прибыл Витор, он, Мариана и немногие другие действовавшие члены партии были в подавленном состоянии и занимались лишь мелкими текущими вопросами, не решаясь взяться за восстановление партийного аппарата. Вся деятельность партии сводилась к печатанию на ротаторе нескольких сот листовок, распространявшихся почти исключительно среди активистов и их семей. Витор подтолкнул их вперед, к смелой, терпеливой и настойчивой работе, и Рамиро отдавал себе теперь отчет в том, сколь многому он научился у руководителя за эти месяцы. Они заново создали важнейшие ячейки, завербовали новых членов партии, восстановили комитеты в наиболее значительных городах штата, вновь занялись работой среди крестьян. Пленум показал, насколько продвинулась партия, теперь у них уже был избран комитет, руководители, облеченные доверием товарищей. Многое еще, конечно, надо было сделать, да к тому же и планы у Витора были весьма широкие. Но уже сейчас партия вновь появилась на улицах Сан-Пауло, рабочие на фабриках и заводах узнали, что она продолжает существовать, газеты заговорили о «красных агитаторах». Рамиро был вне себя от радости, когда рассказывал Витору все эти подробности. Лицо руководителя, исхудавшее и усталое, воодушевлялось, когда португалец с таким энтузиазмом рассказывал ему обо всем этом. Затем Витор дал ему конкретные указания, как продолжать работу, проанализировал условия, наметил пути, по которым следовало идти дальше. Его голос, обычно грубоватый, стал мягким, когда он сказал: – Знаешь, Рамиро, что действительно важно? Это верить в рабочий класс, в трудящихся. Когда мы оцениваем наши силы, нельзя забывать, что мы – партия пролетариата, партия всех рабочих, даже тех, которые еще не выступают активно вместе с нами. Не переоценивать своих сил, быть смелыми и в то же время уравновешенными – наша задача. – Он на миг замолчал. – Нелегко все это, знаю. Надо не опьяняться успехами, но и не пугаться трудностей. Нелегко, но мы должны суметь вести партию вперед. – Какое качество, по-твоему, более всего необходимо коммунисту, чтобы верно служить партии и революции? – Не одно, ряд качеств… – ответил Витор. – Целый ряд… Коммунист должен изо дня в день учиться, коммунисту нужно мужество, честность, прямодушие, живость ума, столько всего… – Он посмотрел на португальца, и его усталые глаза приняли мечтательный вид. – Но есть одно, что особенно важно. Товарищ Сталин учил нас, что самым драгоценным капиталом является человек. У коммуниста, Рамиро, сердце должно быть преисполнено любви к людям. Я знал таких, кто пришел в партию с сердцем, полным ненависти к жизни и к людям, ненависть была единственным чувством, которое привело их к нам. Но ни один из них не оставался долго в партии. Я признаю только одну ненависть – ненависть класса, ненависть к эксплуататорам. Но даже эта ненависть содержит в себе любовь к эксплуатируемым, понимаешь? Любить людей, иметь сердце, способное понимать других, уважать их, помогать им. Важнейшее качество коммуниста? Это его любовь к народу, Рамиро, – в чем наша задача, как не строить счастливую жизнь для людей? – и любовь к Советскому Союзу, где такая жизнь уже стала действительностью… Он поднялся. Португалец взглянул на него: высокого, с редеющими волосами, с глазами, сверкающими, как у поэта в момент творчества. Великая сила, которую он нес в своем сердце, вдохновляла его. – Вот почему наша партия бессмертна и непобедима, Рамиро. Мы не какие-то сверхчеловеки… Мы простые люди с их достоинствами и недостатками; но от других людей нас отличает принадлежность к партии. От нее, от партии, – вся наша сила. От идей, которые составляют смысл ее существования, – счастье человека на земле, создание мира без голода и без страданий. И поэтому никто и никогда, никакой начальник полиции, никакой Гитлер – никто не в силах нас победить. Ибо мы любим человечество, боремся за него, ибо человек – наш самый драгоценный капитал. Наша партия бессмертна и непобедима, ибо коммунизм – это жизнь, он возвышает человека. Никто и никогда не в силах уничтожить жизнь, Рамиро. Никто! 19
– Иногда я думаю, – сказал Артур Карнейро-Маседо-да Роша, поднимая хрустальный бокал и любуясь тонким прозрачным стеклом, – что никто не в силах с ними справиться… Что мы ведем безнадежную борьбу… – Это ты мне уже однажды говорил, и я тебе ответил, что думать так – глупо, это теория самоубийства. У меня отвращение к самоубийцам: они дезертиры. Я знаю, что нелегко покончить с коммунистами; они, как сорная трава, их нужно вырывать с корнем. – Коста-Вале отпил глоток виски. Они находились в кабинете банкира вечером того самого дня, когда на электрических проводах появились красные флажки. В комнате, выходящей в сад, вокруг Мариэты собрались друзья дома, приглашенные на обед в честь графа Заславского, прибывшего из Европы на постоянное жительство в Бразилию. Обсуждали дерзкую вылазку коммунистов. Эти простые флажки и эти надписи на стенах отодвинули на задний план графа с его романтическим видом беженца, несмотря на то, что он привез свежие известия о Пауло и Розинье; каждый вновь пришедший сразу же начинал разговор о новой демонстрации коммунистической партии, об этих флажках, висящих на проводах на площади да Сэ, о надписях в самом центре города, даже на фасаде банка Коста-Вале. Все говорили об этом: поэт Шопел, которого это доказательство существования и деятельности коммунистов повергло в такой ужас, что его чуть не хватил удар; комендадора да Toppe, живые глазки которой горели бешенством, – она громко возмущалась бездарностью и бездеятельностью полиции; Лукас Пуччини, проповедующий необходимость проведения хитроумной трабальистской политики, способной обмануть рабочих; полковник Венансио Флоривал, требующий очередного суда и смертной казни для всех коммунистов; профессор Алсебиадес де Мораис, восхваляющий Гитлера, Муссолини и Салазара. Лишь Сузана Виейра-Соарес ничего не знала и только по прибытии сюда услышала о происшедших событиях. – Я, милочка, понятия об этом не имела. Мы репетируем новую американскую пьесу, и я ни о чем другом сейчас не думаю… Но эти коммунисты действительно какие-то дьяволы. Даже у нас в труппе есть люди, которые им сочувствуют… «Ангелы» закончили сезон в Сан-Пауло и готовили репертуар на будущий год для выступлений в Рио. Бертиньо был занят хлопотами в столице республики, добиваясь у министра просвещения предоставления его труппе постоянного театрального здания и большей субсидии, чем прежде. Но только Теодор Грант интересовался театральными новостями Сузаны. Неужели и среди артистов труппы, среди выходцев из гран-финос есть сочувствующие коммунизму? – Оказывается, есть! – заявила Сузана. – С тех пор, как труппа после прошлогоднего успеха покончила с любительством и превратилась в профессиональный ансамбль, в нее вошли молодые артисты из других кругов общества, и некоторые из них не скрывают своих симпатий к коммунизму. Они восхваляют советский театр, считая его первым в мире… Атташе американского консульства по вопросам культуры проявил интерес, он захотел узнать имена этих артистов. Остальные были увлечены горячей дискуссией относительно более конкретных способов окончательной ликвидации «коммунистической чумы», как выразился профессор Алсебиадес де Мораис. Граф Заславский включился в спор, он говорил на прекрасном французском языке. Он рассказывал о довоенной Польше, где, по его словам, правительству удалось искоренить всякое коммунистическое влияние. Женщины внимательно его слушали, и даже Сузана Виейра покинула Теодора Гранта, чтобы подсесть к графу; его славянский профиль буквально очаровал супругу Соареса. Граф прибыл в Бразилию несколько недель назад, привезя с собой рекомендательные письма от Пауло и Розиньи к комендадоре и к Коста-Вале. Он был представлен в обществе и имел большой успех; о нем рассказывали разные истории: о знатности его рода, о состоянии, которое было вложено в его поместья, в акции фабрик и других предприятий в Польше. Однако большинство его земель осталось на украинских территориях, ныне отошедших к Советскому Союзу, а что касается капитала, вложенного в фабрики, то о нем граф ничего не знал со времени германской оккупации. Его родители, сестра и свояченица сумели вовремя выехать в Париж, и он надеялся, что сможет впоследствии выписать их в Бразилию. Только его младший брат остался в Польше защищать интересы семьи. Все это казалось женщинам романтичным и привлекало их к графу. Заславский приторным актерским голосом рассказывал о своих богатых украинских землях: как ему удалось узнать, большевики роздали их крестьянам – его бывшим рабам. – Однако, – улыбнулся граф, – когда война закончится, я вернусь и проучу этих бандитов… Вообразите, какой абсурд: мой охотничий павильон, эту драгоценность, они превратили в «клуб культуры» для крестьян. «Клуб культуры» для неграмотных! Можно просто умереть со смеху… Он не смеялся, но улыбался Алине да Toppe, на которую стал посматривать с первого момента своего приезда в Сан-Пауло: в конце концов ведь не на службу хотел поступить граф Заславский. Его дворянские титулы не позволяли ему заниматься низменным трудом, объяснил он комендадоре, когда та, откликаясь на письма Пауло и Розиньи, предложила ему службу на одном из своих предприятий. Из того, что граф мог выбрать, лишь один пост показался ему совместимым с его дворянским достоинством, – это был пост режиссера варьете в Сантосе, которого усиленно добивался и Бертиньо Соарес. В ожидании этих благ граф ухаживал за племянницей комендадоры, он еще в Европе наметил себе кое-какие планы в этом направлении, услыхав от Розиньи о ее сестре и о размерах состояния тетки. Поэтому Лукас Пуччини подозрительно посматривал на него, хотя комендадора как-то на днях объяснила ему: – Если этот нищий граф рассчитывает обосноваться в моем доме и вскружить голову Алине, то он ошибается. Я уже сыта дворянством Пауло. По горло сыта… Женщины жалели графа, их реплики были полны симпатии, а тем временем Венансио Флоривал продолжал горячо требовать смертной казни для всех коммунистов. Коста-Вале увел Артура Карнейро-Маседо-да-Роша из этого шумного зала в свой тихий кабинет, где они потягивали виски, продолжая комментировать последние события. В течение нескольких месяцев все было тихо и спокойно. Артур припомнил заявления начальника полиции о полной ликвидации Коммунистической партии Бразилии – факт, который тогда примирил Коста-Вале с правительством. А теперь коммунисты опять начали действовать, снова появились подрывные надписи на стенах банка, на фабричных заборах, снова стало ощущаться это беспокойное присутствие коммунистической партии. Теперь не замедлят, конечно, последовать и забастовки, волнения среди рабочих. Снова возникнут затруднения в долине реки Салгадо, опять появятся лозунги против американцев. Голос банкира был холоден и суров; он заявил экс-министру: – Нужно уничтожить их, но уничтожить без сожаления и сострадания, отрубить партии голову… Постукивая по хрустальному бокалу пальцем с выхоленным ногтем, Артур извлекал из него музыкальные звуки. – Сколько уже раз говорилось, что коммунизм ликвидирован!.. Ведь именно ради этого ты помогал перевороту Жетулио. А результат? Что толку арестовывать их и присуждать к тюремному заключению? Ведь народ все больше верит коммунистам, верит Престесу. – Я уже тебе однажды сказал: надо отрубить голову партии, вырвать заразу с корнем. – Голос Коста-Вале звучал повелительно, подобно голосу генерала, излагающего план решительного сражения. – Чтобы покончить с коммунизмом в Бразилии, нам нужно, во-первых, покончить с Россией (этим займется Гитлер, и здесь нам беспокоиться нечего), во-вторых, – это уже наше дело – покончить с авторитетом Престеса. – Ну, это трудное дело… Чем суровее его осудят, тем больше вырастет его авторитет… – Это зависит от того, в какой форме его осудить. Я над этим много размышлял. Нужно покончить с авторитетом Престеса, тогда мы покончим и с партией. Одних избиений мало, я с тобой согласен; только такое животное, как Венансио, может думать, что этого достаточно. Нам нужно действовать гораздо умнее. – Что же ты посоветуешь? Что ты думаешь предпринять? – У нас готовится новый процесс Престеса. Ты обратил внимание, какая вокруг этого ведется пропаганда? – Да. Престеса изображают убийцей, вором, уголовным преступником… – Именно. Я уже имел в Рио беседу по этому поводу. Нам нужно дискредитировать Престеса. Процесс хорошо состряпан, неважно, верны или неверны обвинения. Тебе хорошо известно, что чем клевета грубее, тем больше вероятия, что она покажется правдой. Но у нас неправильно ведутся подобные процессы. Коммунистов судят чуть ли не тайком, в их отсутствие, без публики. Этим мы добиваемся результатов, противоположных нашим желаниям. Народ думает, что от него что-то скрывают. Понимаешь? – Да, но ведь это довольно деликатная штука… – Ничего тут нет деликатного. Поразмысли хорошенько. Если мы будем судить Престеса публично, обвиняя его во всех смертных грехах, посадим его на скамью подсудимых перед народом, откроем для публики двери трибунала, публично его дискредитируем, – тогда прощай весь его престиж. Авторитет зарабатывается годами, а потерять его можно в одну минуту. Это мы и сделаем: уничтожим ореол героя, которым окружен Престес. Народ должен увидеть его на скамье подсудимых, обвиняемым в качестве жестокого убийцы и простого мошенника. Мы должны дискредитировать его, понимаешь? А дискредитировав Престеса, легко покончить и со всей партией. Нам нужно вырвать корни коммунистического влияния… – Возможно, ты прав. – Я безусловно прав. Я говорил об этом в трибунале безопасности. Пусть Престеса судят публично, предоставят ему слово для самозащиты; так он погубит и себя и свою партию. Мы развернем широкую кампанию по его дискредитации, для этого у нас есть Шопел, Сакила, печать. Какой толк осуждать и арестовывать людей, если мы не наносим главного удара? Подорвать авторитет Престеса, покончить с тем уважением, которое к нему питает народ, с надеждой, которую на него возлагают, – это уже половина дела во всей программе борьбы против коммунизма. После этого останется только подождать, чтобы Гитлер уничтожил Кремль. Если Престес будет дискредитирован здесь, а там нацисты разгромят Москву, мы сможем спать спокойно. От коммунизма не останется и следа. Артур допил виски. – Хорошо, если бы так… Жозе Коста-Вале свысока посмотрел на него: – Ты слабый человек, Артур. Именно из-за таких людей, как ты, коммунизм и распространяется по всему свету. Ты принадлежишь прошлому, еще веришь в такие пустые слова, как «демократия» и «свобода». Теперь, мой дорогой, иные времена. Это времена Гитлера и Муссолини. А они, мой дорогой, сумели ликвидировать коммунизм в своих странах. Мы сделаем то же и здесь. А для начала покончим с Престесом. Пусть его смешают с грязью перед народом. Я хочу, чтобы ты завтра же отправился в Рио и присутствовал на процессе… Звуки рояля, донесшиеся из залы, проникли в кабинет. Тео Грант напевал свои фокстроты. Коста-Вале прислушался. – Или мы покончим с престижем этого бандита Престеса, разжигающего надежды черни, или они покончат с нами… Я как-то прочел в одной листовке – из тех, что они неизвестно каким образом выпускают, – якобы Престес это свет, озаряющий путь народу. Так вот: забросаем Престеса грязью, Артурзиньо, и свет померкнет. Артур снова налил себе виски. – Да, ты прав. Будет ликвидирован Престес – в Бразилии будет покончено с коммунизмом. Завтра утром я пошлю за билетом на самолет в Рио. Действительно, мне нужно присутствовать на этом процессе… Когда назначено заседание суда? Коста-Вале сунул руку во внутренний карман пиджака и вынул билет на самолет. – Билет уже куплен. Самолет идет в одиннадцать. Вместе с тобой отправится Венансио Флоривал… – А что ему делать в Рио? Банкир улыбнулся. – Правительство собирается предложить ему наместничество в Мато-Гроссо. Отныне этот штат подвластен «Акционерному обществу долины реки Салгадо»… – А пост наместника? – То же самое… Этот пост принадлежит акционерному обществу… Холодные глаза банкира выражали такую решимость, что депутат поспешил изменить тему разговора. Услышав громкие звуки песенки, раздававшейся в зале, он заметил: – Хорошо поет этот Грант… – Он понимает, что к чему. Эти американцы знают, что делают. Они – хозяева мира, дорогой Артур. 20
Накануне моросил дождь, перешедший ночью в сильный ливень. Но утро 7 ноября 1940 года было замечательным, все вокруг было залито солнечным светом. Это утро, когда природа Рио-де-Жанейро празднично сияла, когда город, возникший из гор и моря, представлял собой ослепительное зрелище для глаз. Артур Карнейро-Маседо-да-Роша, направлявшийся на такси в трибунал национальной безопасности, воскликнул, обратившись к полковнику Венансио Флоривалу, который сидел рядом, погруженный в свои мысли, и потягивал дорогую сигару: – Хороша погода! Плантатор очнулся от своих мыслей. Как бы из вежливости по отношению к экс-министру он бросил равнодушный взгляд на сверкающую бухту Ботафого; лучи тропического солнца придавали яркие оттенки и зелени моря и зелени деревьев. Их внимание привлекла фигура торопившейся, скромно одетой женщины с красивым профилем. Флоривал, посмотрев на нее, согласился: – Хороша, нет сомнений! Ах, что за женщины в Рио, дорогой Артурзиньо! Я все еще чувствую, что мне нехватает сенаторского кресла… А теперь, вместо этого, придется завязнуть в Мато-Гроссо… – Вы можете прихватить с собой кое-кого под видом секретарш, блистательный наместник… – Но я еще не назначен… – рассмеялся плантатор. Накануне он получил официальное предложение занять пост наместника штата Мато-Гроссо и вечером отметил это обильным, продолжительным обедом, а затем кутежом в одном из веселых баров Копакабаны. Артур снова прервал его: – Знаете, что сегодня за дата, Венансио? – Дата? Какая дата? Какая-нибудь годовщина? Праздник? – Сегодня седьмое ноября… – Седьмое ноября… – Плантатор порылся в памяти, вспоминая далекие уроки истории. – Что же, чорт возьми, случилось седьмого ноября? Переворот Жетулио был десятого… – Именно, чорт знает что случилось… – засмеялся Артур. – Сегодня исполняется двадцать три года, как в России был провозглашен коммунистический режим. Только по старому русскому календарю это был еще октябрь. Потому революция и называется Октябрьской. – Вот видите, сеньор Артурзиньо, даже и в этом коммунисты – путаники. Все у них делается для того, чтобы больше запутать простонародье. Чтобы обмануть, натравить на нас трудящихся… – Он подумал мгновение, вынул изо рта сигару, чтобы ему удобнее было говорить. – Это для них сегодня праздник? И в этот день мы судим Престеса? Неплохо… Даже если это так и задумано… Артур обратил внимание на шофера, который, услышав имя Престеса, повернул голову. – Конечно, так задумано. Венансио Флоривал смахнул через окно пепел с сигары и сказал своим грубым голосом: – И все же я считаю, что все эти козни, которые вы затеваете, чтобы похоронить Престеса, – просто потерянное время. К чему тратить на этого бандита столько усилий? Есть только один способ расправиться с Престесом, сеньор Артур: поставить его к стенке – и пулю в лоб! Будь я правительством, я бы так и поступил… – Он обратился к шоферу, который снова с любопытством повернулся. – Что такое, кабокло? Что-нибудь не так? Шофер прикинулся дурачком: – Я не слышал разговора. Что-то неладно с мотором… – И он сразу затормозил. Вылезая из машины, шофер услыхал ответ Артура: – Не всегда можно сделать то, что хочется, Венансио. И не всегда это лучше… Вместо того, чтобы превращать его в мученика, не вернее ли его дискредитировать? Шофер поднял голову от мотора. – Простите, хозяин, аккумулятор разрядился. Они вышли. Венансио Флоривал ворча расплатился. – Ни одного такси нет поблизости, придется нам идти пешком… Они пошли дальше пешком. Шофер подождал, пока они отойдут, и выругался: – Добирайтесь пешком, если вам нужно, сволочи!.. Убить Престеса! Да, они хотят этого, но хватит ли у них наглости? Венансио Флоривал снова углубился в свои думы, не обращая внимания на окружающее. Коста-Вале принудил правительство, как и раньше, считаться с ним, он снова распоряжался и командовал всем. В Сан-Пауло банкир сказал ему: – Вот что, Венансио, пора возвращаться к активной политике. Мы не можем оставить Мато-Гроссо в чужих руках. Теперь, когда мы начинаем добывать в долине марганец, нам нужна крепкая рука, нужен такой наместник штата, который не допустил бы туда коммунистов. Что вы скажете насчет поста наместника штата? Но не только в этом плантатор мог видеть могущественную руку банкира. Точно так же и в публичном суде над Престесом, вокруг которого была поднята такая шумиха, во всей этой инсценировке он тоже чувствовал влияние Коста-Вале, руководившего политиками, судьями и журналистами. Он, Коста-Вале, как бы мозг, – думал Венансио Флоривал, – все, что банкир ни делал, он делал по расчету, имея перед собой определенную цель, и почти всегда его действия приводили к замечательным результатам. В это сияющее солнечное утро, направляясь к трибуналу безопасности, экс-сенатор и без пяти минут наместник штата понял, какое значение имеют его политические и экономические связи с банкиром. Несколько лет назад сенатор Венансио Флоривал, владелец огромных кофейных плантаций и пастбищ, высокомерно полагал, что на социальной лестнице он стоит выше этого банкира, с которым он в некоторых делах вступил в компанию. В то время Коста-Вале, который предпочитал скрывать свои планы, заслуживал, с его точки зрения, даже известной жалости: жена только и делала, что обманывала его, а он даже не реагировал на это. Только теперь, размышляя о пути, пройденном банкиром, Венансио понял, что и обаяние жены использовалось Коста-Вале так же, как и страсть поэта Сезара Гильерме Шопела к деньгам, как политическое честолюбие Артура Карнейро-Маседо-да-Роша, как феодальная власть самого Венансио Флоривала… Да, действительно, «он – хозяин», как цинично говорил, захмелев, поэт Шопел… Хозяин над ними всеми, хозяин министров, редакторов газет, начальников учреждений, полицейских инспекторов, таких социологов, как Эрмес Резенде… Артур молчал, идя рядом с плантатором. Взгляд его машинально скользил вокруг, схватывая каждый оттенок цвета, но мысли все так же были заняты особой банкира. Мариэта сумела выбрать мужа. Коста-Вале – самый могущественный человек в стране. Он пользуется доверием американцев, это их «доверенное лицо» в Бразилии. Всюду можно было встретить доказательства его влияния, и, по правде говоря, он должен был бы председательствовать на заседании суда над Престесом. Артур пригласил Сезара Гильерме Шопела пойти вместе с ним, однако встревоженный поэт отказался. Он боялся даже тени коммунистов, и одна мысль появиться на суде над Престесом, руководителем компартии, заставляла его трепетать. Не помогло и напоминание Артура по поводу положения Престеса: ведь он будет доставлен прямо из тюрьмы, где находится в строгой изоляции, его будет окружать полиция, он будет смят под тяжестью ужасных обвинений, заклеймен эпитетами убийцы, вора, изменника родины, – все это прокурор трибунала бросит ему прямо в лицо… Престес – сраженный и разбитый – будет выставлен перед публикой на поругание специально для того, чтобы покончить с легендой о Престесе, командовавшем великим походом Колонны Престеса, возглавлявшем Национально-освободительный альянс, Престесе – генерале восстания 1935 года, Престесе – коммунистическом вожде, выступившем с обвинениями против правительства на двух предыдущих процессах[192], о «Рыцаре надежды», пользующемся таким авторитетом и любовью народа… – Коста-Вале поистине гениален, дорогой Шопел. А этот его план изумителен, – заявил Артур. Но Шопел – его жирное тело даже содрогалось от страха – все равно не хотел идти. В глубине его души таились опасения, а весь этот план Коста-Вале и правительства представлялся ему слишком примитивным и к тому же рискованным. – Конечно, он гений, но гений лишь в делах финансовых. Это и американцы признают. Однако во всем остальном, что выходит за рамки бизнеса, он ничего не смыслит. Так же как и американцы. Он не знает психологии народа. Не знает и Престеса. Кто ему сказал, что процесс пройдет так, как он замышляет? То же самое хотели сделать с Димитровым в Германии, а вы помните, что получилось? Прав этот осел Флоривал: таким, как Престес, – пуля… Артур смеялся над страхами поэта, показывал ему газеты, где сообщения о военных действиях отошли на второй план, а материалы о предстоящем процессе над Престесом печатались под громадными заголовками; длинные столбцы заполнялись клеветой и руганью по его адресу. Одна из махрово-консервативных газет опубликовала на своих страницах интервью с Эйтором Магальяэнсом: аферист описывал мнимую встречу с Престесом в 1935 году, когда, по словам репортера, «коммунисты хотели привлечь его – Эйтора – к осуществлению чудовищных террористических актов». – Все это наша с Сакилой работа, – говорил Шопел. – Дай бог, чтобы она принесла плоды. Но я сомневаюсь… Артуру вспомнились резкие слова Коста-Вале о пессимистах, сказанные дня два назад в Сан-Пауло. Подняв палец с тщательно выхоленным ногтем, банкир изрекал перед напуганным поэтом: – Ты пессимист. Завтра политическая карьера Престеса будет окончена. Из героя ему придется превратиться в уголовного преступника, и те люди, которые сегодня клянутся ему в верности, завтра будут проклинать его имя… Сам народ скажет: «Нет, он не был героем, он нас обманул». И навсегда отойдет от него и от его партии. И сейчас, по пути в трибунал безопасности, слушая разглагольствования Венансио Флоривала о Коста-Вале («Вот это мозг!»), Артуру хотелось отделаться от опасений Шопела. «У него патологический страх, он смертельно боится коммунистов», – размышлял Артур. Плантатор чуть не захлебывался от восторга, говоря о величии банкира: – Сеньор Артур, Коста-Вале заслуживает статуи. Да, да и не обыкновенной, а из тех… громадных… ну, как их зовут?.. – Сморщив лоб, он стремился припомнить слова, слышанные им как-то в сенате. – Он даже приостановил шаг, напрягая память. – Статуи… статуи… Ага! Наконец-то вспомнил: конной статуи! 21
Девушка, на которой остановился взор Венансио Флоривала, была Мариана, также направлявшаяся в трибунал безопасности. Накануне, обсуждая с Маркосом и Мануэлей сообщения газет относительно процесса, она сказала, что хочет пойти на суд, однако архитектор стал возражать против этого. Мариана опровергла его опасения. – Я устроюсь где-нибудь в уголке, мне только хочется увидеть Престеса. Никогда его не видала, а это – единственный случай… Она вышла из трамвая у набережной Ботафого. У нее было много времени в запасе и ей не хотелось прийти слишком рано, чтобы не привлекать к себе внимания. К тому же утро было таким прекрасным, что стоило пройтись пешком. Идя вдоль набережной, она размышляла о Престесе, о партии, о борьбе. Несколько дней назад она узнала о листовках, разбросанных по улицам Сан-Пауло, о красных флажках на электрических проводах, о надписях, снова появившихся на стенах домов. Витор и другие товарищи вновь хорошо поработали. Она, Мариана, тоже не замедлит принять участие в борьбе: как только Жоана отправят на Фернандо-де-Норонья, она вернется в Сан-Пауло, чтобы отдать себя в распоряжение партии. Так она сможет лучше перенести разлуку с мужем, так она почувствует себя ближе к нему, несмотря на огромные морские просторы, которые будут их разделять. Во время одного из свиданий с Жоаном он ей объяснил значение проведения публичного процесса над Престесом, рассказал, каких результатов ожидают от этого процесса враги. И, конечно, именно эта беседа заставила ее принять решение присутствовать на судебном заседании. В зале трибунала предстояла битва между партией и реакцией, и исход этой битвы мог значительно повлиять на дальнейшее развитие борьбы. Так она и аргументировала накануне, в разговоре с Маркосом, когда они обменивались мнениями, свое намерение посетить трибунал. Мануэла, преисполненная симпатии к коммунистам и встревоженная этой подлой кампанией, спрашивала: – Что они затевают? – Они хотят дискредитировать Престеса перед народом. Они хотят показать народу, якобы Престес одинок и ему не на кого рассчитывать. Они ожидают, что народ не будет больше верить ему и решит, будто режим «нового государства» воцарился здесь навечно. Мануэла раскрыла свои прекрасные голубые глаза, в которых сквозило сомнение. – Вы думаете, народ поверит всему, что говорят о Престесе? – Я уверена, – заявила Мариана, – что Престес выйдет из трибунала еще более любимым народом. – Я тоже уверен в этом, – тихо сказал Маркос. – И нужно, чтобы получилось именно так. Народ доверяет Престесу: каждый раз, когда я думаю о бразильском народе, я вижу перед собой Престеса. У здания трибунала собралась толпа, она пробивалась к входу. Полицейские разгоняли любопытных, покрикивая на них и расталкивая по сторонам. – Мест нет, все переполнено! Но люди не расходились, они оставались у входа, разглядывая тюремную машину, на которой привезли Престеса. Агенты угрожали, народ продолжал тесниться. Мариане случайно удалось пробраться. Она подошла как раз в тот момент, когда два агента расчищали дорогу для Венансио Флоривала и Артура Карнейро-Маседо-да-Роша. Она бросилась вслед за ними, один из агентов хотел загородить ей путь, но Венансио, узнав в ней девушку, виденную им на набережной Ботафого, спросил: – Хотите войти? – Да, я журналистка, – ответила Мариана. – Из сан-пауловской газеты… – Дайте пройти девушке, – обратился экс-сенатор к полицейскому. И она неожиданно очутилась в переполненном зале. Полицейские агенты затесались в толпу, подслушивая разговоры. Артура и Венансио Флоривала усадили в приготовленные для них кресла неподалеку от судей. Разбор дела уже начался, оглашалось обвинительное заключение. Мариана, поднявшись на цыпочки, чтобы лучше видеть, смогла рассмотреть Престеса. Он стоял между двумя рослыми солдатами специальной полиции, в рубашке без галстука, распахнутой на груди, и спокойно смотрел перед собой. Председательствовал на суде майор, который в 1924 году одновременно с Престесом взялся за оружие, чтобы бороться против власть имущих[193]. Позднее он переметнулся на сторону реакции, а теперь даже взялся судить того, кто некогда был его революционным руководителем. Мариана не могла отвести взгляда от спокойного лица Престеса, от его глаз, в которых светился страстный огонь. Вот он – легендарный руководитель, неустрашимый капитан[194], первый труженик Бразилии – тот, в кого верят миллионы людей и на кого они возлагают свои надежды, олицетворение непоколебимой воли, поддерживаемой сознанием правоты, верой в будущее. Не только глаза Марианы были прикованы к нему, но и всех присутствующих захватила уверенность и спокойствие этого человека. Здесь были мужчины и женщины – простые люди из народа; они пришли, чтобы увидеть Престеса, чтобы выразить своим молчаливым присутствием солидарность с ним, они пришли потому, что верили ему. В этот момент Мариана поняла, насколько она была права, когда выражала уверенность, что народ нельзя обмануть! Чувство гордости и радости смешалось с волнением от того, что она увидела Престеса. Среди присутствующих почувствовалось какое-то волнение: люди перешептывались, и вдруг сразу наступила полная тишина. Мариана подняла голову; председатель трибунала почти неслышным голосом предоставил слово подсудимому. И вот раздался громкий голос Престеса – голос, полный правды, каждое слово его звучало как послание надежды и уверенности, оно разносилось из того тесного, набитого полицией зала суда в самые далекие уголки Бразилии. Мариану пленил этот голос, это был голос партии, провозглашавший ее торжество над силами реакции и террора: – Я хочу использовать представившуюся мне возможность выступить перед бразильским народом, чтобы торжественно отметить величайшую историческую дату – день двадцать третьей годовщины великой русской революции, освободившей народ от тирании… Судья истерически закричал, лишая его слова. Солдаты специальной полиции и агенты набросились на него, намереваясь вывести из зала. Мариана увидела, как целая группа полицейских стала насильно уводить подсудимого. Возникло смятение; публика, не обращая внимания на угрозы полиции, толкалась, чтобы лучше видеть происходящее. Мариана, очутившаяся почти рядом с судейским столом, около Венансио и Артура, услышала чей-то шопот: – Мы проиграли партию… Она не знала, что это сказал экс-министр Артур Карнейро-Маседо-да-Роша, влиятельный политический деятель правящих классов, ставленник банкира Коста-Вале и американцев. Она также не знала, что человек, который ответил голосом, полным безудержной ненависти к Престесу, был экс-сенатор и латифундист, владелец обширных земель, Венансио Флоривал: – Только пуля заставит его замолчать. Она только знала, что это враги, сраженные мужественным поведением Престеса, это те, кто хотел дискредитировать его перед народом, кто мечтал покончить с авторитетом партии, с любовью народа к Престесу. На мгновение Престес вдруг освободился от полицейских, повернулся к публике, желая что-то сказать. Но тут же полиция снова набросилась на него. Мариана не выдержала и крикнула: – Да здравствует Луис Карлос Престес! Это было так неожиданно, что в этот момент с ней ничего не сделали. Престес, уже находясь около двери, куда его тащили, повернул голову и улыбнулся. Кто-то закричал рядом с ней: – Вот эта! Она!.. – Это был Венансио Флоривал, находившийся в состоянии крайнего возбуждения. Мариану тут же крепко схватили за руку. Агенты прокладывали дорогу среди публики. Они с силой тащили Мариану. Небольшая толпа вышла вслед за ней и полицейскими, будто в суде не оставалось ничего интересного: Престеса там уже не было. На улице блистало ослепительное солнце. Один из агентов толкнул Мариану к тюремной машине, она споткнулась, чуть было не упала, но кто-то ее поддержал. Поднимаясь, она увидела в глазах всех, кто столпился у дверей и на улице, ту же горячую солидарность, как и у того человека из народа, который поддержал ее и пожал ей руку. – Спасибо… – улыбнулась Мариана. Твердым шагом, с высоко поднятой головой, она вошла в тюремный автомобиль. Добрис, Замок Союза чехословацких писателей, март 1952 г. Рио-де-Жанейро, ноябрь 1953 г. Примечания Примечания составлены Ю. Владимировым 1 Паулисты – жители города и штата Сан-Пауло; в бразильской политической терминологии – представители имеющих большое влияние на политическую жизнь страны аграрно-промышленных кругов этого штата, важного экономического центра Бразилии. «Паулисты с четырехсотлетней родословной», о которых говорится в романе, кичились своим происхождением от португальских колонизаторов, основавших первые поселения на территории нынешнего штата Сан-Пауло в XVI веке. 2 «Лайт энд пауэр» (полностью «Бразилиен трэкшн, лайт энд пауэр компани, лимитед») – крупнейший трест со смешанным англо-канадо-американским капиталом, владеющий большей частью предприятий общественного пользования (электростанциями, городским транспортом, телефоном, газом, водопроводом и т. п.) в Рио-де-Жанейро, Сан-Пауло, Сантосе и прилегающих к ним районах. 3 Варгас, Жетулио Дорнеллас (1882–1954) – президент Бразилии с 1930 по 1945 год и с 1951 года по август 1954 года. 4 Интегралисты – члены бразильской фашистской организации «Интегралистское действие» («Зеленые рубашки»), возникшей в 1930-х годах; были тесно связаны с гитлеровской Германией. Вооруженные банды интегралистов, насчитывавшие к описываемому в романе времени свыше миллиона человек, террористическими методами боролись против демократического движения. Не без содействия интегралистов Варгас совершил государственный переворот 10 ноября 1937 года, хотя после этого – отчасти из демагогических целей и отчасти опасаясь усиления их влияния в стране – официально запретил наряду с другими политическими партиями и «Интегралистское действие», а в 1938 году подавил мятеж интегралистов, пытавшихся захватить власть. После запрета их деятельности интегралистские банды продолжали существовать под другими наименованиями. С 1945 года интегралисты называют себя «партией народного представительства». 5 Антижетулисты – противники Жетулио Варгаса. 6 Салес-Оливейра, Армандо – бразильский буржуазный политический деятель, бывший губернатор штата Сан-Пауло. В избирательной кампании 1937 года паулисты выдвинули его кандидатом на пост президента республики. После ноябрьского переворота 1937 года был арестован и по освобождении эмигрировал за границу. 7 Итамарати – название дворца в Рио-де-Жанейро, в котором находится министерство иностранных дел Бразилии. 8 Рио-Бранко, Жозе Мариа да Силва, барон (1845–1912) – видный бразильский дипломат; в бытность министром иностранных дел, заключив выгодные для Бразилии соглашения о границах и спорных районах, достиг увеличения ее территории почти на 900 тысяч кв. километров за счет сопредельных стран. 9 Де Оливейра-Салазар, Антонио (род. в 1889 г.) – диктатор Португалии, премьер-министр и лидер фашистского «национального союза»; союзник Франко, ярый сторонник англо-американского империализма. В описываемое в романе время занимал посты военного министра и министра иностранных дел Португалии, оказывал всемерную политическую и экономическую помощь гитлеровской Германии. 10 Война в Чако между Боливией и Парагваем из-за обладания пограничной нефтеносной территорией Северное Чако длилась с июня 1932 года по июнь 1935 года. Война явилась отражением соперничества монополий США и Англии, поддерживавших противные стороны. Упоминаемая здесь конференция по мирному урегулированию конфликта, с участием Бразилии в качестве одной из стран-посредниц, происходила в Буэнос-Айресе в 1935–1938 годах. 11 Восстание 1935 года – революционное выступление народных масс Бразилии, объединенных в «Национально-освободительный альянс» против фашизма и империализма, против пережитков феодализма в стране, за демократические права и свободы, за создание народного революционного правительства. Национально-освободительный альянс – союз прогрессивных партий и организаций, в который вошло свыше 5 миллионов человек, – был образован 30 марта 1935 года; его поддерживала значительная часть армии. Напуганное ростом народного движения, правительство Варгаса в июле 1935 года объявило Альянс вне закона и арестовало многих его активных участников. 24 ноября вспыхнуло народное восстание в штате Рио-Гранде-до-Норте, где власть перешла в руки революционного правительства. Восстание перекинулось в Ресифе (штат Пернамбуко) и в Рио-де-Жанейро. В исключительно тяжелых, неравных условиях сражались повстанцы с правительственными войсками и фашистскими бандами, вооруженными американским и немецким оружием. Несмотря на самоотверженную борьбу и героизм его участников, Альянс потерпел поражение вследствие организационной слабости, нехватки оружия и предательства примкнувших к нему случайных и чуждых элементов. Правительство жестоко расправилось с повстанцами: многие были убиты, многие погибли под пытками в тюремных застенках, 17 тысяч активистов Альянса было сослано на каторгу. Был арестован и на основании провокационных обвинений осужден почетный президент и фактический руководитель Национально-освободительного альянса генеральный секретарь Коммунистической партии Бразилии Луис Карлос Престес (см. прим. 19), находившийся в описываемое в романе время в строгом тюремном заключении. Лишь в апреле 1945 года под давлением народных масс Варгас был вынужден издать декрет об амнистии политзаключенным, в том числе участникам восстания 1935 года. 12 Гойс-Монтейро, Педро Аурелио (род. в 1889 г.) – бразильский генерал; был назначен в 1937 году начальником генерального штаба; свою деятельность на этом посту ознаменовал тем, что направил в парламент фальшивый «документ» – о котором упоминается в романе, – провокационно приписав Исполкому Коминтерна «план коммунистической революции в Бразилии». Проявлял себя рьяным сторонником фашистской Германии, награжден Гитлером «за ценные услуги, оказанные Германии», орденом Железного креста. После разгрома гитлеризма занял проамериканскую позицию. 13 «Выступление 1932 года» – имеется в виду попытка вооруженного переворота паулистов и присоединившихся к ним офицеров бразильской армии в июле – сентябре 1932 года против Варгаса, почти за два года перед этим захватившего власть. Организаторам переворота удалось увлечь за собой некоторую часть трудящихся. Выступление проводилось под лозунгом требования созыва учредительного собрания и принятия новой конституции (отсюда зачастую это выступление в Бразилии именуют «конституционалистским»), В действительности же, выступая в 1932 году, паулисты при поддержке англичан пытались отвоевать позиции, утраченные после прихода к власти Варгаса, ставленника США. Подавив силой оружия выступивших паулистов и применив ограниченные репрессии к некоторым из них, Варгас счел нужным пойти на сближение со своим вчерашним противником – землевладельческой олигархией Сан-Пауло, рассчитывая этим маневром укрепить свои позиции в связи с ростом демократического движения. Заручившись поддержкой латифундистов, правительство Варгаса взяло более открытый курс на реакцию, на фашизм. 14 Комендадор – командор, одна из высших португальских орденских (рыцарских) степеней; комендадора – жена комендадора. 15 Салгадо, Плинио – бразильский политический авантюрист, основатель и главарь фашистской организации «Интегралистское действие». Был разоблачен как гитлеровский агент, действовавший под руководством посольства нацистской Германии в Рио-де-Жанейро. После провала путча интегралистов в 1938 году, когда он был выдвинут фашистами на пост бразильского диктатора, ему пришлось выехать в Португалию. Вернулся в Бразилию в 1945 году. По профессии – фармацевт. Автор нескольких «произведений» мистико-патологического толка. 16 Де Кампос, Франсиско (уменьшительное имя – Шико) – бразильский реакционный политический деятель, юрист. Был министром просвещения в кабинете Варгаса. Организатор фашистских «легионов» в штате Минас-Жераис. «Теоретик» корпоративного «нового государства», он составил вместе с Плинио Салгадо текст конституции 1937 года, предоставившей Варгасу диктаторские полномочия. После ноябрьского переворота 1937 года вновь вошел в кабинет Варгаса, заняв пост министра юстиции и внутренних дел. Бездарный поэт; им написан цикл стихов «Елена». 17 Конто – употребляемое до сих пор название бразильской денежной единицы, равной тысяче милрейсов (с 1942 года милрейс заменен эквивалентной денежной единицей – крузейро). 18 Америко-де-Алмейда, Жозе (уменьшительное имя – Зе) – бразильский политический деятель и писатель; был министром авиации, а затем – финансов в кабинете Варгаса. В избирательной кампании 1937 года номинально считался правительственным кандидатом в президенты, хотя Варгас, подготовлявший государственный переворот, не объявлял об официальной поддержке кандидатуры Жозе Америко. 19 Престес, Луис Карлос (род. в январе 1898 г.) – виднейший латиноамериканский политический деятель, генеральный секретарь Коммунистической партии Бразилии, руководитель бразильского народа. Участвует в революционном движении с 1922 года. Подняв восстание армейских частей на юге страны, возглавил легендарный поход Колонны повстанцев в 1924–1927 годах, за что был прозван народом «Рыцарем надежды». В 1934 году вступил в Коммунистическую партию Бразилии. В 1935 году был избран почетным президентом Национально-освободительного альянса и фактически им руководил. В марте 1936 года арестован; в итоге судебных инсценировок присужден в общей сложности к 46 годам и 8 месяцам тюрьмы. В апреле 1945 года по требованию широких народных масс был освобожден вместе с другими политзаключенными. На парламентских выборах в том же году избран сенатором. После запрета компартии в мае 1947 года, находясь в подполье, продолжает возглавлять борьбу бразильского народа против империализма и войны, за мир и демократию, за национальное освобождение. 20 Фазенда – крупное земельное владение и усадьба плантатора. 21 Колоны – мелкие арендаторы-поселенцы. 22 Трабальистское (лейбористское) движение – демагогическая политическая кампания, начатая Варгасом вскоре после прихода к власти, для завоевания поддержки трудящихся масс Бразилии. Под прикрытием «социальных» лозунгов и «трудового» законодательства в результате этой политики осуществляется наступление на права рабочего класса, проводится закабаление трудящихся, усиливается эксплуатация. Позднее трабальистскую политику стала проводить созданная Варгасом бразильская «рабочая партия», объединившая значительное число рабочих, находящихся под влиянием лидеров правых профсоюзов, городской и сельской буржуазии. 23 Колониальные времена – период владычества Португалии над Бразилией с XVI века до начала XIX века (в XVIII веке Бразилия была преобразована в португальское вице-королевство). 24 Народный фронт во Франции был создан в 1934–1936 годах левыми партиями на основе антифашистского единства действий. 25 Империя в Бразилии существовала с 7 сентября 1822 года до 15 ноября 1889 года, когда в результате военного переворота в стране был установлен республиканский строй. 26 Катете – название дворца президента республики в Рио-де-Жанейро. 27 Имеется в виду государственный переворот, произведенный в октябре 1930 года тогдашним губернатором штата Рио-Гранде-до-Сул Жетулио Варгасом, выдвинутым кандидатом в президенты республики при содействии США. На президентских выборах в марте 1930 года формально победу одержал кандидат паулистов губернатор штата Сан-Пауло Жулио Престес-де-Албукерке, пользовавшийся прямой помощью со стороны паулистского президента Бразилии Перейра-де-Соузы и английского капитала. Потерпев поражение на выборах, Варгас совершил переворот и через несколько дней провозгласил себя президентом республики. Перейра-де-Соуза, президентские полномочия которого еще не кончились, был вынужден покинуть страну. 28 Немецкая колония, насчитывавшая свыше миллиона немцев и лиц немецкого происхождения, за сто с лишним лет своего существования приобрела большое значение в экономической и политической жизни Бразилии. Гитлеровское посольство в Рио-де-Жанейро широко использовало немецкую колонию в своих целях, создав филиалы «национал-социалистской партии», «Рабочего фронта» и других фашистских организаций, образовав штурмовые отряды, наводнив страну гитлеровской пропагандой и установив во всех важных пунктах центры шпионажа. В описываемый в романе период гитлеровский посол Карл Риттер и «ландескрайслейтер» Ганс Геннинг-фон-Коссель осуществляли контроль не только над немецкой колонией, но и над известной частью государственного аппарата, вмешиваясь во внутренние дела Бразилии. 29 «А классе операриа» («Рабочий класс») – центральный орган Коммунистической партии Бразилии. 30 Сага piccina – дорогая малютка (итал.). 31 Scifosa – гадина (итал.). 32 Piccina, carina mia – малютка, дорогая моя (итал.). 33 В период, к которому относятся описываемые в романе события, подпольная организация бразильской коммунистической партии в каждом штате называлась районной организацией и соответственно комитет парторганизации штата – районным комитетом. 34 Национально-освободительный альянс – см. прим. 11. 35 Имеется в виду национально-освободительная война испанского народа против фашизма в 1936–1939 годах. 36 К осени 1937 года японские империалисты, пользуясь временным превосходством своих сил, развернули наступление в Центральном Китае. Японцами были захвачены Тяньцзин, Бэйпин, Баодин, Калган и ряд других пунктов и железнодорожных линий. Продолжалась битва за Шанхай, в котором китайские войска мужественно сражались против интервентов, оставив город лишь 11 ноября 1937 года после трехмесячной обороны. На севере, под Пинсингуанем, героическая китайская Восьмая армия нанесла серьезное поражение японским захватчикам – первое поражение японских войск в японо-китайской войне, начавшейся в июле 1937 года. 37 Maladetta – проклятая (итал ). 38 Per Bacco! – чорт возьми! (итал.). 39 «Антикоминтерновский пакт», заключенный в ноябре 1936 года между Германией и Японией формально с целью сотрудничества в борьбе против Коммунистического Интернационала, по существу оформил создававшийся в середине 30-х годов блок агрессоров. В 1939–1940 годах был превращен в открытый военный союз между Германией, Италией и Японией. 40 «Бандьера росса» («Красное знамя») – итальянская революционная песня. 41 Барата, Ажилдо – капитан бразильской армии, активный участник Национально-освободительного альянса. В ночь на 27 ноября 1935 года поднял восстание в третьем пехотном полку в Рио-де-Жанейро. Восстание этого полка – первого полка народной армии, созданной Альянсом, – было подавлено правительственными войсками. Был осужден на 10 лет заключения на острове Фернандо-де-Норонья. 42 Интернациональные бригады – добровольческие части, действовавшие вместе с испанской республиканской армией против германо-итальянских интервентов и франкистских войск в Испании. Были организованы из антифашистов, прибывших из многих стран мира на помощь испанскому народу, боровшемуся против фашизма. Осенью 1938 года интернациональные бригады, в состав которых входило до 20 тысяч добровольцев, были распущены на основании решения так называемого «Комитета по невмешательству», а бойцы и офицеры этих бригад должны были покинуть Испанию. 43 Война против Росаса началась в мае 1851 года, когда Бразилия присоединилась к Уругваю и аргентинским провинциям Корриэнтес и Энтре-Риос, которые вели военные действия против диктатора Аргентины Хуана де Росаса. Военные действия закончились в феврале 1852 года поражением Росаса и его бегством в Англию. Несмотря на успешный для Бразилии исход войны, она не улучшила тяжелого экономического положения Бразильской империи. 44 Бергер (Эверт), Гарри – немецкий антифашист, бывший депутат рейхстага, вместе с женой Аугустой-Элизой был арестован в Бразилии. Оба были подвергнуты бесчеловечным пыткам в застенках «специальной полиции», вследствие чего Бергер тяжело заболел, а жена умерла вскоре после высылки ее в гитлеровскую Германию. Бергер был осужден на 13 лет и 4 месяца тюремного заключения. 45 Бенарио-Престес, Ольга – жена Луиса Карлоса Престеса – молодая немецкая коммунистка, активно участвовала в революционных событиях 1935 года в Бразилии. Арестована вместе с мужем в марте 1936 года. Правительством Варгаса была выслана в гитлеровскую Германию. Замучена палачами гестапо в концлагере Равенсбрюк, близ Берлина, в 1944 году. 46 Теруэль – город в Испании, в районе которого осенью 1937 года и зимой 1938 года развернулись ожесточенные бои между испанскими республиканскими войсками и фашистами. Теруэль неоднократно переходил из рук в руки. В описываемый период республиканцы вели наступление на Теруэль, захваченный врагом. 47 Армандисты – сторонники кандидата в президенты республики Армандо Салеса во время избирательной кампании 1937 года. 48 Зеамериканисты – приверженцы кандидата в президенты Жозе Америко. 49 Флорес-да-Кунья, Антонио – буржуазный политический деятель Бразилии. В 1937 году был губернатором штата Рио-Гранде-до-Сул. Ранее являлся приближенным Варгаса, а затем перешел в оппозицию. 50 Так называемая «паулистская школа» живописи и графики в бразильском искусстве развивалась под большим влиянием западноевропейских модернистских художников Браке, Матисса, Дали и других. Эта школа культивировала главным образом сюрреализм, кубизм и другие направления формалистического характера. Особого расцвета в Бразилии модернизм достиг в годы реакции. 51 Согласно федеральной конституции, каждый из 20 штатов Бразилии имеет свою собственную конституцию, законодательные органы и суд, но на деле автономия штатов ограничена. Варгас в большинстве штатов заменил губернаторов своими наместниками (интервенторами). Во многих случаях не исключено вмешательство федерального правительства во внутреннее самоуправление штатов. 52 Гуарана – безалкогольный напиток. 53 Кашаса – дешевый спиртной напиток, приготавливаемый из отходов сахарного тростника. 54 Пампа – обширная степная равнина, местами покрытая зарослями кустарников и низкорослых деревьев. 55 Гаушо – житель пампы, обычно занимающийся скотоводством или работающий пастухом у богатого скотовладельца. Кроме того, зачастую так называют жителей штата Рио-Гранде-до-Сул. 56 Терра, Габриэль (1873–1942) – диктатор Уругвая. Избран президентом в 1931 году, совершил государственный переворот в 1933 году, распустив парламент и установив режим диктатуры. В декабре 1935 года порвал дипломатические отношения с Советским Союзом, а в 1936 году – с Испанской республикой. 57 Виейра-де-Азеведо, Аглиберто – капитан бразильской военной авиации, активный участник движения Национально-освободительного альянса. Возглавил восстание в авиационной школе в Рио-де-Жанейро в ночь на 27 ноября 1935 года. За участие в революционном движении был осужден на 27 лет и 6 месяцев заключения в крепости на острове Фернандо-де-Норонья, куда сослали и другого руководителя восстания в Рио-де-Жанейро – капитана Ажилдо Барату (см. прим. 36). 58 Самба – бразильский народный танец, сопровождаемый песней. 59 «Новое государство» – фашистский режим, узаконенный президентом Варгасом. Этот термин Варгас заимствовал у фашистского диктатора Португалии Салазара, провозгласившего в марте 1933 года конституцию «нового государства». 60 Педро II – второй и последний бразильский император, унаследовавший трон от своего отца Педро I, объявившего монархию в Бразилии. После 49-летнего правления страной Педро II был свергнут в ноябре 1889 года в результате переворота. С этого времени в Бразилии установлен республиканский строй. 61 Кашиас Алвес-де-Лима, Луис, герцог – военный и политический деятель времен империи в Бразилии. 62 На территории Бразилии расположенной к югу от линии экватора, сентябрь – ноябрь являются весенними месяцами. Соответственно летними месяцами считаются декабрь – февраль, осенними – март – май и зимними – июнь – август. 63 Мескита-Фильо, Жулио – бразильский буржуазный журналист и издатель; до переворота 1937 года – владелец и главный редактор влиятельной газеты «Эстадо де Сан-Пауло», отражающей интересы крупных промышленных и аграрных кругов Сан-Пауло. Сторонник Армандо Салеса. 64 Камоэнс, Луис (около 1520–1580 гг.) –знаменитый португальский поэт и драматург, автор вошедшей в сокровищницу мировой литературы эпической поэмы «Лузиады». 65 Мюллер, Филинто – бразильский фашист, выходец из немецких колонистов штата Мато-Гроссо. В 1924 году примыкал к Колонне Престеса, но вскоре был из нее изгнан за трусость и предательство. После переворота 1930 года вошел в доверие к Варгасу, возглавил федеральную полицию, установил тесное сотрудничество с гестапо гитлеровской Германии. Позднее стал известен своими проамериканскими настроениями. 66 Английская компания «Сан-Пауло (Бразилиен) рейлуэй компани, лимитед» в 1867 году построила железную дорогу, соединяющую Сан-Пауло с портом Сантос. В 1946 году дорога перешла в собственность Бразилии. 67 Описываемый в романе период – 1937–1938 годы – явился периодом наибольшего обострения германо-американского соперничества в Бразилии. Уже к концу 1936 года Германия занимала первое место в бразильском импорте и второе место среди стран – покупательниц бразильского сырья, удерживая эти позиции и в течение 1937–1938 годов. Крайне обеспокоенные германским проникновением в экономику Бразилии. США предоставили правительству Варгаса кредиты на выгодных для последнего условиях. 68 «Анауэ!» – древний воинственный клич бразильских индейцев; использовался в шовинистических целях интегралистами. 69 Сертанежо – житель сертана – полупустынной лесостепной зоны между глубинными глухими районами и обрабатываемыми землями океанского побережья Бразилии; малочисленное население сертана, нередко ведущее полукочевой образ жизни, занято преимущественно пастбищным скотоводством, причем значительная часть скота и земель принадлежит крупным помещикам. 70 Кабокло – метисы индейско-португальского происхождения; являются основной частью населения сертана. 71 Де Аленкар, Жозе (1829–1877) – видный представитель романтического направления в литературе Бразилии; автор романа «Ирасема», в котором в качестве героини выведена девушка индианка. В своих произведениях широко использовал фольклор бразильских индейцев. 72 Жандира – имя дочери президента Варгаса, это обстоятельство явно имел в виду Шопел, предлагая такой псевдоним Мануэле. 73 Айморес и шавантес – воинственные племена бразильских индейцев, активно защищавшиеся против португальских колонизаторов еще в XVI–XVII веках; в настоящее время сохранились лишь остатки этих племен, являющиеся наиболее отсталой, наиболее угнетаемой частью населения, они подвергаются жестокой дискриминации. 74 Национальный комитет – Центральный комитет Коммунистической партии Бразилии. 75 Конституция 1934 года заменила первую федеральную конституцию Бразилии 1891 года, скопированную с конституции США. Президентские выборы 1938 года должны были явиться первыми выборами на основании конституции 1934 года – конституции, в значительной степени урезанной реакцией, но все же исключавшей возможность переизбрания президента по окончании срока его конституционных полномочий (следовательно. Варгас по этой конституции не мог быть переизбран на новый срок, тем более, что еще в 1934 году он «переизбрал» себя, превратившись из президента «де-факто» в «конституционного» президента, срок полномочий которого истекал в 1938 году) Реакционная конституция провозглашенная после переворота 1937 года, продлила на неограниченное время «мандат нынешнего президента Республики» то есть фактически предоставила Варгасу чуть ли не пожизненные диктаторские полномочия Президент объявлялся «верховной властью», без его санкции не могли быть изданы законы, он имел право продлить или приостановить действие любого закона, управлять государством президентскими декретами, накладывать «вето» на решения верховного суда, беспрепятственно вмешиваться во внутренние дела штатов и руководить ими через своих наместников. Конституция 1937 года действовала до 18 сентября 1946 гона, когда была принята четвертая по счету конституция Бразилии. 76 Магальяэнс, Жураси – буржуазный политический деятель; в свое время участвовал в Колонне Престеса. Находясь в составе правительства штата Баии, раскрыл заговор интегралистов и запретил их деятельность в этом штате. В избирательной кампании 1937 года поддерживал кандидатуру Армандо Салеса. 77 Слухи о возможном присоединении Бразилии к так называемому «антикоминтерновскому пакту» (см. прим 34) распространялись со спекулятивными целями органами фашистской пропаганды в период сближения Варгаса с державами «оси». Снова такие слухи были пущены в ход в связи с присоединением к пакту фашистской Италии (6 ноября 1937г.) за несколько дней до ноябрьского переворота Варгаса. Как известно, Бразилия не подписывала этот пакт. 78 В октябре 1924 года Луис Карлос Престес, тогда 26-летний офицер, возглавивший восстание гарнизонов на юге страны против антинародного правительства Вернардеса, повел повстанцев на север Бразилии. Колонна Престеса в непрерывных боях с правительственными войсками, нанеся поражение восемнадцати генералам, прошла через 14 штатов Бразилии и некоторую часть территории Парагвая 26 тысяч километров; на своем пути Колонна, выполняя волю народа, распределяла землю крестьянам, освобождала политических заключенных, осуществляла другие прогрессивные мероприятия. Колонна несла революционные идеи в народ, поднимая его на борьбу с угнетателями. В феврале 1927 года Колонна была вынуждена перейти границу Боливии и там расформироваться. 79 Селва – влажный, трудно проходимый тропический лес. 80 Глубинные районы Бразилии весьма резко отличаются как в географическом, так и в экономическом отношении от зоны атлантического побережья, отделенные от нее сертаном. Политическая, экономическая и культурная жизнь страны сосредоточена в восточных и южных штатах, прилегающих к океану, а внутренние районы до настоящего времени пребывают в крайне отсталом, неразвитом и даже неосвоенном состоянии. Значительная часть территории республики почти не заселена. 81 Сертан – см. прим. 16 (книга 1 часть 2). 82 Лампион (Виргулино Феррейра) – главарь отрядов безземельных крестьян и батраков – кангасейро, стихийно выступавших в 20-х годах XX века на северо-востоке Бразилии, в сертане, на защиту своих прав, против гнета и произвола помещиков. Движимые лишь чувством мести, кангасейро зачастую скатывались к бандитизму. Используя это обстоятельство, правительство Бернардеса произвело Лампиана в чин капитана бразильской армии и направляло его отряды на борьбу против Колонны Престеса в 1925–1926 годах. 83 Борьба бразильских крестьян против помещиков неоднократно принимала формы вооруженных выступлений, особенно в северо-восточных штатах Бразилии, где поныне сохранились полуфеодальные отношения. По данным, относящимся к описываемому периоду, на 45 миллионов населения страны приходилось около 800 тысяч землевладельцев; примерно 80 процентов всех земель и поныне находится в руках латифундистов, а миллионные массы крестьян лишены земли. Страшная нищета огромной массы сельского населения Бразилии приводила и приводит к постоянным выступлениям крестьян и батраков против своих исконных врагов – латифундистов. 84 «Служба покровительства индейцам» – полуправительственная организация филантропического характера, ставящая своей официальной целью, в частности, содействие защите интересов индейских племен Бразилии, некогда коренных обитателей страны (в итоге «цивилизаторской» деятельности португальских колонизаторов и дискриминационной политики бразильских властей общее количество индейцев не превышает 2–5 процентов ко всему населению республики). Практические результаты деятельности этой организации ничтожны. 85 Бандейранты – предприимчивые завоеватели юга Бразилии времен колонизации XVI–XVIII веков. Во главе полувоенных колонн, составленных из членов семей, друзей и рабов, – каждая из колонн имела фамильное знамя («бандейра»), откуда и пошло название колонизаторов, – они проникали вглубь страны, отвоевывая обширные территории селвы и сертана, порабощая индейцев, отыскивая золото и всячески стремясь к быстрому обогащению. В истории Бразилии более известны бандейранты, направлявшиеся из района нынешнего Сан-Пауло и отодвинувшие границы тогдашней португальской колонии далеко на запад и на юг. 86 Каатинга – пустынные районы, покрытые кустарниковым лесом и кактусами, на северо-востоке Бразилии. 87 Еманжа – богиня ночи, по мифологии бразильских негров. 88 Абесе (ABC) – народное сказание, повествующее о том или ином герое или о каком-нибудь событии. 89 Сеара – наиболее засушливый штат северо-востока Бразилии. Многие жители этого штата зачастую бывают вынуждены в поисках заработка и пропитания выезжать в другие районы Бразилии. 90 Blonde – блондинка (франц.). 91 C'est зa!– Вот как! (франц.). 92 Rasoir– бритва (франц.). 93 Департамент печати и пропаганды – правительственное учреждение, на правах министерства осуществлявшее официальную цензуру над органами бразильской печати и радио, над информационными материалами иностранных корреспондентов, а также ведавшее всеми вопросами пропаганды «нового государства»; приобрело очень большое влияние после переворота 1937 года. 94 Жежэ – уменьшительное от Жетулио; так в бразильских политических кругах именовали Жетулио Варгаса. 95 Подразумевается Варгас, родившийся в семье помещика-скотовода в маленьком степном городке Сан-Боржа, на юге штата Рио-Гранде-до-Сул, и сделавший свою политическую карьеру до переворота 1930 года главным образом в этом штате. 96 Girl – девушка; в данном случае – танцовщица (англ.). 97 Арроба – мера веса, равна 15 килограммам. 98 Крузейро – бразильская денежная единица, введенная I ноября 1942 года, равна милрейсу (см прим. книга 1, часть 1). 99 Тостан – старинная бразильская мелкая монета, десятая часть милрейса (см прим. книга 1, часть 1). 100 Гонзага, Томас Антонио (1744–1809) – известный бразильский революционный поэт, автор романтического произведения «Марилиа де Дирсеу», посвященного его любимой, и многочисленных сонетов. Им написан памфлет «Чилийские письма», направленный против португальского господства. За участие в заговоре 1789 года, возглавлявшемся героем освободительного движения в Бразилии Тирадентесом, сослав в Анголу, где в умер. 101 Camaleвo – хамелеон (португ.). 102 Руи-Барбоза. Жоан (1849–1923) – бразильский буржуазный политический деятель и писатель, вице-президент первого республиканского правительства и один из авторов первой конституции Бразилии. За свои обширные познания в различных областях культуры прозван современниками «ходячей энциклопедией». 103 Piccola– маленькая (итал.). 104 Дворец Елисейских полей – дворец губернатора штата Сан-Пауло в г. Сан-Пауло. 105 Фонтес, Лоуривал – бразильский буржуазный политический деятель, журналист и дипломат; занимал пост генерального директора департамента печати и пропаганды (см. прим. 85), позднее назначен послом в Мексику. 106 Макумба – религиозная церемония бразильских негров с ритуальными танцами. 107 Гринго – презрительное прозвище американцев. 108 «Компания доков Сантоса» – бразильское акционерное общество, владеющее всеми портовыми сооружениями, оборудованием, причалами и механическими ремонтными мастерскими порта Сантос, занимавшего в описываемый период первое место в мире по экспорту кофе (протяженность доков около 5 километров; вместимость складов – 5 миллионов мешков кофе по 60 килограммов каждый). 109 iNo pasarаn!– Они не пройдут! (исп.) 110 Лига – старая португальская единица измерения длины, употребляемая иногда в Бразилии; равна 6172 метрам. 111 Энженьо – полукустарные предприятия по обработке сахарного тростника и изготовлению сахара и кашасы в фазендах, постепенно вытесняющиеся крупными сахарными заводами, предприятиями фабричного типа. 112 Дон Жоан VI – португальский принц-регент (впоследствии король Жоан VI), бежавший в Бразилию после оккупации Португалии наполеоновскими войсками в 1808 году; предпочитал богатую южноамериканскую колонию своей родине, до крайности разоренной войнами, и не испытывал желания вернуться в Лиссабон. Выехать из Рио-де-Жанейро Жоана VI вынудила лишь угроза лишиться трона в связи с начавшейся в 1820 году португальской буржуазной революцией. 113 Рабство в Бразилии существовало с начала ее колонизации в XVI веке и до 1888 года. Поскольку порабощение местных индейцев не привело к желаемым результатам, португальским колонизаторам пришлось прибегнуть к использованию труда африканских негров. За триста лет работорговли из Африки в Бразилию было ввезено несколько миллионов рабов. 114 In loco– на месте (лат.). 115 Dinner-jacket– смокинг (англ.). 116 Алеижадиньо («Искалеченный») – прозвище выдающегося бразильского скульптора-самоучки, метиса Антонио Франсиско Лисбоа (1730–1814), жившего в Минас-Жераисе и создавшего там монументальные статуи пророков и другие скульптурные фигуры из многоцветного дерева и мягкого минерала. Свое прозвище Алеижадиньо получил из-за тяжелых повреждений, причиненных проказой. 117 Корбюзье – современный французский архитектор, проводивший в своем творчестве принципы конструктивизма. 118 Леблон, Ипанема и Копакабана, а также упоминаемая далее Гавеа – аристократические районы Рио-де-Жанейро, расположенные на Атлантическом побережье. 119 15 ноября – день свержения монархии и провозглашения республики в Бразилии (1889 г.), отмечается как национальный праздник. 120 Trиs chic– очень шикарна (франц.);trиs Cфte d'Azur – совсем как на Лазурном побережье (на юге Франции) –(франц.). 121 Epatante– замечательная (франц.). 122 Enfant-gвtй– избалованное дитя (франц). 123 Иммиграция японцев в Бразилию особенно увеличилась в 30-х годах XX века, когда японские власти стали усиленно поощрять ее, предоставляя своим гражданам всяческую помощь для развертывания коммерческой и производственной деятельности. Японцы, в частности, были заинтересованы в выращивании хлопка для японской промышленности (в 1937 году из каждых трех тюков хлопка, вывезенного из Бразилии, один тюк являлся продукцией японских колонистов). Японские власти осуществляли неограниченный контроль над японской колонией, численность которой достигла 200 тысяч человек, сосредоточившихся в Сан-Пауло и других штатах. Гораздо позднее правительство Варгаса, обеспокоенное тем, что японцы чуть ли не образовали «японское государство в Бразилии», стало принимать меры по ограничению въезда японских иммигрантов, внеся изменения в статус об иммигрантах и в законы о натурализации. 124 В Бразилии, особенно на северо-востоке страны, полковниками часто называли крупных плантаторов-латифундистов, хотя бы они и не имели никакого отношения к армии. 125 В бразильской буржуазной литературе нынешнего столетия появлялись разнообразные «модернистские» течения, группы и группировки, «школы». Модернистское литературное направление, отражая упадок буржуазной культуры, выливалось в искусственное, претенциозное формотворчество – реакционно-идеалистическое по своему содержанию, чуждое интересам народа, оторванное от исторических и социальных процессов, от действительности. Модернистские литераторы стали модными в реакционных кругах после переворота 1937 года. 126 Де Андраде, Марио (1893–1945) – видный представитель «модернистской» поэзии в Бразилии, автор «Конца зол», «Обезумевшей Паулисеи» и других произведений формалистического толка. Де Алкантара-Машадо, Антонио – бразильский поэт, один из заурядных «модернистских» литераторов. 127 Ватапа – северо-бразильское национальное кушанье из маниоковой муки, кусочков рыбы или креветок, мяса, земляных орехов, кокосового молока и пальмового масла. 128 Равиолезиньос (уменьшительное от итальянского «равиоли») – итальянское кушанье, несколько напоминающее пельмени, популярное в Сан-Пауло благодаря проживающим там многочисленным итальянским иммигрантам. 129 Мате – дерево, произрастающее в Парагвае, Аргентине и Бразилии, из листьев и молодых порослей которого – высушенных и измельченных в порошок – изготовляется напиток, обладающий тонизирующим свойством и употребляющийся вместо чая. 130 Судетский вопрос – вопрос о присоединении Судетской области Чехословакии к Германии – был поднят гитлеровской дипломатией еще в 1937 году с целью захвата в дальнейшем всей Чехословакии и подготовки агрессии против СССР. После аннексии Австрии гитлеровцы стали нагло настаивать на удовлетворении требований немецких фашистов, живших в Судетах, о присоединении этой области к Германии. Англия и Франция, несмотря на то, что последняя была связана с Чехословакией союзными обязательствами, начали оказывать давление на чехословацкое правительство, чтобы заставить его уступить требованиям Гитлера. За спиной Чехословакии правительства Англии и Франции, проводившие политику пособничества фашистским агрессорам под флагом «невмешательства», договорились с Гитлером и Муссолини о созыве конференции премьер-министров четырех стран для оформления передачи Судетской области. По соглашению от 29 сентября 1938 года, принятому на Мюнхенской конференции, Чехословакия была обязана завершить передачу Судетской области в десятидневный срок. 14–15 марта 1939 года гитлеровская Германия полностью оккупировала Чехословакию, преданную своими западными союзниками. Только СССР неизменно и активно выступал в защиту Чехословакии. 131 Речь идет о подготовке конференции премьеров Даладье (Франция) и Чемберлена (Англия) с Гитлером и Муссолини по вопросу о разделе Чехословакии. Конференция состоялась 29–30 сентября 1938 года в Мюнхене. 132 Дочь Престеса, Анита-Леокадия, родилась в ноябре 1936 года в тюрьме гестапо в Гамбурге, куда была брошена Ольга Бенарио-Престес после ее высылки правительством Варгаса в гитлеровскую Германию (см. прим. 40). Анита находилась в тюрьме по январь 1938 года, когда под воздействием международной кампании гитлеровцы были вынуждены передать ребенка матери Престеса, прибывшей для этого в Германию. 133 «Томист» – по католической терминологии приверженец религиозно-философской доктрины Томаса (Фомы) Аквинского, одного из крупнейших представителей средневековой схоластики, проповедовавшего мракобесие и идеи упрочения власти католической церкви над государством. 134 Гуанабара – дворец, до недавнего времени служивший официальной резиденцией главы правительства в Рио-де-Жанейро. В расположенном неподалеку дворце Катете размещены служебные кабинеты, происходят заседания совета министров, приемы и т. п. 135 В так называемой «паулистской школе» бразильской живописи (см. прим. 45) идеи реакционного формалистического абстракционизма в искусстве проводила «Группа независимых», которая организовывала в «Майском салоне» в Сан-Пауло выставки натюрмортов и портретов, выполненных в выхолощенном абстракционистском духе, в виде бессмысленного сочетания линий, пятен, геометрических фигур. 136 В конспиративных целях, в условиях подполья, организации бразильской компартии в то время иногда выдавали партдокументы, отпечатанные на ткани. 137 После официального запрета в ноябре 1937 года «Интегралистского действия» интегралисты, маскируя свои организации под видом спортивных и культурных обществ, начали подготовку к захвату власти в стране. Они встретили поддержку со стороны гитлеровского посольства в Рио-де-Жанейро, стремившегося противодействовать переориентации Варгаса с Германии на своего старого союзника – США. 10 мая 1938 года интегралисты вместе с другими буржуазными оппозиционерами пытались поднять мятеж, провозгласив Плинио Салгадо диктатором Бразилии. Неудавшийся путч интегралистов привел к некоторому охлаждению германо-бразильских отношений. 138 Фидалго – дворянин «по крови», по происхождению. 139 Правительство Варгаса запретило деятельность свободных профсоюзов, вместо которых были организованы по фашистскому образцу корпоративные государственные синдикаты и национальные конфедерации, «объединявшие» трудящихся и предпринимателей. Синдикаты и конфедерации подчинялись министерству труда, по своему усмотрению назначавшему и сменявшему их руководство. Антинародные мероприятия властей в области так называемого «трудового» законодательства встречали резкий отпор со стороны трудящихся Бразилии. 140 Де Кеведо-и-Вильегас, Франсиско (1580–1645) – видный испанский писатель, беспощадно обличавший разложение правящих классов времен упадка испанской империи. 141 Коко и катеретэ – народные танцы и музыка в ритме этих танцев, негритянского и индейского происхождения, распространенные в северо-восточных штатах Бразилии. 142 Маман – тропическое «дынное дерево», плоды которого несколько напоминают своим внешним видом дыню. Гойябейра (гуява) – южно-бразильское фруктовое дерево. 143 От имени американского боксера Джека Демпсея – чемпиона мира по боксу в 1919–1926 годах. 144 Вскоре после основания своего ордена вXVI веке иезуиты стали появляться и в Бразилии, где вместе с португальскими колонизаторами приняли активное участие в завоевании «крестом и мечом» новых земель и обращении индейцев в рабство. Намереваясь создать в Бразилии один из бастионов воинствующего католицизма, иезуиты создали в стране множество своих миссий, в которых жестоко эксплуатировали индейцев. Особенно пагубным было влияние иезуитов и других церковников в области просвещения, захваченного ими в свои руки. До сих пор католическая церковь в Бразилии осуществляет контроль почти над всеми начальными школами и большинством средних учебных заведений. 145 Аранья, Освалдо (род. в 1894 г.) – бразильский буржуазный политический деятель. Одно время примыкал к Колонне Престеса; участвовал в перевороте 1930 года и вошел в состав кабинета Варгаса. Будучи назначен в марте 1938 года министром иностранных дел, Аранья продолжал осуществлять внешнюю политику Варгаса – политику лавирования между гитлеровской Германией и Соединенными Штатами вплоть до 1941 года, когда бразильское правительство, отойдя от держав «оси», заняло проамериканский курс. 146 Гарсиа-Лорка, Федерико (1889–1936) – народный поэт и драматург Испании; был зверски убит франкистами в Гранаде на девятнадцатый день фашистского мятежа. 147 Французское правительство, еще ранее отказавшись от программы Народного фронта (см. прим. 24), в октябре 1938 года открыто порвало с Народным фронтом и стало на путь пособничества фашистским агрессорам. 148 Лузитанский – португальский. В бразильской литературе иногда употребляется древнее латинское наименование Португалии – Лузитания. 149 Машадо-де-Ассиз, Жоакин Мариа (1839–1908) – один из крупных бразильских литераторов, считающийся классиком литературного португальского языка. 150 Кафка, Франц (1883–1924) – австрийский писатель, в произведениях которого выражены религиозно-мистические и сюрреалистские идеи. 151 Жид, Андрэ – реакционный французский писатель. Дос-Пассос, Джон – американский буржуазный писатель формалистского толка. 152 Прототипом доктора Понтеса в романе является, по-видимому, бразильский врач Понтес-де-Миранда, привлеченный федеральной полицией к проведению пыток «по научному методу» над арестованными антифашистами. Доктор Понтес-де-Миранда покончил жизнь самоубийством под гнетом сознания своей вины в этих преступлениях против человечности. 153 Так назывался закон по борьбе с алкоголизмом, принятый конгрессом США в 1920 году и отмененный в 1933 году; поставленной цели он фактически не достиг, зато содействовал развитию контрабанды и спекуляции спиртными напитками. 154 Один из крупнейших современных физиков Альберт Эйнштейн был вынужден эмигрировать в США из Германии после прихода Гитлера к власти в 1933 году; такое же решение пришлось принять известному немецкому писателю Томасу Манну. Сальвадор Дали – испанский художник-сюрреалист, работавший в Париже, выехал в Соединенные Штаты в связи с гитлеровской оккупацией Франции. 155 Бразилия занимает второе (после США) место среди стран американского континента по количеству негритянского населения. 12,5 миллионов, или 28 процентов бразильских граждан, – негры или лица негритянского происхождения. Негры привозились в Бразилию в качестве рабов португальскими колонизаторами и работорговцами в XVI–XIX веках. Под прямым американским влиянием (через кино, радио, литературу и другие каналы пропаганды) в Бразилии насаждается расовая антинегритянская дискриминация. 156 «Политика доброго соседа» – политический курс правительства США, объявленный президентом Ф. Рузвельтом в марте 1933 года по отношению к странам Латинской Америки. Сменив проводившуюся до этого «политику большой дубины», новый политический курс предусматривал отказ от практиковавшегося открытого, в том числе и вооруженного, вмешательства США в латиноамериканские страны и установления над ними экономического и политического контроля. Отношения между США и республиками Латинской Америки в годы «политики доброго соседа» ознаменовались усилением политической, экономической и финансовой экспансии американского империализма, но более тонкими и гибкими методами. Под флагом «политики доброго соседа» американские империалисты участвовали в подавлении восстания Национально-освободительного альянса в 1935 году и поддержали переворот Варгаса в 1937 году, а также перевороты Дутра–Гойс-Монтейро в 1945 году и Кафэ-Фильо в 1954 году. 157 Амазония – обширнейшая область Бразилии, включающая бассейн реки Амазонки и ее притоков (в Амазонии расположены два штата и три федеральные территории). 158 Бестселлеры – наиболее ходкие американские издания, выходящие большими тиражами. 159 По соглашению с правительством Бразилии итальянская авиационная компания «ЛАТИ» связывала бразильский порт Натал с Римом через Дакар (Французская Западная Африка). Гитлеровцы широко использовали в своих целях воздушную связь «ЛАТИ» с Бразилией – единственную в то время авиасвязь между державами «оси» и американским континентом. Бразилия тогда была покрыта сетью внутренних авиалиний германской компании «Кондор», официально считавшейся бразильским предприятием; на самом деле она являлась филиалом «Дейтше люфтганза». 160 О'Нейл, Юджин (род. в 1888 г.) – американский буржуазный драматург, автор упадочнических, реакционных по своей тенденции произведений. 161 В Бразилии проживают наследники последнего бразильского императора ПедроII и «претенденты на бразильский трон» братья де Браганса Орлеане, которым было разрешено сюда возвратиться через тридцать лет после свержения монархии и изгнания членов императорской фамилии с бразильской территории. Правительство Бразилии, не проявляющее заботы о насущных нуждах голодающих народных масс страны, опекает последышей бесславной монархии, выплачивая им субсидию и предоставив для них резиденцию в курортном городке Петрополис, где некогда жил император. 162 Традиционный ежегодный карнавал, проводимый повсеместно в феврале или марте, в течение трех суток, очень популярен в Бразилии. На большой карнавал в Рио-де-Жанейро, о котором идет речь дальше, съезжаются участники даже из других городов. 163 «Диарио офисиал» – официальный орган бразильского правительства. 164 В конце января 1939 года под нажимом германо-итальянских интервентов и франкистских войск пала Барселона. Захватив столицу Каталонии, фашисты повели наступление на север и спустя две недели подошли к франко-испанской границе, через которую продолжался «великий исход» испанского народа, предпочитавшего покинуть родную землю, но не сдаться врагу. Еще до падения Испанской республики 28 февраля французское правительство объявило о признании фашистского режима Франко. В начале марта 1939 года пал Мадрид. 165 Легион «Кондор» – эскадрилья гитлеровской военной авиации, действовавшая в Испании в войну, 1936–1939 годов и особо проявившая себя бандитскими налетами на беззащитное мирное население Испанской республики. 166 Имеются в виду факты массового переселения жителей Сеары и других северо-восточных штатов Бразилии из-за длительных сильных засух и наводнений. Стихийные бедствия до сих пор являются серьезной опасностью для населения бразильских сертанов, обреченного на нищенское существование в условиях полуфеодального землевладения. 167 В ночь на 15 марта 1939 года гитлеровские войска вступили в пределы Чехословакии, оккупировав территорию республики, за исключением ее юго-восточных районов, захваченных фашистской Венгрией. 17 марта правительство фашистской Германии известило об образовании «протектората Богемия и Моравия». Словакия по приказу из Берлина была объявлена «независимым» государством, во главе которого гитлеровцы поставили марионеточное «правительство» из своих агентов. 168 Речь идет о советско-германском договоре о ненападении, подписанном в августе 1939 года в Москве по предложению германского правительства. Заключение советско-германского договора явилось мудрым и дальновидным шагом внешней политики Советского Союза, не только разрушившим замыслы империалистических кругов Англии и Франции об изоляции СССР, с тем чтобы направить против него гитлеровскую агрессию, но и оказавшим влияние на исход второй мировой войны. На заключение советско-германского договора о ненападении американские и англо-французские поджигатели войны ответили истерической антисоветской пропагандой. 169 1сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу. Еще ранее обязавшиеся оказать Польше помощь правительства Англии и Франции объявили войну Германии, хотя и не намеревались переходить к действительным военным действиям, рассчитывая, что захват гитлеровцами Польши ускорит нападение Германии на Советский Союз. После первых же ударов германского фашизма послеверсальское буржуазно-помещичье польское государство потерпело крах, а его диктаторы, проводившие антинародную политику, полностью обанкротились и бежали за пределы Польши, бросив на произвол судьбы страну, армию и народ. Вследствие того, что в Польше создалась обстановка, чреватая случайностями и неожиданностями, могущими представить угрозу для безопасности СССР, советское правительство, взяв под свою защиту народы западной Белоруссии и западной Украины, приступило к созданию «восточного» фронта против гитлеровской агрессии. Так был прегражден путь фашистскому агрессору к дальнейшему продвижению к жизненно важным центрам Советского Союза. Западные белорусы и западные украинцы воссоединились со своими братьями в единых советских республиках Белоруссии и Украины. 170 Бек, Юзеф (1894–1944) – полковник, министр иностранных дел реакционной клики, находившейся у власти в Польше до второй мировой войны. Своей антинациональной политикой поставил Польшу под удар со стороны германского фашизма в сентябре 1939 года. 171 Mon Dieu! – Боже мой! (франц.) 172 После возвращения с дочерью Престеса Анитой-Леокадией из гитлеровской Германии (см. прим. 115) мать руководителя бразильского народа – Леокадия Престес – поселилась в Мексике. В 1943 году Леокадия Престес умерла в городе Мехико. Анита-Леокадия выехала из Мексики в Бразилию после освобождения Луиса Карлоса Престеса из тюрьмы в 1945 году. 173 Албания была аннексирована фашистской Италией в апреле 1939 года. 174 Дутра, Эурико Гаспар (род. в 1885 г.) – бразильский генерал; входил в состав кабинета Варгаса в качестве военного министра. Был известен как ярый приверженец гитлеровской Германии, тесно связанный с интегралистами. Награжден Гитлером орденом Железного креста. После разгрома гитлеровской Германии занял проамериканскую позицию. Был президентом Бразилии в 1945–1950 годах. 175 Very good– очень хорошо (англ ). 176 Кангасейро – см. прим. 77 и 78. 177 Осенью 1939 года правительство Советского Союза предложило финляндскому правительству заключить пакт о взаимопомощи. По указке империалистов США, Англии и Франции тогдашнее финляндское правительство сорвало переговоры о заключении пакта, а затем белофинская военщина провокационно обстреляла через границу советские воинские части. 29 ноября дипломатические отношения между СССР и Финляндией были прерваны. 30 ноября финляндское правительство объявило войну Советскому Союзу и выступило с призывом к капиталистическим государствам помочь ему в антисоветской войне. Толкнув Финляндию на преступную войну против Советского Союза, международная реакция оказывала ей всяческую помощь. Несмотря на это, белофинны были разгромлены Красной Армией, и 12 марта 1940 года советское правительство заключило с Финляндией мирный договор, укрепивший оборону СССР на северной границе. 178 Да Кунья, Эуклидес (1866–1909) – крупный бразильский писатель; в своих произведениях изображал жизнь и борьбу крестьянских масс Бразилии, разоблачал реакцию и феодализм. С большой симпатией да Кунья следил за революционными событиями 1905 года в России, выразив убеждение в том, что Россия станет «титаническим и непобедимым стражем, часовым всей европейской цивилизации». 179 «Сертаны» – название нашумевшего романа Эуклидеса да Кунья, рассказывавшего о трагической действительности полупустынных районов страны – сертана, где царит произвол феодалов и совершенно бесправны трудящиеся. 180 В районе Канудос, на севере штата Баия, в 1896 году произошло восстание кабокло, жителей сертана, поднявшихся на защиту своих прав, против помещичьего гнета. Восстание носило стихийный характер, не имело ни политического руководства, ни определенной программы, но пользовалось поддержкой всего остального населения и было с трудом подавлено правительственными войсками. 181 Habitat– зона распространения (лат.). 182 ФБР (федеральное бюро расследований) – разведывательная и контрразведывательная служба США. 183 5 июля 1924 года в Сан-Пауло вспыхнуло восстание местного гарниаона, к которому присоединились рабочие и мелкая городская буржуазия. Повстанцам удалось захватить и в течение трех недель удерживать город, почти полностью окруженный правительственными войсками. И только после того, как реакционное правительство Бернардеса бросило на Сан-Пауло в подкрепление своим частям 10-тысячную армию, повстанцы покинули город и отошли на запад, вглубь страны, где продолжались боевые действия. В октябре 1924 года во главе со своим командиром Луисом Карлосом Престесом восстал железнодорожный батальон в городе Санто-Анжело, в штате Рио-Гранде-до-Сул. Революционеры решили пойти на соединение с повстанцами Сан-Пауло, которые вели оборонительные бои в районе реки Параны. На призыв Престеса откликнулись другие гарнизоны юга. В марте 1925 года на помощь повстанцам Сан-Пауло, потерпевшим перед этим тяжелое поражение и отступавшим под напором превосходящих сил противника, подошла Колонна Престеса (см. прим. 73). Отсюда объединенные революционные силы по плану, выработанному Престесом, с боями начали продвижение на север. 184 Диас-Лопес, Изидоро – бразильский генерал; возглавил восстание 5 июля 1924 года в Сан-Пауло, однако, побоявшись вооружить рабочих, обрек восстание на неудачу. После отступления повстанцев из города Сан-Пауло безуспешно командовал повстанческими войсками, проявляя нерешительность и пассивность. Отошел от активного участия в революционном движении после соединения его частей с Колонной Престеса. 185 Имеется в виду движение «Либерального альянса» – буржуазной политической организации, созданной в 1930 году для поддержки кандидатуры Жетулио Варгаса на пост президента республики. «Либеральный альянс» широко использовал в пропагандистских целях популярность среди народных масс Колонны Престеса, отдельные участники которой, перейдя позднее в лагерь реакции, играли активную роль в «Либеральном альянсе», стремясь таким путем пробраться к власти. За ширмой этой организации действовали американские империалисты, оказывавшие помощь Варгасу в его борьбе против ставленника англичан. Освалдо Аранья вел переговоры с Луисом Карлосом Престесом об участии бразильского народного героя в Либеральном альянсе, но Престес, публично вскрыв антинациональную сущность этого «альянса», отказался присоединиться к нему. 186 Байшада Флуминенсе – болотистая низменность в районе Рио-де-Жанейро, прилегающая к бухте Гуанабара; представляла собой очаг малярии и других тропических болезней С 1935 года федеральное правительство вынуждено было принимать меры по осушению и расчистке болот в этом районе. 187 В мае 1940 года гитлеровские войска вторглись в пределы Франции, обойдя линию Мажино и прорвав англо-французский фронт на реке Маас, и повели наступление на Париж с северо-запада и северо-востока. Война вскрыла предательскую политику правящих буржуазных кругов Франции, приведших страну к катастрофе. Стоявшие у власти изменники и пораженцы, опасаясь восстания народа, не желавшего капитулировать перед врагом, уже 14 июня открыли гитлеровцам путь в Париж а 22 июня заключили с Гитлером в Компьене позорное соглашение о «перемирии» на исключительно тяжелых и унизительных для Франции условиях, продиктованных германским командованием. 188 Имеется в виду демагогический фашистский лозунг о том, что национал-социалистский режим («Великогерманская третья империя») будет существовать тысячелетия. 189 Речь идет об обращении Центрального комитета Коммунистической партии Франции (опубликованном 6 июня 1940 года) об организации обороны Парижа, о национальной войне за независимость и свободу. 190 11 июня 1940 года, на следующий день после нападения фашистской Италии на Францию, Варгас выступил на борту канонерки в бухте Рио-де-Жанейро с речью, которая была расценена в Соединенных Штатах как выступление против западных «демократий» и публичное выражение симпатии державам «оси». Отклики в США на речь Варгаса заставили его срочно бить отбой: министр иностранных дел Аранья и департамент печати и пропаганды поспешно заявили, что речь была «неправильно передана», что не предполагается никаких изменений в бразильской внешней политике и что Бразилия будет следовать «принципам континентальной солидарности». Дипломатический инцидент с речью Варгаса ярко показывал, что бразильский президент в то время не желал порывать с фашистскими державами, с которыми Бразилия была связана, кроме всего прочего, выгодными для нее экономическими соглашениями, но, вместе с тем, он не был заинтересован и в обострении отношений с Соединенными Штатами, с помощью которых пришел к власти и от которых получал кредиты Бразильское правительство еще в 1939 году объявило о своем нейтралитете. 191 Тирадентес, Жоакин Жозе да Силва-Шавьер (1748–1792) – национальный герой борьбы бразильского народа за свою независимость, возглавил движение против португальского колониального господства. После раскрытия заговора был казнен. Прозвище «Тирадентес» («Дергающий зубы») получил из-за своей прежней профессии дантиста. 192 В августе 1936 года, через несколько месяцев после ареста Луиса Карлоса Престеса, рассматривалось дело по обвинению его в «дезертирстве». Престес не мог присутствовать на заседании, потому что полиция провокационно отказалась «гарантировать» доставку в здание суда и поведение на процессе «опасного преступника». По изучении дела суд был вынужден вынести оправдательный приговор. Несмотря на это, Престес не был освобожден, и правительство, произвольно аннулировав решение суда, передало «дело» Престеса на разбор военного трибунала. Выступая на заседании военного трибунала, Престес в своей речи разоблачил инсценировку процесса, показал всю несостоятельность выдвинутых против него обвинений и потребовал, чтобы ему, находившемуся в условиях строжайшей тюремной изоляции, дали возможность подготовить защиту. Военному трибуналу пришлось отложить заседание. 193 Председателем сессии «трибунала национальной безопасности» по «делу» Престеса был назначен майор Майнард Гомес. Во время похода Колонны Престеса, в 1924 и 1926 годах, Майнард Гомес, тогда лейтенант, дважды поднимал восстание в северо-восточном штате Сержипе против правительства президента Бернардеса. Пытавшийся использовать революционное движение в своих личных авантюристических целях, Гомес позднее открыто изменил народу и, перейдя в лагерь реакции, стал выслуживаться перед Варгасом. 194 Бразильский народ называет Престеса и капитаном и генералом. Возглавив в октябре 1924 года восстание гарнизона в городе Санто-Анжело, в штате Рио-Гранде-до-Сул, он имел воинское звание капитана инженерных войск. После соединения повстанцев Рио-Гранде-до-Сул и Сан-Пауло в марте – апреле 1925 года Луис Карлос Престес был произведен в полковники, а в январе 1926 года ему было присвоено звание генерала революционной армии. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 |
|||||||