 |
|
Популярные авторы:: Горький Максим :: Борхес Хорхе Луис :: Азимов Айзек :: Грин Александр :: Толстой Лев Николаевич :: Раззаков Федор :: БСЭ :: Лесков Николай Семёнович :: Чехов Антон Павлович :: Лондон Джек Популярные книги:: The Boarding House :: Долгожданное возвращение :: Опасайтесь лысых и усатых :: Упражнения по стилистике русского языка :: Эсперанса :: Муму :: Дюна (Книги 1-3) :: Корней Васильев :: Рождественский сюрприз :: Three Men on the Bummel |
Гамма временModernLib.Net / Научная фантастика / Абрамов Александр Иванович / Гамма времен - Чтение (стр. 1)
Александр Абрамов, Сергей Абрамов Гамма времен – Что такое гамма, маэстро? – Это лесенка, по которой взбирается звук-хамелеон, на каждой ступени меняя свою окраску. – Разве только звук? ДО Мы возвращались с вечернего заседания Совета Безопасности вместе с моим московским коллегой Ордынским, которого, должно быть, из-за его фамилии, как и меня, все в пресс-центре ООН считали поляком: Ордынский – Глинский не столь уж большая разница для американского уха. По дороге домой я предложил ему провести где-нибудь оставшиеся до ночи часы, но он был занят, и мне пришлось удовлетвориться ужином в одиночестве. Я остановил такси у третьесортного бара «Олимпия» и вышел. До моей гостиницы было всего несколько кварталов, и в любом случае отсюда я мог добраться пешком. В баре меня уже знали, и обычно неторопливый бармен Энтони, ни о чем не спрашивая, молниеносно подал мне пиво и горячие сосиски с какой-то острой приправой. Вокруг было пусто или почти пусто, только в углу за портьерой ужинали две незнакомые девушки да у самой стойки лениво потягивал виски сухощавый старик в коротком дождевике. Он мельком взглянул на меня, о чем-то спросил у Энтони и снова оглянулся с нескрываемым любопытством. А когда я покончил с сосисками, он, не спрашивая разрешения, подсел к моему столику. Я поморщился. – Непринужденно и откровенно, – засмеялся он. – Не любите случайных знакомств? – Честно говоря, не очень. Он и тут не ушел, а перенес ко мне свое виски. – Довольно странно для журналиста, – сказал он. – Любое знакомство может оказаться источником информации. – Предпочитаю для информации другие источники. – Знаю от Энтони. Толчетесь в кулуарах ООН и воображаете, что это журналистика? Я молча пожал плечами: не спорить же с чудаком, а может быть, с чужаком. – Ведь вы поляк, – заговорил он по-польски, с той элегантно небрежной манерой, присущей лишь варшавянину. – К сожалению, не могу оценить ваших корреспонденции: не знаю нынешних польских газет. «Глос поранны» помню. «Курьер цодзенны» тоже. А с сорок четвертого вообще ничего не читаю по-польски. – В сорок четвертом мне было четыре года, – сказал я. – А мне сорок. Чтобы не было недоразумений, определюсь политически. – Он поклонился сухо, по-военному. – Бывший майор Армии крайовой Лещицкий Казимир-Анджей. Здесь любят два имени, а тогда в Польше мне было достаточно и прозвища. Какого? Неважно. Важно было только долбить: вольность, рувность и неподгледлость. И мы долбили, пока не послали все это к чертям собачьим. И я послал, когда меня в сорок четвертом англичане вывезли в Лондон и тут же… продали в Штаты. Я не понял. – Как – продали? – Ну, скажем мягче: переуступили. Подбросили кое-что мне и моему шефу, доктору Холдингу, погрузили в подводную лодку и перевезли через океан. Теперь могу представиться уже как бывший сотрудник Эйнштейна, бывший профессор Принстонского университета и бывший автор отвергнутой наукой теории дискретного времени. Печальный итог множества множеств. – А сейчас? – спросил я осторожно. – Что же вы делаете сейчас? – Пью. Он пригладил свои седые, подстриженные ежиком волосы над высоким лбом и носом с горбинкой. Не то Шерлок Холмс, постаревший лет на двадцать, не то Дон-Кихот, сбривший усы и бородку. – Не думайте: не опустился и не спился. Просто реакция на десятилетнюю изоляцию. Нигде не бывал, никого не видал, ничего не читал. Только работал до тридцать седьмого пота над одной рискованной научной проблемой. Вот так. – Неудача? – посочувствовал я. – Бывают удачи обиднее неудач. От обиды и рассеиваюсь. Тянет, как Горького, на дно большого города. А на дне – к соотечественникам. – Не так уж их здесь много, – сказал я. Он скривился, даже щека дернулась. – А что вы видите из коридоров ООН? Или из окна гостиницы? Сядьте на автобус и поезжайте куда глаза глядят. А потом сверните на какую-нибудь вонючую улицу. Поищите не драг-соду, а кавиарню с домашним тестом. Кого только не встретите – от бывших андерсовцев до вчерашних бандеровцев. Я опять поморщился: разговор принимал не интересующее меня направление. Но Лещицкий этого не заметил, на него или действовал алкоголь, или просто желание выговориться перед благоприобретенным слушателем. – Они многое умеют, – продолжал он, – плакать о прошлом и проклинать настоящее, метать банк до утра и стрелять не хуже итальянцев из Коза ностра. Одного только не знают: как нажить капитал или вернуться к пенатам за Вислу. Их не волнует встреча Гомулки с Яношем Кадаром, но о письмах моего однофамильца Лещицкого проговорят всю ночь или убьют вас только за то, что вы знаете, где эти письма спрятаны. – Что за письма? – поинтересовался я. – Не знаю. Лещицкий был агентом каких-то подпольных боссов. Говорят, что его письма могут отправить одних на родину, а других – на электрический стул. Кажется, в городе нет ни одного поляка, который бы не мечтал найти эти письма. – Один есть, – засмеялся я. – Вас как зовут? – вдруг спросил он. – Вацлав. – Значит, Вацек. Мне можно, я тебе в отцы гожусь. Так вот, Вацек, ты телок, поросенок, кутенок, чиж. Ты даже не жил, ты прорастал. Ты не тонул в варшавских катакомбах и не отсиживался в лесах и болотах после войны. Ты сосал молочко и топал в школу. Потом в университет. Потом кто-то научил тебя писать заметки в газету, а кто-то устроил заманчивую командировку в Америку. – Не так уж мало, – заметил я. – Ничтожно мало. Ты даже в этом страшном городе рассчитываешь, как в коконе, прожить. Думаешь, что ничего с тобой не случится, если будешь возвращаться домой до двенадцати и не заводить случайных знакомств. Дай руку. Он согнул мою руку и пощупал бицепсы. – Кое-что есть. Спортом занимался? – Занимался. – Чем именно? – Боксом немножко. Потом бросил. – Почему? – Бесперспективно, – сказал я равнодушно. – Чемпионом не станешь, а в жизни не понадобится. – Как знать? А вдруг понадобится?.. – А вы не беспокойтесь о моем будущем, – оборвал я его и тут же пожалел о своей резкости. Глупо откровенничать с посторонним человеком, еще глупее раздражаться. Впрочем, он, казалось, совсем не обиделся. – Почему? – спросил он. – Почему бы мне и не побеспокоиться? – Хотя бы потому, что не всякое будущее меня устроит. – Ты выберешь сам. Я только подскажу. Это было уже совсем невежливо, но я не выдержал: рассмеялся. Он опять не обиделся. – Как подскажу? А вот так… – Он подбросил на ладони что-то вроде портсигара со странным сиреневым отливом металла и какими-то кнопками на боку. – Спасибо, – сказал я, – но я только что курил. – Это не портсигар, – назидательно поправил Лещицкий, тут же спрятав его в карман, словно боялся, что я захочу посмотреть поближе. – Если уж сравнивать его с чем-нибудь, то, пожалуй, с часами. – Я что-то не видел циферблата на этих часах, – съязвил я. – Они не измеряют время, они его создают. Его странная торжественность не переубедила меня. Все ясно: гений-одиночка, изобретатель перпетуум-мобиле, ученый-маньяк из фантастических романов Тейна. Встречался я и с такими у себя в варшавской редакции. Но Лещицкий даже не обратил внимания на мою невольную скептическую улыбку. Глядя куда-то сквозь меня, он негромко продолжал, словно размышляя вслух: – А что мы знаем о времени? Одни считают его четвертым измерением, другие – материальной субстанцией. Смешно! Эйнштейновский парадокс и звонок будильника по утрам несовместимы. И долго еще будут несовместимы, пока время не откроет нам своих тайн: произвольно оно или упорядочено, непрерывно или скачкообразно, конечно или бесконечно. И есть ли у него начало или наше прошлое так же безгранично, как и будущее? И есть ли кванты времени, как уже есть кванты света? Здесь мы и разошлись с великим Эйнштейном, здесь споткнулся даже смелейший из смелых – Гордон: «Это слишком безумно, Лещицкий, слишком безумно для того, чтобы быть правильным». – А не кажется ли вам, пан Казимир… – попробовал было я остановить этот малопонятный мне монолог. Но Лещицкий тут же перебил меня, вздрогнув, как внезапно и грубо разбуженный: – Прости, Вацек. Я забыл о тебе. Ты изучал когда-нибудь математику? Я пролепетал что-то о логарифмах. – Я так и думал. Ну что ж, попробую объяснить в этих пределах. Мы слишком упрощенно представляем себе физическую сущность пространства – времени. Оно более многообразно, чем нам кажется. Если цепь событий во времени не только в мире, но и в жизни каждого индивидуума изобразить некоей условной линией в четырехмерном пространстве, то в каждой ее точке будут ветвиться и события, и время, изменяясь и варьируясь по бесконечно разнообразным путям, и в каждой точке этих ветвей будут ветвиться иначе, и так далее без конца. Это как дерево, Вацек: кто знает, в какую ветку придет капля сока, подымающаяся из земли? – Значит, жертва может уйти от убийцы, а полководец от поражения, если вовремя свернуть по другой ветке времени? Вы шутите, пан Лещицкий. Я все еще не мог подобрать нужный тон для этого разговора. Но Лещицкий не шутил. – Бесспорно, – подтвердил он. – Надо только найти точку поворота. – А кто ж это может? – Немножко я. Интересуешься, почему я? – Нет. Почему немножко? – Перестройка времени даже в масштабе года сложный процесс. Нужны большие мощности. Миллиарды киловатт. А я работал как алхимик, как тот ученый псих-одиночка, о котором ты, вероятно, подумал. Вот и создал пока только селектор. Название, конечно, приблизительное. Но у прибора избирательная направленность: он выбирает вектор, тот поворот времени, где уже другая система отсчета. Мощность его не более часа, иногда даже меньше, в зависимости от напряженности твоего времени. На эту напряженность рассчитана и настройка: селектор может выбрать из всех вариантов твоего ближайшего будущего самые напряженные четверть часа. Или полчаса, даже час… – А дальше? – Ты возвращаешься к исходной точке. На большее мощность прибора не рассчитана. Конечно, при наличии средств и возможностей, какими обладает, скажем, ядерная физика, я мог бы перестроить время в масштабе столетий. Но кто даст мне эти средства? Пентагон, пожалуй, даст. Гитлер отдал бы половину Европы за эту возможность в сорок третьем году. А когда это поймут Рокфеллеры, я стану богом. Но тут я честно говорю: «Нет!» – и закрываю лавочку. Человечество еще не выросло, чтобы получать такие подарки. – Есть же социалистические страны, – сказал я. – Зачем же им перестраивать будущее? Они сами строят его, исходя из разумных предпосылок настоящего. – Ну, а интересы науки? – Я старался как-то утешить его. – Нынче они сродни интересам коммерции. Представь себе рекламочку: «Параллельное время! Все варианты будущего! Возвращение гарантировано». Нет уж, моделируйте сами. Не для этого я десять лет просидел в научном подполье. Я молчал. Энтони за стойкой листал журнал. Девушки, ужинавшие за портьерой, давно ушли. Какой-то пьяница, заглянувший с улицы, заиграл на губной гармошке – не песенку, не мелодию даже, просто гамму. Он повторял ее опять и опять, пока Энтони не закричал, что здесь не «Карнеги-холл», а драг-сода. Гамма умолкла. – Как-то великий Стоковский сравнил гамму с лесенкой, по которой взбирается звук-хамелеон, – сказал Лещицкий. – Пожалуй, я могу смоделировать ближайшие полчаса по шкале гаммы. Идет? – Лучше не надо, – попросил я. – Да и что может случиться в ближайшие полчаса? Он не ответил. Мы вышли молча: я – с тайным намерением отделаться от него поскорее, он – с непонятной суровостью, сомкнувшей его тонкие, почти бесцветные губы. Мистификатор или маньяк? Скорее последнее. Тихое помешательство, вероятно. Дождь настиг нас минут через десять, причем с такой свирепостью, что мы едва успели добежать до навеса над каменной лестницей, спускавшейся в полуподвальную овощную лавку. Лещицкий почему-то держал в руке свой псевдопортсигар в сиреневой оболочке, потом, словно спохватившись, снова убрал его. Мне показалось, что в нем что-то щелкнуло, а в пучке света от уличного фонаря косые струи дождя вдруг странно удвоились. РЕ Я взглянул на ручные часы – без пяти десять – и тотчас же по привычке приложил их к уху: идут. – И дождь идет, – глухо проговорил Лещицкий, – а такси нет. – Что-то есть, – сказал я, вглядываясь в дождливую мглу. Два снопа света пронзили ее из-за угла. Фары принадлежали автомобилю ярко-желтого цвета. – Эй! – крикнул я, высовываясь из-под навеса. – Сюда! – Это не такси, – сказал Лещицкий. Но автомобиль притормозил и медленно двинулся вдоль тротуара. Он не остановился, только чуть опустилось дверное стекло, и в образовавшейся щели на свету блеснуло черное вороненое дуло. – Ложись! – шепнул Лещицкий и рванул меня вниз. Но поздно. Две автоматные очереди оказались быстрее. Меня что-то сильно ударило в грудь и в плечо, опрокинув на камень. Лещицкий, странно перегнувшись, медленно оседал, словно сопротивлялись несгибавшиеся суставы. Последнее, что я увидел, было красное пенящееся пятно у него на лице вместо рта. Надо мной застучали по камню чьи-то подкованные железом каблуки. – Один еще жив, – сказал кто-то. – Все равно сдохнет. Я услышал звонкий плевок о камень. – А ведь это не те. – Ты думаешь? – Вижу. Сапог пнул меня ногой в голову. Боли я не почувствовал, только оборвалось что-то в мозгу. И снова чей-то голос: – Опять штучки Эльжбеты. – Темнит девчонка. – Давно темнит. – С нее бы и начать. – Поди скажи это Копецкому. Больше я ничего не слышал. Все погасло – и голоса, и свет. МИ Я открыл глаза и взглянул на часы: без пяти десять. Мы по-прежнему стояли на лестнице под навесом. – А дождь идет, – сказал Лещицкий, – и такси нет. – Перейдем на угол, – предложил я, – там тоже навес. – Зачем? – Скорее такси найдем. Там же поворот. – Иди. Я здесь останусь, – отказался Лещицкий. Я перебежал на противоположный угол улицы. Волосы и плащ сразу намокли. К тому же навес здесь был короче, и сухая полоска асфальта под ним еще меньше: косые струи дождя били уже по ногам. Я прижался спиной к двери какого-то магазина или квартиры и вдруг почувствовал, что она подается. Еще нажим – и я очутился за дверью в полной темноте. Протянул руку, – она уперлась во что-то теплое и мягкое. Я вскрикнул. – Тише! И осторожнее: вы мне чуть щеку не проткнули, – произнес кто-то шепотом, и невидимая рука подтолкнула меня вперед. – Дверь перед вами. Увидите свет, коридор. В конце комната. Он пока один. Как войдете… – Зачем? – перебил я. – Не бойтесь: он слепой, хотя стреляет метко, учтите. – Шепоток принадлежал женщине, лицо которой находилось где-то, рядом с моим. – Сыграйте с ним в шахматы, он это любит. И подождите меня: я скоро вернусь. Дверь на улице приоткрылась и снова захлопнулась, два раза щелкнув. Я потянул ее, она не поддалась, а щеколды я не нащупал. У меня с собой был карманный фонарик – я пользовался им в темных коридорах гостиницы: ее владелица экономила на электролампочках. Фонарик осветил темный тамбур и две двери – на улицу и внутрь помещения. Уличную, видимо, заперли на ключ, другая же распахнулась легко; я увидел коридор и свет в конце его, падавший из открытой комнаты. Стараясь не шуметь, я дошел до нее и остановился у входа. Человек в черной бархатной курточке, с длинными волосами, небрежно разбросанными, как у битлсов, тщательно вырезывал в раскрытой книге прямоугольное углубление. Его можно было принять за юношу, если б не тронутая сединой шевелюра и лучики морщинок у глаз. Сидел он против мощной электролампы, должно быть, в пятьсот или в тысячу ватт, и сидел так близко к ней, как не мог бы сидеть ни один человек с нормальным зрением. Но он был слеп. – Я открыл идеальный тайник, Эльжбета, – сказал он по-польски, не отрываясь от работы. – Все письма укладываются. Сейчас увидишь. Он взял пачку писем в продолговатых конвертах и вложил в искусственное углубление в книге. Потом смазал клеем соседние, не вырезанные страницы и закрыл письма. – Теперь встряхиваем. – Он тряхнул книгой, держа ее за переплетные крышки. – Ничто не выпадает, смотри. Никакой Пуаро не найдет. Я молчал и не двигался, не зная, что делать. – Почему молчишь? Эльжбета? – насторожился он и крикнул уже по-английски: – Кто здесь? Стоять на месте! Он швырнул книжку на стол и схватил, видимо, давно лежавший там пистолет, удлиненный глушителем. По тому, как он держал его и как точно направил в мою сторону, видно-было, что слепота нисколько не мешает ему в умении обращаться с оружием. – Малейшее движение – и я стреляю. Кто вы? – спрашивая, он стоял вполоборота ко мне; не смотрел, а слушал, как все слепые. Не отвечая, я тихо переставил ногу назад. Тотчас же щелкнул, именно щелкнул, а не прогремел выстрел. Пуля врезалась в штукатурку где-то у моего уха. – С ума сошел, – сказал я по-польски. – За что? – Поляк? Я так и думал, – ничуть не удивился он и не опустил пистолета. – Подойдите к столу и сядьте напротив. И не пытайтесь достать оружие: я услышу. Ну?! Проклиная себя за эту идиотскую авантюру, я подошел к столу и сел, развязно вытянув ноги. Дуло пистолета следовало за мной по той же орбите. Теперь оно смотрело мне в грудь; я бы мог схватить его, если бы не имел дело с сумасшедшим – так я мысленно окрестил своего визави. – От Копецкого? – спросил он резко. – Не знаю такого, – сказал я. – Тогда откуда? – Из Польши. – Давно? – С декабря прошлого года. Он свистнул. – Не врете? – Я бы мог показать вам документ, только ведь вы… – Я деликатно замялся. – Значит, коммунист? – перебил он. – Значит, – рассердился я. Меня уже начинал раздражать этот допрос. – Почему вы здесь? Я рассказал. – Почему-то я вам верю, – задумался он. – Но… вы видели тайник… Я мельком взглянул на книжку с барельефом Мицкевича на обложке. – И письма, – с угрозой прибавил он. – Плевал я на ваши письма! – совсем уже разозлился я. – Тогда подождем, когда за ними придут. Они обязательно придут. Должны. – Кто это «они»? – спросил я. – Тсс… – прошептал он и прислушался, как-то странно вытянув голову, совсем как Человек-Ухо из сказки Гримм. Я ничего не слышал: тишина, смешанная с шумом дождя за окном, окружала меня. – Кто-нибудь вошел? – спросил я. – Тсс… – опять остановил он меня. – Они еще не вошли. Они без машины. Сейчас открывают дверь своим ключом. Прошли тамбур. Идут. Все это он проговорил, почти беззвучно шевеля губами. Я услышал только слабый стук подкованных каблуков по коридору. 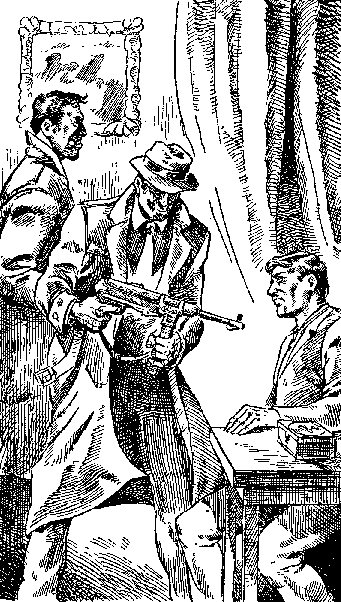 – Вы останетесь здесь, а я пройду за портьеру. Ни в коем случае не говорите им, где я. И не бойтесь: они не начнут со стрельбы – им нужны письма. Скажите, что они в шкатулке на диване. Хорошо? Я кивнул. Он легко и свободно, как зрячий, прошел за портьеру, наполовину перегораживавшую комнату в ее дальнем углу. Я остался сидеть в той же позе, ожидая самого худшего. Вошли двое в мокрых дождевиках с автоматами. Смятая фетровая шляпа у одного была надвинута глубоко на глаза, другой был черен, небрит, мокрые вихры его закручивались колечками. Он отряхивался, как вылезший из воды пес. – Где Жига? – спросили оба одновременно. Я понял теперь, почему слепой не удивился тому, что я поляк. Эти тоже были поляками. – Я жду его, – сказал я первое, что пришло в голову. Небритый оглянулся, скользнул глазами по комнате и вдруг дал короткую очередь из автомата по складкам портьеры. Я ожидал вскрика, стона, падения тела, но ничего не последовало. Тогда оба повернулись ко мне. «Конец», – подумал я и еле выговорил: – Вы за письмами? Они в шкатулке. – Где? Я показал на небольшой ящичек на диване. – Подойди и открой, – приказал небритый. Я подошел и дрожащими руками, уже не владея ими, открыл шкатулку. На дне ее белела стопочка продолговатых конвертов. Небритый оттолкнул меня автоматом и заглянул внутрь. – Здесь, – сказал он и ухмыльнулся. Больше он ничего не успел. Что-то несколько раз знакомо щелкнуло из-за портьеры, и почти одновременно грохнулись на пол и молчун в фетровой шляпе, и мой небритый собеседник. Я не помню, что стукнуло раньше, его затылок или выпавший из рук автомат. – Вот и все, – усмехнулся слепой, выходя из-за портьеры. Он тронул ногой одного, потом другого и отдернул ее, как купальщик, попробовавший, холодна ли вода. – А вы хорошо поработали и заслуживаете награды, – продолжал он, протягивая мне что-то похожее на большую медную монету. – Возьмите. Эта медалька при случае может вам пригодиться. Жил для отчизны, умер для славы, – засмеялся он и умолк, опять к чему-то прислушиваясь. И опять я ничего не услышал. – Приехали, – сказал он. – Это за мной. Вы мне не помогайте и не провожайте: я хожу здесь, как в темноте кошка. Выходите минуты через две после меня. Дверь я оставлю открытой. И не задерживайтесь. Встреча с полицией в таких случаях далеко не радость. Тем более, что вы иностранец и коммунист. Он взял со стола книгу с вклеенными в нее письмами и, не одеваясь, вышел из комнаты, нигде не замедлив шага. Ничто не скрипнуло в коридоре – ни пол, ни дверь. Он действительно ходил бесшумно, как кошка. Я подождал две минуты, рассматривая полученную медаль. Матовый кружок из бронзы с барельефом головы в лавровом венке, похожей на головы римских императоров. На оборотной стороне девушка в тунике водружала урну на украшенный постамент. Вокруг царственной головы вилась надпись латинскими буквами: IOZEF XIAZE PONIATOWSKI Вокруг девушки в тунике той же вязью завивались уже слышанные мною слова: ZYL DLA OYCZYZNY. UMARL DLA SLAWY Понятовский? Что я знал о нем? Наполеоновский маршал, племянник последнего короля, незаурядный военачальник и политический неудачник, так и не получивший от Наполеона заветной польской короны. Бонапарт обманул его, не восстановил Польши, и даже в наспех созданном им Великом герцогстве Варшавском Понятовский получил только военное министерство. Погиб он доблестно в одной из наполеоновских битв, забытый императором, трон под которым уже шатался. Не Бонапарт, а польские патриоты выбили тогда эту медаль: «Жил для отчизны, умер для славы». Кому-то из нынешних американских поляков, должно быть, очень нравился этот лозунг. Мне – нет. Неточный, без адреса. Почему только для славы? Для какой славы? У кого? Для славы умирали и недостойные, даже Герострат. Я внутренне усмехнулся пафосу Жиги, с каким он вручил мне эту медаль: интересно, когда и зачем она могла мне понадобиться? Я сунул ее в карман и, не оглядываясь на мертвых налетчиков, вышел из комнаты. Дверь на улицу, как и было условлено, поскрипывала на петлях, открытая настежь. Меня встретили безлюдная улица, плеск дождя на асфальте, желтый свет фонарей в алмазной дождевой сетке. Я перебежал под дождем к тому же навесу напротив, где стоял Лещицкий. Он и теперь стоял там же, всматриваясь в танец дождевых струй в пучке света. И мне опять показалось, что они раздвоились, как в глазах у человека, страдающего головокружениями. ФА Я тут же посмотрел на часы: без пяти десять. Чушь какая-то! Ведь у Жиги я пробыл верных полчаса. Может, часы забарахлили? Я снова приложил их к уху: нет, шли. – И дождь идет, – так же, не глядя на меня, проговорил Лещицкий, – а такси нет. – Вон оно, пошли, – сказал я и шагнул навстречу вынырнувшему из темноты такси. – Поезжайте без меня, – решительно отказался Лещицкий, – не люблю желтых машин. Убеждать его я не стал, сел рядом с шофером, назвал адрес. Вольному воля, пусть остается, если хочется мокнуть. Потом я пожалел, что не узнал его адреса: занятный все-таки человек. Но я тут же забыл об этом: в кабине было светло и жарко, быстрая езда убаюкивала, мысли путались. Я постарался вспомнить, что произошло со мной до встречи с Жигой, и не мог. Кто-то стрелял или где-то стреляли. Может быть, об этом рассказывал Лещицкий, а я забыл? Кажется, он действительно о чем-то рассказывал. О чем? Что-то случилось с памятью, какой-то провал, вакуум, муть. Я помню только происшедшее четверть часа назад. Двух человек убил Жига из-за портьеры. У меня на глазах. А я как ни в чем не бывало – даже сердце не дрогнуло – перешагнул и ушел. Странно только то, что часы как показывали без пяти десять, так и остановились. Да не остановились же, шли! Я посмотрел на циферблат: десять. Неужели только пять минут прошло? Я обратился к водителю: – Сколько на ваших? Спросил по рассеянности по-польски, но вместо естественного «что, что?» услышал обрадованное: «Пся кошць! Земляк!» Усталое, потное лицо его сияло доброй улыбкой. Она обнажала розовые десны и выбитые зубы, только по краям торчали два гнилых корешка. Однако он был совсем не стар, этот широкоскулый крепыш в рубашке-расписухе: лет тридцать семь – сорок, не больше. Мы уже подъезжали к моей гостинице, как он вдруг затормозил и подрулил к тротуару: – Надо же потрепаться, в кои-то веки земляка встретил. Тоже эмигрант? – Нет, – сказал я, – недавно приехал. – Откуда? – Из Польши. Он сразу остыл, улыбка погасла, и в ответ я услышал уже нечто совсем неопределенное: – Бывает, конечно. – А ты почему не на родине? – в свою очередь, спросил я. – Кому я там нужен без пользы? – Шоферы везде нужны. Он покрутил ладонями, широкими, как лопаты, и опять засиял: – Я и в армии шофером был. – В какой армии? – «В какой, в какой»! – повторил он с вызовом. – В нашей. Из России до Тегерана, туда-сюда, шатало-мотало, из-под Монтекассино сутки на брюхе полз… «Червоны маки на Монтекассино…» – зло пропел он и сплюнул в окошко. – А теперь опять баранку кручу. Маюсь по малости. – Так подавай заявление, вернешься, – сказал я. Он не спрашивал меня о нынешней Польше – это я сразу заметил. Либо он был вполне удовлетворен тем, что знал о ней, либо это его просто не интересовало. – Кому я там нужен без пользы? – повторил он. – Вот найду кое-что. Так и другая цена мне будет. Что здесь, что там. Только бы найти, а уж кто-то из наших прячет определенно. – Письма, что ли? – спросил я легкомысленно. Он весь подобрался, как кошка перед прыжком. – А что ты знаешь о письмах? – Одни прячут их, другие ищут. Смешно, – сказал я и прибавил: – Кончай треп, приехали. Давай к углу. – Закурить есть? – спросил он хрипло. Мы закурили. – Так земляки не прощаются, – заметил он укоризненно. – Есть тут одно местечко. Недалеко. Слетаем? Я вспомнил насмешки Лещицкого над моей осторожностью и безрассудно кивнул: – Слетаем. Он газанул. Рванулись навстречу темные массивы домов без реклам – на окраине даже в таких городах темновато. Я закрыл глаза, не пытаясь узнавать улиц. Не все ли равно, какое это «местечко», и не все ли равно где. В конце концов машина остановилась у бара с потухшей вывеской. «Почему потухла? Не знаю. Перегорело что-нибудь, – равнодушно отмахнулся водитель, вылезая из машины. – Внутри света хватит», – прибавил он. Внутри света действительно хватало, потому что сквозь мутное, немытое стекло витрины отчетливо виднелась высокая стойка с бутылками, электроплитой и никелированным баком. На оконном стекле в углу было написано от руки черной краской: «Мариам Жубер. Кава, хербата, домове частка».[1] Бар был закрыт; мой шофер долго стучал в стекло двери, и его кто-то долго разглядывал изнутри. Потом щелкнул замок, и дверь открылась. В крохотном пространстве перед стойкой стояло несколько пустых столиков, должно быть никем не занимавшихся с прошлой недели, потому что их черные пластмассовые доски от пыли стали серыми. Единственный посетитель бара почти лежал животом на стойке и сосал что-то мутное из бокала, болтая с буфетчицей. Сначала я не обратил на нее внимания: обыкновенная девушка из кафетерия, с модной прической и подкрашенными бровями и веками. Здесь их штампуют, наверно, на какой-нибудь фабрике. Но уже минуту спустя меня заинтересовали ее глаза. Необыкновенные глаза. Умные и насмешливые, они то вспыхивали, то погасали, и даже цвет их, казалось, менялся по прихоти их владелицы. У ее собеседника то и дело кривился рот, и от этого дергался шрам на левой щеке. Я уже пожалел, что поехал. – Поздно, Янек, – упрекнула девушка за стойкой, – мы уже не работаем. Но мой водитель по-хозяйски кивнул мне на пыльный столик, что-то шепнул красивой буфетчице, перенес ко мне бокалы с виски и сифон с содовой и, взяв под руку криворотого, ушел с ним за стойку, где виднелся спуск в освещенный подвал. – Тоже поляк? – спросила девушка, равнодушно оглядев мой старый плащ и мокрые волосы. Я засмеялся. – Сейчас вы спросите, давно ли я из Польши. – Зачем? Мне это безразлично. Она отвернулась. А ко мне уже подсели Янек со своим спутником: Янек – рядом, криворотый – напротив. – Янек сказал, что тебе известно что-то о письмах, – начал он. – Выкладывай, что знаешь. – Я пишу только в «Трибуна люду», – сказал я. – Нашел чем пугать. Мы в сорок пятом из таких зразы делали. 1, 2 |
|||||||