 |
|
Популярные авторы:: Кларк Артур Чарльз :: Чехов Антон Павлович :: Горький Максим :: Joyce James :: Борхес Хорхе Луис :: Толстой Лев Николаевич :: Азимов Айзек :: Фармер Филип Хосе :: Уэйс Маргарет :: Лондон Джек Популярные книги:: The Boarding House :: Подземная Москва :: Бурый волк :: Единственный способ :: Справочник по реестру Windows XP :: Чужое :: Алчность и слава Уолл-Стрит :: Операция «Мэйфлауэр» :: Движущая сила :: Земной свет |
Библиотека советской фантастики (Изд-во Молодая гвардия) - Инстинкт? (сборник)ModernLib.Net / Гансовский Север Феликсович / Инстинкт? (сборник) - Чтение (стр. 3)
— Их нельзя сохранять! Вы что? — Блондин смотрел на меня со страхом.
— Подождите! Я, кажется, понимаю. — Крепыш шагнул ко мне. — А вы не оттуда?… Не с края? На всякий случай я неопределенно пожал плечами. — Извините наше любопытство, — вмешалась девушка. — Говорят, раньше с края приходили многие. По человеку в год или два. А в последние двадцать лет никого. (Значит, кроме города, здесь еще какой-то «край».) — Как вы устроились с жильем? — спросил блондин. — Хотя теперь свободных помещений много. — Повернулся к крепышу. — Крдж, пошли. Шеф подпишет и сразу в набор. Мы сейчас вернемся. Девушка кивнула мне. Трое вышли и стали подниматься по лестнице. …Я выглянул на улицу. Пусто. Для ускорения пути выпрыгнул в окно и в глубокой задумчивости побрел проспектом. 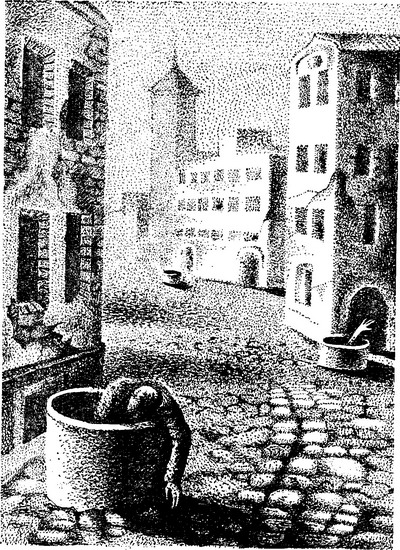 Полуденная жара загнала жителей в дома. Немногие прохожие стали представляться мне замаскированными муравьями. Гигантскими, которые под мягкой белой кожей скрывают трехчленное, покрытое твердым хитином тело, голову со жвалами-рогами, три пары растущих из груди тонких длинных ножек. И девушка тоже. (Содрогнулся, отгоняя фантастическое видение.) Но ведь правда! Все население города-муравейника, побуждаемое слепым инстинктом, ни для чего сбегается на площадь, в разных залах музея смотрит одну и ту же картину, перечитывает вечно одну и ту же газету, без выбора питается одинаковой пищей. Так же, как обитатели муравьиной кучи обязательно убивают попавшего к ним по ошибке чужака, так и крестьяне, едва услыхав, что я не иакат, набросились на меня. В энтомологии я слаб, даже не сумею с первого взгляда отличить ручейника от златоглазки. Но если о муравьях, то понятие трофаллаксиса мне знакомо, и для меня нет загадки, чем же объясняется ежедневная без выходных усердная деятельность каждого насекомого, направленная на обеспечение нужд муравейника. Если, спрашивал я себя, система поведения, передаваемая генами от одного поколения к другому, позволила нашим крошечным земным мурашам овладеть такими изощренными формами активности, как, скажем, выращивание и даже выведение определенного сорта грибов, чем хуже здешние существа?… Почему бы им, пользующимся преимуществом «человекоподобия», то есть высоким ростом (значит, хорошим обзором окружающего мира), ненужными им для передвижения (следовательно, освобожденными для работы) передними конечностями и всем прочим, что на Земле отличает внешний облик людей от животных, не дойти именно инстинктивнодо выплавки и обработки металлов (отсюда тракторы), до издания газеты, и, наконец, сочинения стихов, всегда одинаковых, так как инстинкт — постоянно одни и те же реакции на неизменные требования?… Между тем небо над городом постепенно делалось из зеленоватого голубым, поднялся легкий ветерок, воздух посвежел. Мысли мои приняли новое направление — вероятно, оттого, что хотелось как-то примирить себя с девушкой. С другой стороны, думал я, так уж ли много мы, человеки, отличаемся от муравьев? Поведение насекомого, у которого отсутствуют ум и заранее намеченная цель, есть лишь серия готовых ответов на бомбардировку раздражителями из внешней среды: светом, температурой, запахом, вкусом пищи и тому подобным. Ну а для людей среда разве является нейтральным пространством, где развивайся как хочешь? Неужели она не образует нас?… Как и у животных, наше поведение создается и поддерживается его же (поведения) последствиями. Либо положительным, либо наоборот. Первые ободряют нас двигаться по избранному пути, вторые остерегают. Потому что важно не только то, какова была среда до нашей реакции, но и какой она стала послетого, как мы что-то сделали. Богомол, напавший на жука-бомбардира, временно ослеплен горячей жидкостью, извергнутой из брюшка предполагаемой жертвы, и, по всей вероятности, научится другой раз к бомбардиру не соваться. Когда балованный аспирант-позвоночник выступит на кафедре против испытанных практикой мнений заслуженно уважаемого ученого, реакция специалистов заставит его призадуматься. Если оба будут продолжать, как начали, первому вообще не жить, а второй в дальнейшей карьере столкнется с трудностями. То есть среда именно создает, избирает нас — человека и насекомое — для продолжения предпринятой деятельности, одних пропуская, других отсеивая. Тут я почувствовал, что желание внутренне породниться с девушкой-«поэтессой», которую я и увидеть-то еще хоть раз не предполагал, заводит меня далеко, к мысли о полной несамостоятельности человека. Взялся с другого конца. Да, муравьиное сообщество процветает на Земле, потому что маленькие слабые нервные системы сотен тысяч его членов складываются в одну большую мощную благодаря непрерывному обмену химическими сигналами через пищу. Муравьи постоянно облизывают друг друга, делятся содержимым своих желудков, образуя единый организм, способный на такое, что не по плечу ни муравью-одиночке, ни даже в миллион раз превышающему его размером и силами крупному животному. Однако не так ли у людей? Сравнение города с муравейником банально в литературном смысле, но истинно социологически. Каждый из нас, людей, обладает лишь ничтожной долей знаний, умений и сил, чтобы на современном уровне прокормить себя, одеть, построить, отопить и осветить жилище, вылечиться в случае болезни, выучиться, развлечься, создать семью, вырастить детей, добраться за двадцать или миллиард километров до места своей работы и вернуться обратно. Все, и великое и мельчайшее, создано тем же трофаллаксисом, то есть обменом, осуществляемым через многочисленные инфраструктуры связи, транспорта, распространения и хранения информации (даже выращивания ее — компьютер) банковского дела — государственного и частного, — которое только и способно аккумулировать необходимые средства для создания мощного агропромышленного комплекса. Причем речь идет не только о достижениях в сферах науки, производства, искусства, но также политики, дипломатии, осуществивших в конце последнего столетия переход к новому мышлению, что позволило человечеству, кроме всего прочего, выйти к звездам. Короче говоря, человек значим лишь как частица человечества. А раз так, не грозит ли и нам судьба общественных насекомых, застывших после некоего рубежа на месте? Отдельный муравей (в отличие, скажем, от носорога или медведя) пожертвовал индивидуальностью ради нужд многочисленной семьи. Но постоянное усложнение общечеловеческой экономики может в конце концов привести к тому, что личность станет все меньше значить в сравнении с ролью человека как составной части общественного механизма. Тогда остановка, деградация. Станем похожи на иакатов, в свою очередь напоминающих муравьев, чья жизнь скучна и может разнообразиться лишь катастрофами — наводнение, пожар, нападение врагов. Вообще долгие полеты в одиночестве приучают к размышлениям глобального масштаба. И тут парадокс. Заниматься большими проблемами означает брать на себя риск больших ошибок. Не размышлять — погрязать в невежестве… Вдали я увидел море, сегодня не буро-зеленое, как обычно (собственно, как вчера), а синее. Оно утеряло облик мелкой спокойной лужи, стало глубиной, простором, величием. На горизонте белела светлая полоса волнения, какую я тут впервые видел. Прибавил шагу. Мысли опять возвратились к местным странностям. А машина?! Та, что бормочет, хлюпает в трубах. Кем создана — не этими же вялыми посетителями столовой. Вступил на пляж. Из-за ветра, может быть, он был совсем пуст. Сел. Смотрю на морской горизонт, так напоминающий Землю. Сзади быстрые шаги. Вскакиваю, оборачиваюсь. Учащенно дыша, рядом стоит девушка. Одна. — Что случилось?… Мы вас обидели? — Э-э-э… м-м-м… Нет, конечно. — Но вы сразу ушли. Я с третьего этажа видела вас на улице. Ни минуты не подождали. Я сказал: — Давайте выкупаемся. Умеете плавать? Она с готовностью кивнула. — Тогда на остров. — Это вырвалось у меня как-то само собой. — Куда? — На остров. Этот. — Какой? Где? — Она быстро оглядела горизонт, как-то при этом промахнув остров. — Вы шутите. Не знаю здесь никакого острова. И никто. Бог ты мой! Значит, она тоже не видит, на миг даже сам засомневался — вдруг мой индивидуальный мираж. — Ну просто поплаваем. — С удовольствием. Отойдя чуть в сторону и тем заставив меня отвернуться, девушка быстро скинула куртку, туфли, юбку. Когда я глянул на нее — в легком купальнике, — мои масштабные мысли моментально улетучились. Вообще все мысли. — Поплывем прямо. Одежду возьмем с собой. А то как бы не унесло ветром. Ремнем я связал в небольшой сверток ее костюм и свои пожитки. Девушка сначала плыла со мной вровень, потом стала отставать, хотя, действуя одной рукой и ногами, я отнюдь не торопился. Подождал, чтобы нагнала, предложил положить руку мне на плечо. Помедлив, она послушалась. Мы были уже в последней трети пути. Впереди на пляже я уже различал изогнутые параллельные полоски нанесенных морем и высохших водорослей. Но девушка не видела острова. Проплыли еще метров сорок. Она с тревогой оглянулась. — Хватит у нас сил вернуться? — Конечно. Вы не работайте ногами. Только едва-едва. До суши было уже рукой подать. Вдвоем одновременно мы коснулись ногами дна. Девушка убрала руку с моего плеча. — Отмель. Как замечательно. Давайте постоим. — Повернулась к линии города. — Как далеко отплыли. С такого расстояния никогда не смотрела на Иакату. Даже немножко страшно. Постояли. Я предложил: — Пойдемте вперед по отмели. Смерим, большая ли. Сделали еще несколько шагов. Вода была теперь по грудь. Ближний большой валун едва не нависал над нами. Я взял одежду в другую руку, чтобы помочь девушке, если что. Еще по шагу. Дно стало круто подниматься. Вдруг побледнев, она остановилась, закрыла лицо руками и с отчаянным криком упала спиной в воду. Я был наготове, тотчас подхватил ее. — Что со мной? Откуда это? — Успокойтесь. — Легонько обнял ее за плечи. — Вы увидели остров. Я тоже его вижу. Всегда здесь был и есть. Это какой-то психологический феномен, что вы его не замечали. — Только не уходите. Побудьте со мной. — Не отпуская рук от лица, прижалась ко мне. — Вдруг я с ума схожу. — Я бы и подумал, что сошли с ума, если б решили, что я сейчас вас оставлю. Да ни за что! Успокойтесь. Перед вами остров. Вы же сами чувствуете дно под ногами, и оно идет наверх. Откройте глаза. Не надо так дрожать. (Она действительно вся дрожала.) Ну, решайтесь. Пальцами она скользнула по моей физиономии, по шее, груди. — Да, вы здесь. Это не бред. Повернулась к острову, постояла, опустив глаза. Потом длинные ресницы, не знавшие косметики, медленно поднялись. Сначала она смотрела на воду, потом на пляж. Сделала неуверенный шаг, еще два. Ступила на песок, огляделась. — Как это может быть? Не снится? Я бросил на берег узел с одеждой, нагнулся, брызнул на девушку водой. Она отскочила, засмеялась. — Слушайте, действительно правда. Вот камни, песок. — Подошла к валуну, погладила его шершавую изъеденную поверхность. — Как мы могли его не видеть? Завертелась на месте, затанцевала, затем, сразу став серьезной, подошла ко мне. — Это самое сильное переживание в моей жизни. Такого больше не будет. Потом мы сидели на берегу напротив города. Ветер усилился, проливом пошла небольшая волна. Девушка все пересыпала и пересыпала песок из горсти в горсть — руки с длинными пальцами запомнились, словно кадр фильма. Пошли осматривать открытую нами территорию. Остров оказался больше того, каким Представлялся мне с городского пляжа. Поднялись на небольшое плато, спустились в долину — все камень и камень. Вдали увидели зелень, заторопились. Перед нами рощица деревьев — таких же, что в городе на проспекте. Урожай яблок хоть куда. Между стволами все усыпано паданцами. Но ни одной травинки. — Жуг, — удивилась девушка. — И какой сильный. Сорвал с дерева яблочко, откусил. Она бросилась ко мне. — Умоляю вас, выплюньте! Это же идет туда. — Куда? — Ну, туда. В трубу. Выплюньте. — Задумалась. — Правда, те, которые приходили с края, тоже ели. Но нам нельзя. Обязательно надо вниз. Мы едим только в столовых. Ничего такого, что само растет. — Отчего так? — Отчего вы, например, дышите? Оттого что без этого невозможно. Другого объяснения у меня нет. — Вьюра… Она перебила меня. — Понимаю. Вам известно, что сырой жуг можно употреблять в пищу. А я ошибаюсь, как было с островом. Вы вообще обладаете более высоким знанием. Поэтому я должна вас слушать. Рядом с вами открываются возможности. И это важнее, чем опасность, которая может оказаться мнимой. Значит, мне нужно попробовать. Здорово это было сформулировано. Ее способность четко мыслить и точно выражать то, что она думает, поразила меня с первых минут знакомства и потом все время подтверждалась. Сначала решил, что этому способствует обстановка редакции — в таких заведениях умеют разговаривать. Но, с другой стороны, что это за редакция — карикатура. Девушка сорвала яблочко, откусила. Миновали заросль жуга. И здесь на песке я увидел цепочку человеческих следов. Пальцем поманил к себе девушку. — Удивительно, — прошептала она. — Никто же не видит острова. Вернулись к яблонькам. Я завел ее в густо заросшее место. — Будьте здесь и никуда не выходите. Я скоро вернусь. Если поблизости кто-нибудь появится, спрячьтесь получше. А сейчас прислушаемся. Помолчали. Кругом полная тишина. Кивнул девушке, стал осторожно обходить долину. След вел в ущелье, заваленное камнями. Оно расширилось, я остановился. Передо мной место, нередко посещаемое. Под скалой куча сухих водорослей, тут же круг закопченного песка, холмик золы. У камня груда тряпья, немытая сковородка с остатками пищи, огрызки жуга. Попробовал золу рукой — теплая. Ущелье открывалось на западный берег острова. Город теперь был слева. Вдруг увидел мужчину. Метрах в тридцати от меня он рассматривал, держа за лямки, что-то вроде пояса. Один из тех двоих, что преследовали меня ночью. Не староста, а другой — длинный. — Я его знаю. Оглянулся. Рядом Вьюра. — Окликнуть? — Она шагнула было вперед. Не совсем вежливо я ее удержал. — Но это же Глгл! Почему не позвать? — А почему он не рассказал про остров нам? И всему городу? — Да, действительно. — Она понизила голос. — Он, между прочим, известный человек. Иногда на недели уходит в пустыню поститься. В столовых всегда ест очень мало. Чуть-чуть. Его уважают. — За отсутствие аппетита? Она посмотрела на меня. — В городе все так похожи один на другого, а он выделяется. Всегда готов помочь. Бывает, у кого-то пропала вещь. Если обратиться к Глглу, он может сказать, где она. Даже — в какой срок потерявший ее найдет. Мне этого не понять. Мужчина тем временем завязывал вокруг груди пояс. Спасательный. — Очень полезная способность, — согласился я. — Не для того, конечно, кто потерял вещь. Для Глгла. — Чем она ему полезна? За свои советы он ничего не просит. И не получает. Глгл тем временем влез в воду и поплыл. — Кроме уважения, — сказал я. И прибавил, что сам мог бы так «указывать», да и она сама могла бы. Объяснил, что поскольку двери тут не запираются, можно ночью войти в дом, унести, например, куртку и спрятать здесь, на острове. Потом, когда потерявший придет с просьбой помочь, надо принять особую позу, показать сосредоточенность мысли и пообещать, что вещь найдется, допустим, через три дня. После этого только и остается, что ее подкинуть в нужный момент. Она выслушала меня с явным неудовольствием. — Глгл не принимает поз. — Значит, — сказал я, — он умнее, чем я думал. Теперь мы уже шли от берега, и она вдруг остановилась. — Вы еще более странный человек, чем Глгл. Скажите, вы не обидите меня? Не сделаете со мной что-нибудь страшное? Я вдруг испугалась. — Меня? — Я отступил на шаг. Сам внезапно заметил, что впал в какой-то холодно-высокомерный тон. — Вьюра, клянусь вам, нет. И совсем я не странный. Просто, как и Глгл, вижу то, что не каждый видит. Но теперь и вы прозрели. Вас удивляет мое знание некоторых вещей, вам незнакомых. Но тем, что мне известно, я готов поделиться с вами и всеми горожанами. Моя горячая речь ее успокоила. Пошагали обратно, остановились у «стоянки» Глгла. — Тут грязно. — Она передернула плечами. — А это что? — Показала на кучу золы. — Был костер. Мы тоже можем развести. Найдем подходящее место, посидим. — Костер?… Огонь?… Что-то такое я слышала. Ничего себе — и огонь им неизвестен! Хотя зачем, если они все получают готовым? Огонь Вьюру поразил. Устроились на берегу в затиши между скал. Груду водорослей поджег зажигалкой — девушка и внимания на нее не обратила, поглощенная видом внезапно взвившегося пламени. А я-то насчет зажигалки задумался — газ на исходе. И нож девушку заинтересовал. Он у меня большой — чуть ли не ятаган. Когда-то сам выточил лезвие из вакуумной стали, сделал широкую, на плотный обхват рукоять. Заточка «на клин», сам без усилий входит в дуб, черное дерево, алюминий. Вьюра спросила, что это такое. Хотел объяснить, что оружие, но сообразил, что этого слова на иакатском не знаю, так как оно не попало в составленный в нашем НИИ словарь… Пошел на берег за топливом. …А государство? В городе — сам убедился — ни законодательной, ни исполнительной власти, вообще никаких руководящих органов. Этакие фанатичные работяги — иакаты. То поле тяпкой рыхлить жаждут, то мусор убирать. Когда-то раньше захотели воздвигать дома, стелить мостовую. Загадочная картина. Один, видите ли, неудержимо стремится резать ленту заготовленной глины на отдельные куски, которые после обжига кирпичами станут. Другого хлебом не корми, дай только стену сложить, третьему вынь да положь возможность насладиться оштукатуриванием. Он, конечно, прекрасен, трудовой энтузиазм. Но ведь без того, чтобы у кого-то в голове был алгоритм строительства, — не город, только куча мусора. И машина, перерабатывающая все, погружаемое в трубы. Тем более не создашь без осенившей кого-то общей идеи, конструкторских разработок, подготовленной технической документации, точного плана работ. Кто изготовил?… Что связывает иакатов в единую систему? Хлопнул себя по лбу. Как же раньше не догадался? Питание здесь только в столовых, абсолютный запрет есть на стороне. Даже крестьяне, у которых зерно под носом, едят привезенные хлебцы. Значит, тем или иным способом в кашеобразную массу вводятся особые вещества. Одному внушают желание окучивать анлах, другому — красить вывески. Я и сам, наедаясь в столовых, уже приобщился. Вот она связь, направляющая усилия горожан куда надо. При этом некоторые, почему-то видящие все, как староста или Глгл, тайно добывают для себя запрещенную свежую пищу и, не пользуясь столовыми, избавлены от диктуемых букуном повинностей. Наконец кому-то еще в раннем детстве попадает редкий наверняка гормон, который делает его поэтом, редактором либо художником. Опять пришел к идее муравейника. …Вернулся под скалу. Девушка у костра. Как бы ласкает огонь, гладит его, водя руками над пламенем. Подкладывает тоненькие палочки, улыбается, глядя, как быстро они сгорают. Повернула толстую, еще сырую внутри плеть. Та крякнула, девушка испугалась, а потом смеется. Поворошила костер и, отскочив от полыхнувшего пламени, хлопает в ладоши. «Весела, как котенок у печки». Увидела новую кучу водорослей, упрекнула взглядом — почему, мол, не позвал на помощь. А пролив между городом и островом тем временем вспух, чуть ли не горбом встал — катят полутораметровые волны. Будь я один, и не заметил бы, как на том берегу очутился, а если вдвоем, то вдвоем и утонем. Объяснил девушке положение. — Ничего. — Беззаботно махнула рукой. — Переждем. Ночью статью сочиню, рано утром стихотво… Вдруг замолчала, как-то отчужденно глядя на меня, отвернулась, подошла к скале, прижалась лбом. — Что с вами? — Ужасно. — Она говорила в камень. — Что-то сверкнуло. Длинный ряд моих стихотворений, и все одинаковые. Кто же мы такие — наша редакция и читатели? Вдруг все население города — больные. Открываются страшные вещи. — Например, остров? — Да, хотя бы! Жуток час, когда человек узнает такое. Мир должен быть тверд. А сейчас падают опоры. Ни с того ни с сего явился остров. Что дальше будет?… Перестаю верить окружающему. Все зашаталось, как жить? — Не мучайтесь насчет стихов, Вьюра. У нас и не такое бывало. — Где? — На краю. Человек может считать себя… — Перестаньте! Даже слушать не хочу. Какой «край»? Там люди совсем одичали. Может быть, уже вообще вымерли. Вы обманываете меня. Или иначе толкуете слово «край», что все равно сводится ко лжи. Вам же известно, как я его понимаю. — С края, с края, — заверил я. — Но с другого. Там жизнь лучше, интереснее. Но оттуда к вам трудно добраться. Поэтому у меня такой измученный вид. — Не измученный. Бы худой, но все равно гораздо уверенней, энергичнее, чем все мы тут. — Она шагнула ко мне. — Откуда вы, признайтесь. Может быть, вылезли из-под земли, где машина? Может быть, мы здесь все — результат какого-то страшного опыта, социального эксперимента?… И вообще это гнусно, когда один из собеседников что-то скрывает. Говорит, говорит, но останавливается у черты. Будто он достоин знать нечто важное, а тому, кто рядом, не полагается. Первого это делает самовлюбленным эгоистом, второго унижает. Опять я ею восхитился. Все-таки это редакция, которая ее образовала. Так ловко не каждый определит суть эзотерического, лишь для избранных оберегаемого знания. — Хорошо, — сказал я. — Вы все узнаете. Но каким бы странным ни показалось вам услышанное, не забывайте, что с вами говорит друг. Я попал сюда случайно, почувствовал, здесь что-то не так. Злой цели у меня нет. То, что я вам расскажу, будет праздником. Узнаете много хорошего, сильного. А главное, люди здесь поймут, что они неизмеримо лучше того, что сами о себе думали. — Правда? — Она вдруг улыбнулась. (Ей были свойственны быстрые переходы настроения.) — Тогда давайте у костра. Начал рассказывать. И, знаете, увлекся. Ее глаза… Да и вообще из такой дали родное всегда кажется красивее, чем на самом деле. Отец моего отца, ну, дед то есть, был участником боев под Ленинградом. Морская пехота. В феврале сорок первого он лежал в госпитале на Лесном. Получилось, что в большой палате дед — конечно, молодой тогда — оказался единственным ленинградцем. Остальные из других краев России и Союза мобилизованными или списанными с кораблей Балтийского флота сразу попали под Ораниенбаум, на Невскую Дубровку, оттуда с фронта блокадной зимой в госпиталь и не знали, даже просто не видели великого города на Неве, который защищали. За стенами никем не убираемый снег поднялся до первых этажей, на темных вечерних и ночных улицах пусто, только женщина — жена, влечет, шатаясь, на саночках умершего мужа — лишь бы подальше от дома, куда-нибудь в чужую подворотню, чтобы самой не увидеть, когда за пайкой хлеба, — да чей-то семилетний ребенок, последний в семье, еще имеющий силы, плетется с бидончиком воды, поднятой из проруби где-нибудь на Малой Невке. Только на заводах теплятся огни. Подвешенные на веревках, чтобы не упасть, рабочие у станков. В госпитале мороз, по коридорам, занесенным снегом, трупы упавших и умерших. В палате с инеем подернутыми стенами, освещенной крошечным огоньком коптилки, дед долгими ночными часами повествовал об одном из великолепнейших полисов мира. Из тьмы и холода другой Ленинград вставал перед слушателями. В гранитных набережных раскидывалась блещущим простором Нева, каменные сфинксы и львы смотрели на нее, ажурные мостики повисли над каналами, воздвиглись белоколонные дворцы, конными статуями полководцев стояла на площадях слава наших веков, птицы щебетали в старинных парках, украшенных мраморными фигурами нимф, в переполненных театрах звучали монологи замечательных артистов, на сцену бывшей «Мариинки» Дудинская выпархивала летящим танцем, а на Невском проспекте, блистающем витринами бесчисленных магазинов, тротуары заполняла толпа, где каждая девушка — красавица. В палате слушали затаив дыхание. Особенно о девушках удивительной прелести — ведь раненым было по девятнадцать-двадцать. Конечно, в довоенном Ленинграде не все было гладко. Но дед этим пренебрег. И я у костра на острове тоже не стал про войны, угнетение, голод. Полностью опустил современные внутрисоюзные, общечеловеческие, внеземные проблемы. Не информацию Вьюре дал — оду спел Земле и членам Галактической Лиги. Стемнело. Стих ветер, успокаивалось волнение, догорел костер. Девушка лежала теперь на спине, глядя в небо. — Значит, там населенные планеты, огромные города, театры, стадионы, оркестры, библиотеки, да?… Между звездами ваши станции, пути, по которым летят сигналы, движутся корабли. И все это над нами, под нами. Выходит, что мы окружены, не свободны, не можем поступать, как хотим? — А не зная этого, вы были свободны? — Не знаю… И вообще это ужас, что мы такие. — Помрачнела, затем вдруг улыбнулась. — Или, может быть, наоборот, прекрасно, что теперь мы узнаем, и будет чего хотеть. — Одним гибким движением она, не касаясь песка руками, встала. — Вот вопрос: почему у вас жизнь, а у нас тоска? — Трудно ответить. — Я задумался. — Это еще надо понять. — Ну все-таки? Я помедлил, затем спросил, известны ли ей такие понятия, как «разум», «инстинкт» и различие между ними. Дело в том, что я-то знал звучание этих слов на иакатском, но не был уверен, что девушка настолько осведомлена в родном языке. Материал, записанный модулем, резко делился на две части — пожалуй, мне надо было сказать об этом раньше. Во-первых, обычная речь иакатов. Простые и понятные разговоры о простых и понятных вещах: обедал — не обедал, общие знакомые, погода. Словарь чрезвычайно беден и вовсе лишен универсалий. Могут сказать «голубой», но слово «голубизна» отсутствует. Есть «справедливый», но понятия «справедливость» в этой части записей нет. Так же, как и «разум», «мысль». Причем универсалии отсутствуют не только в качестве обобщений жизненного опыта, но и как оценочные категории, показывающие различие между идеалом и данным явлением, говорящие о несовершенстве жизни. Иными словами, ограниченный, нищий язык людей, всем вокруг довольных, не только не ждущих перемен, но и не желающих. Такова одна часть записей. Но РМ в течение полумесяца облетал планету и зафиксировал второй языковый пласт, записанный с того же места на Иакате. Здесь текста было гораздо меньше, но расшифровать его оказалось нелегко. То не было общение двух или нескольких собеседников. Кто-то монотонно читал вслух короткие отрывки из книг или других записей, знакомя с ними второго наката. Никакого обсуждения. Пауза — и новый отрывок, чаще всего не связанный с тем, что читалось раньше. Иногда то были отрывки одного какого-то труда, иногда разных. Целый ряд фраз и абзацев, имеющих, видимо, отношение к технике и точным наукам, как физика, биология, вообще не удалось расшифровать и понять. Легче справились с гуманитарными — с философией, историей, социологией. Но маленькие выдержки не давали общего представления ни о прошлом, ни о настоящем Иакаты. Лишь дважды модуль записал названия тех трудов, откуда читалось. Одно было «Последние цветы», и речь там шла об исчезающих цветах. Второе — «Бессилие математики», из которого я запомнил целый отрывок. «Мозг существует как материальный объект в физическом пространстве, а разум нет. Загадка, как они соединены, решается…» Нам тоже было бы интересно узнать, как она решается, но тут чтец отложил в сторону «Бессилие» и взялся за другой опус. Вообще читалось только по две-три фразы. Но язык здесь был бесконечно богаче уличного. Оттуда и попали в составленные в институте иакатско-русский и русско-иакатский словари абстрактные понятия. Общаясь полсуток с Вьюрой, я убедился, что ей известен целый ряд терминов этой второй части записей. Некоторые она имела в активе и кстати пускала в ход. Тогда ночью она не тотчас ответила на мой вопрос об инстинкте и разуме. Вообще стала грустна и невнимательна. — Инстинкт?… Что-то такое я слышала. — Заложенная в генах система поведения, — пояснил я. — Животные, то есть не люди, в основном руководствуются инстинктом, не разумом. А человек наоборот. У, меня впечатление, что какая-то часть деятельности иакатского человечества — причем более значительная, чем на Земле, — обеспечивается как раз требованиями инстинкта. — А чем человек отличается?… Нет, подождите, сама вспомню… Человек что-то изготовил и тем, что у него получилось, изготовляет следующее. А нелюдь не может. Это последнее существительное получалось у нее с ударением на втором слоге. Не как у нас ругательное «нелюдь», а мягкое, даже ласковое «нелюдь», вызывающее в воображении маленького покрытого шерстью грациозного зверька. — Да, — согласился я. — Человек изготовляет орудия труда и пользуется ими. Самые блистательные или, во всяком случае, наиболее удобные для обозрения наши успехи — техника. Однако животные тоже находят в природе какие-то орудия и употребляют их для удовлетворения своих нужд. Но то, что более всего отличает человека от животного, лежит не в материальной, а в духовной сфере. Разум. Далее я заговорил о том, что человеку свойственны свобода воли и свобода выбора, очень важная способность различать добро и зло, которая, хотя люди могут по-разному понимать и то и другое, все-таки присутствует в каждом нашем решении. О том, что человеку присуще желание увидеть смысл и логику в окружающей его действительности, объяснить себе мир в целом, ощутить его гармонию, понять самого себя и свое место во Вселенной. Прибавил к этому, что сама проблема смысла жизни, волнующая человека, говорит о его попытках проникнуть за пределы того опыта, какой дает нам наше сравнительно краткое существование, что наши духовные идеалы превосходят средний уровень наших же обычных переживаний, что порой мы осознаем себя участниками таких ситуаций, которые выше, шире познанного нами материального мира и не могут быть целиком различимы за время нашего индивидуального проживания на земле. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
|||||||||