 |
|
Популярные авторы:: БСЭ :: Аддамс Петтер :: Борхес Хорхе Луис :: Желязны Роджер :: Азимов Айзек :: Раззаков Федор :: Нортон Андрэ :: Толстой Лев Николаевич :: Ломер Кит :: Говард Роберт Ирвин Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: Кошмар номер четыре :: Смесь бульдога с носорогом :: 1-е МАРТА 1917 года :: Идет розыск [Полный вариант] :: Опыт предпринимателя :: Чинк :: Галактика страха 4: Машина ночных кошмаров :: Выбор Наместницы :: Поющая девушка |
Дорога на СтрельнуModernLib.Net / Детские приключения / Аль Даниил Натанович / Дорога на Стрельну - Чтение (стр. 14)
Сведения об этом случае могут просочиться к противнику, пропаганда которого не преминет ими воспользоваться для расписывания положения на Ленинградском фронте… Впрочем, черт с ним, с противником! Чего только не набрешут фашистские агитаторы! У нас-то как на все это посмотрят?! Помимо моего донесения, напишут и другие. Уже что-то было написано. Правда, без знания подлинного существа дела. Но все-таки… Такая история наверняка дойдёт и до Москвы, до Верховного Главнокомандования! Мне было ясно, что командование армии, учитывая эти соображения, не допустит в отношении капитана Федотова никакого либерализма. Кто бы ни был инициатором подачи заявлений — лично он или кто-нибудь из его подчинённых, скажем, боец Л. Маньков, — командир роты в ответе за все, что происходит в его подразделении. Да и вообще, капитан Федотов — прямой участник и сбора заявлений — сам написал одно из них, — и под его руководством сооружался этот небывалый бруствер… Между тем ночное затишье кончилось. Противник начал миномётный обстрел. Мины рвались где-то позади землянки. Послышалась и перебранка пулемётов. Глухо, тяжело кашлял издалека немецкий МГ. Наш станковый заливался долгими очередями, напоминавшими звук деревянной трещотки на морозе. Плащ-палатка над входом зашевелилась. В землянку вошёл Федотов. — Вот и началось, — сказал он. — Каждый день в одно и то же время. По часам воюют господа фашисты. Пофрюштыкали, напились эрзац-кофе — и за работу. 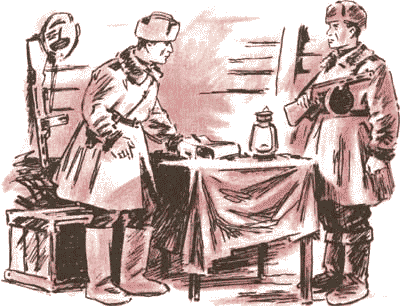 Федотов подошёл к столу. Мне показалось, что глаза его потеплели. Да и голос звучал не так сердито. Он, видимо, понимал, что, ознакомившись с заявлениями, лежавшими передо мной, и уяснив себе истинное положение вещей, я не останусь при прежних подозрениях и недоверии к нему. — Многое прояснилось, товарищ капитан. Все же я должен задать вам несколько вопросов. Садитесь. Федотов сел. — Спрашивайте, о чем хотите, — сказал он. — Мне скрывать нечего. Мы взглянули друг другу в глаза. Вопрос, который я должен был задать Федотову, застрял у меня в горле. Я не мог, не мог обратиться к нему с таким вопросом. Федотов прочитал мои мысли. — Знаю, о чем хотите спросить: на скольких человек получаем довольствие — на всех, кто числится в строю, или только на живых? Ерунда все это. Кто-то слыхал звон, да издалека… Очевидно, кто-то из тех, кто на передовую боится сунуться… Так вот, ни одного пайка и ни одного разу на тех, кто выбыл в медсанбат или туда, — Федотов махнул головой в сторону передовой, — получено не было. В ДОП[3] каждый раз точные строевые шли… Можете проверить. — Вы правы, капитан. Спросить об этом я обязан… И проверить придётся… Не потому, что я вам не верю… Вам нельзя не верить… Не знаю, какая сволочь что-то там накатала… Я хочу документально засвидетельствовать, что все у вас чисто. — Да разве бы мы стали класть на роту такое пятно! — воскликнул Федотов. — Из-за лишней пайки пачкать память погибших товарищей?! У нас к их памяти отношение священное. Ведь и бойца того я почему наказал? Не потому вовсе, что он насчёт вас усмехался. А потому, что веселиться возле братской могилы нельзя… Только вчера на том самом месте мы положили в оборону политрука нашего… Да что говорить, почти половина роты там лежит… Закурить разрешите? — Федотов нервным движением надорвал уголок пачки «Норда» и протянул мне. — Спасибо. — Я взял тоненькую папиросу-«гвоздик». Закурив от моей зажигалки и поблагодарив лёгким кивком головы, Федотов сказал: — Спрашивайте ещё, товарищ подполковник. Времени у нас в обрез. Скоро большой концерт начнётся. Утренник, так сказать. — Да, да, поспешим. Объясните, пожалуйста, в чем военный смысл укрепления бруствера телами погибших людей? — Главное укрепление не в том, что пуля такой бруствер не пробивает. Главное в укреплении духа живых бойцов. Рубеж, который обороняешь вместе с погибшим другом, разве оставишь?! Твой друг с тобой отойти не сможет. И такое у каждого из нас чувство, что живы они, наши товарищи. И ещё такое чувство, что смерти в бою не будет. Кто как был здесь в роте, так в ней и останется… Вот что главное. — Федотов крепко затянулся и закашлялся. — А в общем, судите, если заслужил. Только я вместе с ними, которые в бруствере лежат, на суд приду. Меня от них отделить никак невозможно. Капитан замолчал и уставился в пол. Помолчал и я. Хотелось как-то душевно откликнуться на его слова. Хотелось успокоить и ободрить этого хорошего человека. Но я так и не решился это сделать. Побоялся, что не сумею высказаться по-человечески просто, без привычной службистской оглядки. Скоро мне пришлось раскаяться в том, что я не сказал капитану Федотову тех слов, которые он заслужил услышать. Но в тот момент я прервал молчание очередным вопросом. — И последнее, капитан. Командир полка и командир дивизии знают правду о ваших потерях и о характере укрепления вашего рубежа? Ответа Федотова мне услышать не удалось. От близкого разрыва тяжёлого снаряда землянка сильно качнулась. Сверху нам на головы посыпалась какая-то мёрзлая дрянь. Жердь, упавшая с потолка, сбросила со стола фонарь. Стало темно, как в погребе. Снаружи один за другим, то дальше, то снова рядом, стали рваться новые и новые снаряды. Я выхватил из кармана фонарик и при его свете увидел Федотова, надевавшего каску. — Уходите, товарищ подполковник! Уходите! Незачем вам тут оставаться. На артподготовку похоже! — С этими словами он выбежал из землянки. Подняв фонарь, который, по счастью, не разбился, я зажёг его и кинулся собирать разлетевшиеся по полу заявления. Глухой топот снарядов, ударявших в землю, треск близких разрывов, вой и свист осколков, проносившихся в разные стороны над хлипким покрытием землянки, — все сливалось в сплошную свистопляску звуков, жуткую и отупляющую. О том, чтобы сейчас, в разгар артподготовки, обрушившейся на этот участок обороны, куда-то двигаться, не могло быть и речи. Да и здесь, в землянке, я мог погибнуть каждую минуту. «Написать донесение! Хотя бы кратко, но чтобы все было понятно, — пронеслось в моей голове. — Это мой долг перед капитаном Федотовым, перед его славными товарищами». Известно, что листок бумаги на войне часто переживает человека, которому он принадлежал. «Только бы успеть. Только бы успеть написать!» Я сел к столу, обхватил левой рукой бачок фонаря, готового снова прыгнуть со стола, подсунул под донце крышку блокнота и стал писать донесение. Кратко изложив главное из того, что мне удалось выяснить в роте капитана Федотова, я в конце донесения написал: «Считаю долгом сообщить своё личное мнение о результатах проверки. Капитан Федотов, все бойцы и командиры его роты проявили себя мужественными и надёжными защитниками Ленинграда. В момент, когда пишется это донесение, рота отражает атаки противника, перешедшего в наступление». Перед тем как покинуть землянку, я положил собранные с полу заявления обратно в железный ящик Федотова. Написанные теми, кто погиб раньше, и теми, кто ещё сегодня утром был жив, смешались и лежали теперь в единой пачке. Мысль о символическом значении этого их соединения едва промелькнула тогда в моей голове. Она вернулась ко мне позже, когда времени для воспоминаний и всякого рода размышлений у меня оказалось более чем достаточно… Внезапно звуки разрывов разом ушли куда-то вдаль. Землянку перестало трясти. Противник перенёс огонь дальше, в наш тыл. Именно сейчас немцы должны были ринуться в атаку на позиции роты и её ближайших соседей. Именно сейчас, не мешкая ни минуты, мне следовало пробираться в тыл. Где ползком, где перебежками от воронки к воронке. Сначала надо было добраться до штаба полка, до телефона. Возможно, уже оттуда я сумею связаться со штабом армии и передать донесение. Впрочем, сомнительно, что в такой момент мне удастся поговорить с армией по полковой связи. Так или иначе, надо было спешить к ходу сообщения. В конце его меня ждала штабная машина. Путь предстоял долгий и опасный. Донесение я положил в нагрудный карман. Если меня найдут убитым — а меня наверняка будут разыскивать, — осмотрят нагрудный карман под сердцем. Моё донесение, хотя и с опозданием, дойдёт до штаба армии. Тут мне вдруг показалось нестерпимо постыдным уходить отсюда. Уходить в момент боя с позиции, которую вместе с живыми защищают даже мёртвые бойцы. Я представил себе, как, уползая в тыл, буду встречать тех, кто спешит к передовой, волоча ящики с патронами, доставляя приказы из батальона или полка… Мне, отползающему назад, будут встречаться женщины с санитарными сумками. Они будут спешить сюда, к передовой… Наши пулемёты заработали с удвоенным усердием. Значит, враг пошёл в атаку. Надо было уходить не медля. Я кинулся к выходу из землянки, отдёрнул плащ-палатку и столкнулся нос к носу с запыхавшимся бойцом. Это был тот самый Манойло, которого я час назад избавил от наказания. — Товарищ подполковник! — закричал Манойло так громко, словно все ещё находился в открытом поле. — Товарищ подполковник, капитана убило! Командование ротой принял комвзвода-один. Велено вам доложить, как старшему начальнику… А немцы прут — сила! — Передайте командиру взвода, что командование ротой я принимаю на себя. Сейчас буду на позиции, — сказал я. Боец выбежал из землянки. Быстро возвратившись к столу, я выдрал из блокнота лист бумаги и написал: Командиру роты В случае моей гибели прошу положить моё тело в бруствер, над нашим окопом, лицом к врагу, в полной форме советского офицера, рядом с капитаном Федотовым. Я положил своё заявление в железный ящик и выбежал из землянки. * * * Чем кончилась эта история? Кончилась она, надо сказать, довольно неожиданно. Был я в бою тяжело ранен и контужен. Долгое время находился в беспамятстве. Очнулся в госпитале, в Ленинграде. Оказалось, что привезли меня сюда из медсанбата больше трех недель тому назад. Документов со мною не было прислано никаких. В госпитале не знали ни моей фамилии, ни кто я вообще такой. За три недели никто меня не разыскивал, не наводил справок, которые могли бы обратить внимание на безымянного раненого. Я сообщил врачам и медсёстрам своё имя и фамилию. О своём звании и бывшей должности я умолчал. О соображениях, которые заставили меня поступить таким образом, сейчас расскажу. Днём в палате, где я лежал, обычно царило оживление. Раненые говорили в основном о прорыве блокады в районе Шлиссельбурга. Большинство из моих соседей по палате были участниками этого великого события. Рассказы об эпизодах сражения на Неве не умолкали с утра до позднего вечера. То и дело слышались наименования «Левый берег», «Восьмая ГЭС», «Шлиссельбург», «Пятый посёлок»… Люди с подвешенными ногами, с загипсованными «самолётиком» руками, с замотанными бинтом головами забывали о своих страданиях, вновь и вновь переносясь воображением туда — на невский лёд, в развалины Шлиссельбурга, на высокие берега Ладожского канала, в дымный смерч боя… В гости к раненым часто приходили ленинградцы. Нам приносили подарки, письма от незнакомых людей. Иногда прямо в палате для лежачих выступали артисты — читали нам стихи, пели, играли на аккордеоне, на гитаре… Все это очень скрашивало наши дни… К ночи разговоры в палате затихали. Тускло светили синие лампочки под потолком. Слышались храп и сонное бормотание. Время от времени кто-нибудь испуганно вскрикивал. Раздавались стоны. Днём бодрствующая воля обычно удерживала людей от стонов. Да и сама боль в шуме дневных разговоров и всевозможных дел — еда, процедуры, перевязки — немного отпускала. Во сне раненые стонали часто, иногда плакали. Я почти не спал по ночам. Мучила незаживающая рана под правой ключицей. В рукопашной схватке фашист вонзил в меня зазубренный клинок штыка. Когда я был контужен, я не помнил… Где-то позже, близким разрывом снаряда, когда лежал на снегу уже без сознания. Куда сильнее, чем боль, меня донимали в ночные часы мрачные мысли. Часами размышлял о том, что ждёт меня впереди. Случайно ли то, что обо мне забыли, что меня никто не пытался разыскивать? Документов при мне не было уже в медсанбате. Кто-то вынул их из моего нагрудного кармана. Скорее всего ещё там, на поле боя. Они, вероятно, были доставлены в штаб армии. Вместе с ними туда должно было попасть и донесение. Заявление моё, положенное в железный ящик капитана Федотова, возможно, тоже оказалось там… Каким же образом должны были оценить моё поведение? Факт тот, что я не выполнил приказ — не доставил лично донесение, которого ожидало командование армии и сам командующий фронтом. Не доставил не потому, что не дошёл до штаба, а потому, что и не пошёл туда… Итак, меня нашли, взяли мои документы, а меня самого отправили в медсанбат. До этого места все в моей судьбе было для меня ясным. Но почему я, подполковник, порученец штаба армии, лежу не в офицерской палате? Ведь и без документов, по погонам в медсанбате должны были видеть, что я принадлежу к командному составу. Тем не менее, а лучше сказать — несмотря на это, я прибыл в госпиталь рядовым? Так, может быть, меня не забыли, а разжаловали приказом командарма или даже командующего фронтом? Это было очень похоже на правду. А если это так, ограничится ли наказание разжалованием, или будет следствие, трибунал? В этом случае, если я к тому же буду годен к службе, меня ждёт штрафная рота. А если не буду годен — тюрьма. Шутка ли сказать, невыполнение приказа в боевой обстановке! Я сам не мог теперь толком объяснить себе, что толкнуло меня тогда принимать командование ротой, вместо того чтобы немедленно возвращаться в штаб армии. Разве там, на передовой, не обошлись бы без меня? В конце концов, рота имела связь с командиром батальона. Тот был связан с командиром полка. Да и командование дивизии уже наверняка знало о начавшемся наступлении противника… Другое дело, если бы я увидел, что в роте началась паника, что только моё вмешательство может предотвратить оставление ею рубежа и прорыв фашистов в глубь нашей обороны. Тогда, разумеется, я был бы обязан поступить так, как поступил. Но ничего подобного не происходило. Ни один боец и не помышлял об уходе с позиции. Командир 1-го взвода, младший лейтенант, принявший командование после гибели Федотова, хорошо знал свои обязанности. Он знал лично всех оставшихся в живых бойцов роты, знал расположение огневых средств… Да что говорить, он был дома. Я же был человек пришлый, знакомившийся с ротой в ходе боя. Получалось, что никакой необходимости в моем вмешательстве не было. Взять на себя командование ротой меня толкнули одни лишь эмоции… Долгими, нескончаемыми ночами, лёжа на спине, уставившись в холодную и такую равнодушную синюю лампочку, я все думал и думал. Я представлял себе, как буду держать ответ за свои действия, обдумывал, что сказать в своё оправдание. И каждый раз вместо каких-либо убедительных доводов в свою пользу я повторял одно и то же: «Иначе я поступить не мог». Фраза эта опять же ничего, кроме эмоций, не содержала. Но что другое мог я сказать в своё оправдание? Ничего. Ровно ничего. Снова и снова вспоминал я подробности боя, который рота вела под моим командованием. Когда я появился на передовой, одна атака фашистов была уже отбита. В расположении противника показались танки. Они остановились на краю болота. На фоне зари цепочка танков чернела, будто стая волков, готовых броситься на добычу. Однако по болоту, хотя и промёрзшему, танки двигаться не решились и били по нам из пушек. «Непорядок, — сказал стоявший со мной рядом пожилой боец. — Немцам на западе от нас положено быть. А они восточнее нас, русских, оказались… Непорядок это, чтобы немец нам восход солнца заслонял», — добавил он, покачав головой. Маленькие, но злые снаряды танковых пушек нанесли нам чувствительный урон. В двух местах разворотило бруствер. Был разбит пулемёт. Снова были убитые и раненые… Но неподвижный танк, к тому же высвеченный солнцем, и сам хорошая мишень для артиллеристов. Две вражеские машины загорелись. Остальные поспешно укатили назад. Вторую атаку немецкой пехоты мы отбивали, имея в строю всего двадцать бойцов. Я приказал встретить набегавших гитлеровцев слабым огнём, подпустить поближе, на расстояние броска гранаты. Когда фашисты приблизились, мы прижали их к земле пулемётами. Гранаты подняли их с земли и обратили в бегство. Тогда пулемёты заговорили снова… Упорству противника не приходилось удивляться. Выдвинувшаяся вперёд рота мешала атакам фашистов на соседние участки. Как только немцы приближались к рубежу обороны нашего правого или левого соседа, мы оказывались у них на фланге, даже немного с тыла, и наши станковые пулемёты истребляли фашистских солдат. Соответственно и мы были хорошо защищены с флангов огнём соседних подразделений. Атаковать нас фашисты могли только в лоб. Теперь я убедился в правоте капитана Федотова, решившего любой ценой удерживать свою позицию. Третью атаку мы встречали всего чёртовой дюжиной. Оружия у нас, правда, было немало. Я организовал челночное обслуживание пулемётов. Первые номера, дав по нескольку очередей из своих пулемётов, бежали к соседнему. Вторыми номерами были раненые, способные помогать пулемётчикам при стрельбе. Но силы были теперь слишком неравными. Волна атаки докатилась до нашего бруствера. Хорошо помню, что в тот момент я не подавал никаких команд. Да они и не были нужны. Никто не дрогнул, не оглянулся назад. Каждый, в ком была хоть капля жизни, вступил в рукопашную схватку. В коротком бою я был ранен штыком под ключицу. Падая, я услышал крики. Негромкие, нестройные… Все же я различил — кричат «ура!». Из тыла подходило подкрепление… О том, что враг на этом участке не прорвался и был тогда отброшен, я мог судить по тому, что меня подобрали наши. Чаще всего я вспоминал своих товарищей по службе в штабе армии. Почему все они так дружно отвернулись от меня? Ну, хорошо, я виноват и готов понести наказание. Но в данный момент я все-таки тяжело раненный человек. Ведь даже суд над преступником не может состояться, если обвиняемый болен. Смертная казнь откладывается, если у приговорённого повышена температура… Особенно часто я вспоминал нашего начальника штаба. Генерал всегда хорошо, я бы сказал — тепло ко мне относился. И вот такое ледяное пренебрежение. «Впрочем, — отвечал я себе на этот вопрос, — его-то я больше всех подвёл. Вероятно, он имел из-за меня крупные неприятности. Кто знает, быть может, командующий фронтом так-таки обозвал его бездельником и отстранил от должности?..» Чего только не взбредёт на ум, когда лежишь на госпитальной койке! Медленно тянулись дни, несмотря на посещения ленинградцев, несмотря на концерты артистов и пионеров. Ещё медленнее тянулись ночи. * * * Как-то раз, измученный ночной бессонницей, я после завтрака и врачебного обхода забылся глубоким сном. Вначале сон был каким-то мутным. Потом стал проясняться. Я неподвижно лежу на койке. Тело моё до подбородка укрыто белой простыней. Я умер. Глаза мои закрыты, но я слышу знакомые голоса и отчётливо представляю себе зрительно все, что происходит. Вокруг койки толпятся мои товарищи по палате. Здесь и начальник госпиталя, и врачи, и медсёстры… Здесь и генерал — начальник штаба армии. Возле него стоит адъютант… Идёт гражданская панихида. Генерал говорит надо мной речь… Рассказывает о моей работе в штабе. Само собой, нахваливает покойника… Вот заговорили о роте капитана Федотова. И я понимаю: моё донесение дошло до штаба армии… А вот и самое главное. Тут меня охватывает страх: вдруг исчезнет мой сохранившийся пока слух и я не сумею дослушать… «Навстречу подходившему подкреплению полз раненый боец, — говорил генерал. — Манойло его фамилия была. Он передал завёрнутые в тряпку донесения, документы и погоны офицеров, командовавших ротой… Вот такой факт, товарищи… Командование наградило всех бойцов роты посмертно орденами Красной Звезды. Командира роты капитана Федотова и принявшего на себя командование подполковника Зеленцова наградили посмертно орденами Красного Знамени». «Как?! — думаю я. — Капитана Федотова и меня?! Несправедливо! Он и его бойцы — настоящие герои. А я? Что с того, что я в последний момент положил и своё заявление в железный ящик Федотова? Что с того, что я пошёл в бой вместе с остатками его роты и сражался честно, до конца? Разве я сам не зачеркнул эти свои поступки?! Сколько раз бессонными ночами я раскаивался в том, что написал тогда своё заявление, и даже в том, что принял командование ротой…» — Неверно! Неверно это! — кричу я и открываю глаза. — Никак проснулся чудо-богатырь! — радостно восклицает генерал. — Ну, здравствуй, Зеленцов, здравствуй, дорогой! — Он нагнулся и крепко меня поцеловал. Раненые, столпившиеся вокруг, разом заговорили, зашумели. Послышались поздравления… Генерал взял из рук адъютанта красную коробочку. — Его наградили, а он кричит «неверно!», — сказал генерал, обращаясь к собравшимся. — Приказы командования не обсуждают! Сам должен это знать! Слова его вызвали дружный смех. — Ты что же, Зеленцов, — обратился ко мне генерал, — в прятки решил играть? Почему о себе ничего не сообщил? Мы же тебя и в самом деле похоронили. Вот поправишься — сходим на твою могилку, по рюмочке на ней выпьем. Раненые, стоявшие возле меня и лежавшие на койках, снова рассмеялись. — Ну, вот что, — сказал генерал уже серьёзно. — Давай поправляйся и сразу ко мне в штаб, на прежнее место. — Спасибо, товарищ генерал. За все спасибо… Только прошу меня перевести на строевую должность. Хотя бы на роту. А прежняя не по мне… Не подхожу я к ней… Генерал нахмурился. — Все штучки, штучки интеллигентские, — сказал он сердито. — А нельзя ли, доктор, — повернулся он к начальнику госпиталя, — вкатить ему перед выпиской в энское место хороший укол? Такой, чтобы сразу человеком стал… Ну и шляпа! Ладно, — закончил он, переждав новый взрыв смеха, — твоё дело — поправляться. Придёшь в штаб — там посмотрим, что с тобой делать… * * * Вот, собственно, и вся история. На прежнюю свою должность я все-таки не вернулся. Командовал полком. Потом был начальником штаба дивизии… После войны демобилизовался. По состоянию здоровья.  ШЕСТОЕ ЧУВСТВО  Было у меня поначалу, как и положено нашему бойцу, пять чувств. Чувство любви к родине. Чувство воинского долга. Чувство товарищества и взаимной выручки. Чувство дисциплины и сознательности. Ну, и, само собой понятно, чувство уверенности в победе. Однако по мере хода войны выросло во мне, вполне естественно, и шестое чувство, а именно — чувство мести. Объяснять тут вроде бы без надобности. Достаточно сказать, что родом я из-под Ленинграда и всю блокаду прослужил на Ленинградском фронте. Так что навидался всего сверх нормы. Да к этому если прибавить собственные мои переживания и страдания — и в смысле пайка, который в ту первую зиму был, и в смысле ранения своего как первого, так и второго… Да если ещё при этом вспомнить, какие пришлось видеть на нашей земле зверские «художества» со стороны агрессоров, тогда, наверное, полностью будет очевидно, с каким именно сердцем двигался я в сторону Германии. Прямо скажу: ожесточён был до крайности. Ну, и, конечно, одна была мечта — добраться живым до Берлина, до самого ихнего фашистского логова, чтобы там, на месте, за все с них со всех и спросить. До Берлина я дошёл. Не иначе, сама судьба меня туда привела. Проще говоря, повезло мне: был я в третий раз ранен. Поэтому немного не доходя Восточной Пруссии оказался в госпитале. Сперва-то я, конечно, приуныл. Пропал, думаю. Свою часть не догонишь. Войска вон как быстро идут. Без меня теперь и война кончится. Но как выяснилось потом, такие мысли могли появиться исключительно по моему незнанию планов Верховного Главнокомандования. Оказалось, буквально на другой день после моего ранения весь наш Ленинградский фронт был от Германии повёрнут на север, в Курляндию. Там он и провоевал до самого конца войны. И даже ещё день после этого. В результате я остался на направлении главного удара и после выписки попал на другой фронт, на 1-й Белорусский. В новой части прижился неплохо. И бойцы ко мне отнеслись с уважением, и офицеры. Как-никак трижды ранен и медаль «За оборону Ленинграда» имею. А замполит той роты, куда меня определили, лейтенант товарищ Самотесов, прямо перед строем про меня сказал: «Вот, товарищи бойцы, к нам влился новый воин, сержант Тимохин. Он воюет с фашистами с начала войны, трижды ранен, является защитником города Ленина. К тому же, — говорит, — товарищ Тимохин и возрастом своим сорокалетним солиднее многих из вас. Я, — говорит, — не сомневаюсь, что он и здесь себя покажет». После таких сказанных про меня слов я, само собой, воевал неплохо, старался всегда быть впереди. Долго ли, коротко ли, но вот наконец и он, Берлин. Вот наконец и я в нем, Тимохин Иван Алексеевич, житель деревни Ситенка под Ленинградом. Врываюсь это я вместе с танками и со своими товарищами по роте в пригород… и временно застреваю, ибо тут начинается страшный и упорный штурм ихней столицы. Бывало, целый день бьёмся за одну улицу, чтобы её из конца в конец пройти, чтобы изо всех домов фашистов повыкурить. Потом за вторую завязывается бой. Потом за третью… Все боевые порядки наши слились в одну силу. Тут и мы, пехота, с угла на угол перебегаем да по этажам домов мечемся. Тут и танки бьют по огневым точкам в домах. Тут же, прямо на мостовой, наши пушки тяжёлые стоят, куда-то вдаль лупят, по центру города… Такой огонь, такой грохот, что голоса человеческого услышать совсем невозможно. Дым и пыль кирпичная глаза застилают. Порой и вообще ничего перед собой увидеть нельзя. Бой идёт день и ночь, круглые сутки. И так суток двенадцать. Спрашивается, как это может быть, чтобы столько времени бесперебойно длился бой? Отвечаю: очень просто. Воевали посменно. Одна рота днём, а другая в ночную смену выходила. У тех, которые отдыхают, тоже время до отказа заполнено: сон и политзанятия. Скажу прямо: политзанятий в те дни стали среди бойцов проводить очень много. Не знаю, везде ли так было, но наш замполит, лейтенант Самотесов, начал тогда очень политзанятиями увлекаться. Одно такое занятие провёл он в квартире, где у нас произошло ЧП. По мнению замполита, конечно. А было так. Дом тот брали с бою. Из каких-то окон вдоль по улице гитлеровцы очередями стегали. Стали мы их искать. Один наш боец, Кунин Михаил, в квартиру эту и влетел с автоматом. А там семья немецкая к стенке жмётся. Немка-мать двух немчат к себе прижала, и немец пожилой, дед вроде бы ихний, рядом стоит, белую салфетку в руках держит. Тут Мишка Кунин с ходу из автомата как даст крест-накрест очередь по большому ихнему зеркалу. Звон, осколки, плач… На ту беду замполит Самотесов в эту же квартиру заскакивает… Не успел для нашей смены наступить отбой, как сразу же и назначается взводу политзанятие. Сидим в квартире. Кто на стульях, кто на полу возле стен, осколки стекла отмели в сторону. Посмотрел я на наших ребят — бог ты мой! На чертей все, как один, похожи. Каждый в пыли кирпичной с головы до ног. Пот у всех из-под касок течёт. У которых, конечно, голова не забинтована. Лица у всех чёрные от всяческой копоти. И только глаза как сквозь маску светятся. Так вот, замполит товарищ Самотесов садится на стул к обеденному немецкому столу и начинает своё занятие словами из кинофильма «Чапаев»: — Как же это понимать, товарищи бойцы? В ответ все, само собой, молчат, поскольку никто вообще не понимает, о чем речь идёт. — Хорошо, — говорит лейтенант Самотесов, — если вы молчите, то я буду говорить. Вот полюбуйтесь на это бывшее зеркало. Это боец Кунин его из автомата уничтожил. А зачем, спрашивается? Что это, огневая точка или вооружённый враг? В эти дни, — говорит, — в Германии миллионы наших бойцов. Если каждый начнёт по зеркалам стрелять, так что же это будет? Отвечайте, — говорит, — боец Кунин, зачем вы это сделали. Вернее, он сказал не «сделали», а «совершили». Мишка встал, голову опустил и молчит. Насупился, задышал весьма слышно, но молчит. — Я вас, товарищ Кунин, спрашиваю, — допытывается замполит. — Разве вам не известно, что Красная Армия пришла в Берлин, чтобы покончить с фашистским зверем, а не для того, чтобы учинять здесь безрассудные поступки над мирными людьми и над их имуществом? — Известно, — отвечает Мишка тихо. — А сам по-прежнему в пол смотрит и продолжает молчать. Тогда замполит говорит: — Я оцениваю ваш поступок, товарищ Кунин, как недопустимый. Мне, — говорит, — не зеркала жалко — в огне войны и не то ещё погибает, и не то ещё уничтожается. Мне жалко вашу дисциплину и сознательность. Жалко наших прежних политзанятий, на которых мы обо всем об этом останавливались не раз и не два. И я, — говорит, — хочу на этом примере… И пошёл тут замполит повторять все, что он нам и раньше говорил и с чем я с самого начала был согласен не полностью. На этот раз я и вовсе захотел с ним поспорить и почувствовал, что мне не утерпеть. А с другой стороны, как замполиту возражать? Он ведь как-никак лейтенант, а я всего лишь младший командир, то есть старший сержант. В качестве последнего я пример дисциплины другим бойцам обязан показывать. Тем более молодому пополнению. Однако, как солдат опытный, я, конечно, знал, какой из этакого положения есть выход. Возражать ты не должен, а не понимать можешь, сколько тебе угодно. И тут уж замполит обязан тебе все неустанно разъяснять. Закончил лейтенант свои слова и спрашивает: — Вам все понятно, товарищи бойцы? И тут я встаю и говорю: — Мне, товарищ замполит, не все понятно. Мне, — говорю, — совершенно непонятно, почему вы так оценили поступок бойца Михаила Кунина — моего друга. — Ах, вот как, — говорит лейтенант Самотесов, — тогда скажите, старший сержант Тимохин, как же вы сами оцениваете его поступок. А мы послушаем. — Моё мнение, — говорю, — такое, что боец Кунин поступил вполне хорошо. А мог бы поступить ещё хуже. И все равно его нельзя было бы даже в том случае наказывать. Ни позором, ни тем более ещё как-нибудь. — Вот это интересно, товарищ Тимохин, — говорит замполит. — Доложите подробнее. — А подробнее, — говорю, — вот что: у бойца Михаила Кунина в деревне фашист застрелил из автомата сестру с двумя детьми и старика отца, тут же стоявшего. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
|||||||